Сканирование: Янко
Слава (библиотека Fort/Da) slavaaa@online.ru || yanko_slava@yahoo.com
|| http://yanko.lib.ru
|| зеркало: http://members.fortunecity.com/slavaaa/ya.html
|| http://yankos.chat.ru/ya.html
| Icq# 75088656 update 02.08.02
Михаил Ямпольский
ДЕМОН И ЛАБИРИНТ
(Диаграммы, деформации, мимесис)

Новое литературное обозрение
Москва, 1996
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. VII
Редактор выпуска
С. Зенкин
Адрес редакции: 129626,
Москва, И-626, а/я 55 тел. (095) 194-99-70
Художник Нина Пескова
ISBN 5-86793-010-6ISSN-0869
© М. Ямпольский, 1996 © Новое
литературное обозрение, 1996
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
...............................................................................................
4
Г л а в а 1. КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ
............18
Г л а в а 2. КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: РИЛЬКЕ .................. 52
Г л а в а 3.
ЛАБИРИНТ.................................................................. 82
Г л а в а 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ: РАЗЛИЧИЕ И ПОВТОРЕНИЕ... 117
Г л а в а 5. ЧУЖОЙ
ГОЛОС, ЧУЖОЕ ЛИЦО ......................... 171
Г л а в а 6. МАСКА, АНАМОРФОЗА И МОНСТР ................ 207
Г л а в а 7. ЛИЦО-МАСКА И ЛИЦО-МАШИНА ................ 253
Г л а в а 8. ТАНЕЦ И МИМЕСИС.................................................
277
ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................
306
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Антонен Арто.
Страдания 'dubbing'a'................................. 310
2. Хорхе Луис Борхес. По поводу дубляжа..................................
312
Использованная литература....................................
314
Амброс
Бирс. 'Случай на мосту через Совиный ручей'
Глава
1. КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ
Глава
2. КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: РИЛЬКЕ
1.
Высокий тощий субъект в черном пальто...
2.
Членораздельность и 'детерриториализация'
Глава
4. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ: РАЗЛИЧИЕ И ПОВТОРЕНИЕ
Глава
5. ЧУЖОЙ ГОЛОС, ЧУЖОЕ ЛИЦО
Глава
6. МАСКА, АНАМОРФОЗА И МОНСТР
1. Фреска из виллы мистерий. Помпеи.
2. Леонардо да Винчи. Рисунок
водного потока, встречающего препятствие. Виндзор.
3. Леонардо да Винчи. Сердце
и легкое. Виндзор.
4.
Леонардо да Винчи. Гротескные головы. Виндзор.
5.
Винчи. Дять голов. Виндзор.
6.
А. Бенуа. Восковой портрет Людовика XIV. 1706. Версаль
7.
X. Трёшель (по рисунку С. Вуэ) Format illustrat, ок. 1625
8.
Б -К. Растрелли Голова Медузы Маскарон Марлинского каскада, 1723.
9.
Б -К Растрелли Нептун, 1723
10.
Б. - К. Растрелли. Нептун Цилиндрический рельеф, 1719.
11.
Иллюстрация к трактату Герарда Блазия 'Anatome contracta'. Амстердам, 1666.
12. Д. Хопфер. Женщина, смерть и дьявол.
13. М. Бетгини. Глаз кардинала Колонны, 1642.
14. Б.-К. Растрелли. Лягушка. Большой каскад в Петергофе.
15.
К. Бертен. Человек, превращающийся в лягушку. Фонтан Латоны. Версаль.
1687-1691.
16. Ребенок с лягушачьим
лицом. Иллюстрация
к книге А. Паре 'О чудовищах и чудесах', 1573.
17. Деталь надгробия Франсуа
де ла Сарра. Ла
Сарраз, Швейцария, ок. 1390.
18. Б.-К. Растрелли. Голова
Петра 1,1721.
19. Б.-К. Растрелли. Портрет Петра I, 1723.
20. Б.-К. Растрелли. Конная статуя Петра I, 1744.
21. Гравюра из трактата
Томаса Теодора
Керкринга 'Opera omnia anatomica', 1729.
22.
Иллюстрация к трактату Риолана 'О чудовище, рожденном в Лютеции в 1605 году'.
Париж, 1605.
25. Микеланджело. 'Страшный суд', фрагмент.
26.
Г. Бесерра. Гравюра из трактата X. де Вальверде 'Анатомия человеческого тела',
1560.
4.
Деформация обнаруживает 'лицо'
Глава
7. ЛИЦО-МАСКА И ЛИЦО-МАШИНА
1. Антонен Арто. 'СТРАДАНИЯ 'DUBBING'A'
2. Хорхе Луис Борхес. ПО ПОВОДУ ДУБЛЯЖА
Случай
на мосту через Совиный ручей *
ВВЕДЕНИЕ
В
этой книге собраны этюды, объединенные одной темой. Все они посвящены отражению
телесности в культуре. Телесность же рассматривается под определенным углом
зрения. Меня интересовали различные формы деформации тела. Само по себе понятие
деформации требует уточнения. Я вовсе не имею в виду существование некой
'нормы', по отношению к которой происходит деформация - нарушение, искажение
этой нормы. Под деформацией я понимаю некий динамический процесс или след
динамики, вписанный в тело. В таком контексте деформацией может быть любое
движение, любое нарушение первоначального стазиса - от гримасничанья и смеха до
танца и блуждания в потемках.
Движение,
о котором в книге говорится постоянно, должно, однако, каким-то образом
фиксироваться, сохранять деформацию как след. В интересующем меня аспекте след
движения неразрывно связан с понятием 'поверхности'. В главе 6 книги
упоминается один текст Леонардо да Винчи, в котором тот анализирует понятие
поверхности как некой границы, не принадлежащей ни одному телу и одновременно
принадлежащей двум 'телам', например, воде и воздуху над ней (Леонардо 1954
73-76). Причем тела эти, как указывает Леонардо, неразделимы - нельзя поднять
воздух над водой, не поднимая вслед за ним самой воды. Это явление объясняет
образование ряби и волн на поверхности жидкости Волны оказываются не чем иным,
как отражением на воде движения воздушной массы (ветра). При этом деформация
воздуха как отпечаток воспроизводится в воде лишь благодаря существованию
поверхности - общей границы между телами.
Эти
размышления Леонардо стимулировали мою работу над некоторыми аспектами 'поэтики
деформаций'. Деформации всегда возникают на поверхности (в глубинах воды рябь
невозможна) и всегда касаются двух тел, между которыми располагается
поверхность. Такое понимание деформации позволило связать ее с воздействием
сил, нередко чисто физических. Упомянутые в подзаголовке книги 'диаграммы'
отсылают именно к силовой стороне деформаций. Под диаграммой я понимаю как раз
след динамического процесса, невозможного без приложения сил.
Но
главное, размышления Леонардо позволили подойти к описанию деформаций
телесности вне системы психологических мотивировок.
5
Вопрос,
который я задал себе несколько лет назад, когда начал работать над этой книгой,
и ответ на который приходил лишь постепенно, может быть сформулирован следующим
образом: 'Что означают телесные деформации, например, гримасы или конвульсии?'
С самого начала для меня было ясно, что такого рода деформации не могут быть
объяснены в терминах психологии, что тело здесь функционирует наподобие машины,
вне сознательных психологических мотивировок. Гораздо более адекватным выглядело
объяснение в рамках представлений о миметизме. Тело как будто повторяет
поведение иного тела. Мой друг, философ Валерий Подорога предложил понятие
'психомиметического события', то есть такого телесного события, когда,
например, скорость письма (в частности, у Достоевского) через миметические
механизмы передается телу персонажа, которому приписывается повышенная
динамика. Но эта же скорость письма воздействует на читателя, включая его в
сферу 'психомиметического события'.
Разным
формам миметизма посвящены в основном первая, вторая и восьмая главы книги.
Однако само понятие поверхности позволило представить себе миметический процесс
не просто как некое подражание, а именно как 'впечатывание' оттиска в
поверхность, то есть в границу, разделяющую два тела и принадлежащую
одновременно обоим телам. Толчком к такому пониманию миметизма послужили
некоторые наблюдения Жана Пиаже над практикой имитации в раннем детстве. Пиаже
заметил, что у новорожденных плач другого ребенка вызывает 'голосовой рефлекс
из-за смешения со своим собственным плачем' (Пиаже 1962 - 7). Речь идет о неком
первоначальном неразличении между своим телом и телом другого. Постепенно,
однако, такая ассимиляция чужого тела опосредуется. Движения чужого тела
начинают проецироваться на внутреннюю схему тела, которую усваивает ребенок.
Таким образом, различие между собой и другим начинает формироваться как
различие между внешним (чужое, видимое тело) и внутренним (свое, невидимое
тело). Происходит, следуя Пиаже, 'постепенная ассимиляция видимых движений лиц
других с невидимыми движениями собственного лица ребенка' (Пиаже 1962:30).
Пиаже указывает, что до определенного момента зевание других не заразительно
для ребенка, так как 'не существует прямого соответствия между визуальным
восприятием ребенка рта других и осязательно-кинестетическим восприятием
собственного рта' (Пиаже 1962: 41).
Миметизм
становится эффективным тогда, когда внешнее (чужое тело) обретает общую
поверхность с внутренним (схемой собственного тела). Тогда движения других
накладываются на тактильно-кинестетические схемы самого субъекта. Метафорически
выражаясь, движения воздуха приводят в движение воду лишь тогда, когда
6
они
оказываются соединенными общей поверхностью. Приведу определение поверхности,
данное Леонардо. На мой взгляд, оно хорошо выражает функционирование
поверхности в миметическом процессе:
'...Поверхность - это общая граница двух тел, которые не
продолжают друг друга, она не является частью ни одного из этих тел, потому
что, если бы она была такой частью, она бы имела делимую толщину, в то время
как она неделима и ничто не отделяет эти тела друг от друга' (Леонардо 1954: 76).
Поскольку
деформация всегда возникает на поверхности (глубина воды остается нетронутой),
она всегда связывает между собой два тела, две среды, она всегда связана с
силами, приложенными из одной среды по направлению к другой, а потому она
диаграмматична и, конечно, миметична. Деформация поэтому всегда включает в себя
два тела, одно из которых действует как печать, а второе выступает в качестве
отпечатка.
Отсюда
проходящий через большинство этюдов этой книги мотив двойника, но двойника
особого. Речь идет не просто о копировании одного тела другим (подобно
отражению в зеркале), а о воздействии одного двойника на другого. В большинстве
случаев такой двойник определяется в книге как 'демон'1. 'Демон' - это силовая миметическая копия
тела, чье сходство с ним выражается прежде
________
1 Я назвал миметического двойника
'демоном' отчасти вслед за Гете, который пытался определить некую витающую в
воздухе силу, пронизывающую формы и тела, воздействующую на течение времени и
конфигурацию пространства. Гете вспоминает, что мучительно не мог подобрать
подходящего слова и в конце концов остановился на 'демоне'. Я испытал примерно
такие же лингвистические трудности и потому решил последовать примеру Гете.
Приведу тот фрагмент из 'Поэзии и правды', который побудил меня к такому
решению. Гете пишет о себе в третьем лице, как бы 'демонически' удваивая
собственную нарративную позицию:
'Ему
думалось, что в природе, все равно - живой и безжизненной, одушевленной и
неодушевленной, он открыл нечто дающее знать о себе лишь в противоречиях и
потому не подходящее ни под одно понятие и, уж конечно, не вмещающееся ни в
одно слово. Это нечто не было божественным, ибо казалось неразумным; не было
человеческим, ибо не имело рассудка; не было сатанинским, ибо было
благодетельно; не было ангельским, ибо в нем нередко проявлялось злорадство.
Оно походило на случай, ибо не имело прямых последствий, и походило на
промысел, ибо не было бессвязным. Все ограничивающее нас для него было
проницаемо; казалось, оно произвольно распоряжается всеми неотъемлемыми
элементами нашего бытия; оно сжимало время и раздвигало пространство. Его
словно бы тешило лишь невозможное, возможное оно с презрением от себя отталкивало.
Это
начало, как бы вторгающееся в другие, их разделявшее, но их же и связующее, я
назвал демоническим, по примеру древних и тех, кто обнаружил нечто сходное с
ним. Я тщился спастись от этого страшилища и, по своему обыкновению, укрывался
за каким-нибудь поэтическим образом' (Гёте 1976: 650).
7
всего
в общих деформациях, в общей поверхности, даже если эта поверхность носит
условный характер2.
Двойник,
однако, не обязательно принимает форму демона. Чаще всего он является неким
отпечатком, импринтом в самом пространстве, окружающем тело. В этом смысле он
является буквально негативным отпечатком, а не позитивной, телесной копией. На
первый взгляд, такое представление о пространстве как о своего рода массе,
несущей в себе отпечатки тела, кажется экстравагантным (хотя Леонардо даже
говорит об отпечатках, сохраняющихся в воде). В действительности дело обстоит
гораздо проще, чем может показаться из моего путаного объяснения.
Тело
формирует свое пространство, которое для внятности я буду называть 'местом'.
Оно вписывается в 'место' и формирует его собой. В книге возникает множество
таких 'мест' - это гнездо, которое лепит своим телом птица, это маска,
снимаемая с лица человека, это лабиринт, в котором фиксируются движения идущего
в нем, это ткани, вибрирующие в такт движениям танцовщицы, это сад, миметически
воспроизводящий образы памяти.
Спорное
и влиятельное определение 'места' принадлежит Аристотелю. Аристотель по
существу предвосхищает размышления Леонардо:
'Когда
мы говорим, что [предмет] находится во Вселенной как в [некотором] месте, то
это поэтому, что он находится в воздухе, воздух же во Вселенной, да и в воздухе
он [находится] не во всем, но мы говорим, что он в воздухе, имея в виду
крайнюю, окружающую его [поверхность]' (Аристотель 1981: 130; 4, 4, 211,
24-27). Рассуждая таким образом, Аристотель одно за другим отвергает
определения места как формы, материи и протяженности между краями некого
объемлющего тела. В конце концов он приходит к заключению, что место - это
'граница объемлющего тела, поскольку оно соприкасается с объемлемым'
(Аристотель 1981: 132; 4, 4, 212а, 6). Иными словами, место- это поверхность.
Это поверхность самого тела, в той мере в какой она является и поверхностью
'тела', объемлющего это тело.
Аристотель
сравнивает место с неподвижным сосудом. Пиама Гайденко называет аристотелевское
место 'абсолютной системой координат, по отношению к которой только и можно
вести речь о движении любого тела' (Гайденко 1980: 322). Если бы места не
существовало, движение было бы невозможно отличить от покоя. Ме-
___________
2 По мнению Роберта Бартона, именно
демоны являются теми силами, которые вызывают в телах метаморфозы: '... они
вызывают настоящие метаморфозы, подобно тому как Навуходоносор был воистину
превращен в зверя, жена Лота в соляной столб, спутники Улисса чарами Цирцеи
превращены в свиней и собак...' (Бартон 1977: 183).
8
сто
у Аристотеля - это неподвижная граница, объемлющая тела. В этом смысле она
может совпадать с поверхностью заключенного в ней тела, а может и не совпадать.
В пределе место можно мыслить как границу, существующую независимо от тела.
Сложности
возникают именно тогда, когда место начинает служить своей главной цели -
делать возможным движение. Комментатор Аристотеля Филопон (VI столетие),
критикуя аристотелевское понимание места, указывал на невозможность его
сведения к неподвижной двумерной поверхности, а не к трехмерному объему:
'...Если
место должно быть неподвижным, а поверхность, будучи границей тела, движется
вместе с телом, то поверхность не может быть местом' (Филопон 1991: 24).
Аристотель дает следующее пояснение:
'Подобно
тому как сосуд есть переносимое место, так и место есть непередвигающийся
сосуд. Поэтому, когда что-нибудь движется и переменяется внутри движущегося,
например лодка в реке, оно относится к нему скорее как к сосуду, чем как к
объемлющему месту. Но место предпочтительно должно быть неподвижным, поэтому
место - это скорее река, так как в целом она неподвижна' (Аристотель 1981:132;
4,4,212а, 15-19).
Лодка,
по мнению Аристотеля, может двигаться лишь в той мере, в какой мы в состоянии
определить для нее неподвижное место, некий невидимый пространственный импринт,
охватывающий ее хотя бы умозрительной пленкой неподвижной поверхности. Пытаясь
найти место для лодки, Аристотель говорит о 'всей реке', не уточняя, впрочем,
что имеется в виду - вода ли, вода ли с берегами, берега. Не очень ясно и то,
каким образом 'вся река' может быть поверхностной границей лодки. Ясно, однако,
одно - лодка плывет по реке потому, что река создает для нее неподвижного двойника-место.
Деформация
реализует себя именно относительно места. Но и само понятие места предполагает
некую изначальную деформацию. Хайдеггер связал понятие места с понятием
пристанища, в котором пребывает человек, в котором он обретает бытие. В
качестве примера пристанища он приводит, однако, такое архитектурное
сооружение, которое традиционно пристанищем не считается: мост.
'Он
не просто соединяет берега, которые уже находятся здесь. Берега возникают в
качестве берегов только тогда, когда мост пересекает поток. <...> Одна
сторона противопоставляется другой с помощью моста. Берега уже больше не
тянутся вдоль потока как безразличные ограничительные полосы сухой земли.
Вместе с берегами мост притягивает к реке просторы ландшафта, лежащего за ними.
Он приводит поток, и берег, и землю в соседство друг с другом. Мост собирает
землю вокруг потока в
9
ландшафт. <...> Даже
там, где мост покрывает поток, он поднимает его к небу, вбирая его на мгновение
под сводчатый пролет и затем вновь выпуская его на свободу' (Хайдеггер 1971:
152).
Это
собирание пространств в целое, по мнению Хайдеггера, - свойство вещи. Вещь воплощает в себе некую
собирательную природу, собирательную энергию3.
Она и создает место. Собирание
пространства вводит в него границы. Границы придают пространству бытие4. 'Соответственно, пространства получают свое
бытие от мест, а не от "пространства"' (Хайдеггер 1962: 154). Мост
придает конкретность пространству, которое вокруг него 'собирается'. Он придает
этому пространству лицо, или, выражаясь иначе, телесность. Эта телесность
особого толка. Она выражается в индивидуализации пространства через место, она
вписывает в пространство высоту и ширину, интервалы, она делает его обитаемым
для человека. Но эта индивидуализация пространства в месте как раз и похожа на
импринт, на отпечаток вещи в пространстве, на отпечаток, по-своему его
деформирующий. Место становится слепком с человека, его маской, границей, в
которой сам он обретает бытие, движется и меняется.
Человеческое
тело также - вещь. Оно также деформирует пространство вокруг себя, придавая ему
индивидуальность места. Человеческое тело нуждается в локализации, в месте, в
котором оно может себя разместить и найти пристанище, в котором оно может
пребывать. Как заметил Эдвард Кейси, 'тело как таковое является посредником
между моим сознанием места и самим местом, передвигая меня между местами и
вводя меня в интимные щели каждого данного места' (Кейси 1993: 128).
Движение
тела не только обживает место, вводит в него тело, но и создает место, подобно
тому как 'движение' моста собирает ландшафт. По-видимому, лабиринтные структуры
древнегреческих храмов именно и следует понимать как способ интеграции тела
человека в место. Убедительными кажутся выводы Винсента Скалли, утверждавшего,
что ритуальный лабиринтный проход через Кносский дворец и окружающие его пути
есть одновременно и движение через ландшафт, прямо ассоциируемый с телом
богини. Лабиринтный ход - это превращение местности в ландшафт, в котором
двурогая гора Jouctas играет роль двурогой богини, ассоциируемой и с бы-
____________
3 Хайдеггер первоначально развивает
свое понимание 'места' как окружения, насыщенного вещами и создающего близость,
в 'Бытии и времени', в гл. 22. - Хайдеггер 1962 135-136
4 Пиама Гайденко так определяет
функцию границ у Аристотеля: '.. граница есть то основное определение, которое
'держит в узде' бесконечность, делая ее из чего-то полностью неопределенного
определенной величиной' (Гайденко 1980 322-323).
10
ком.
Ландшафт, образуемый лабиринтом, буквально вбирает в себя тело богини, через
которое и движется лабиринтный ход.
'Он
вплел свои танцы лабиринта и рогов в большую полость охраняющей его долины,
одновременно являющейся богиней, и перед лицом насыпного холма, который
является ее обходительностью, и двурогой горы - ее величия и трона' (Скалли
1969: 14).
Скалли
показал, что развитие греческой архитектуры шло по пути абстрагирования
лабиринтных структур, исчезновения видимого лабиринта и сохранения лишь
потенциального. Тело постепенно приучалось воспроизводить обживание места путем
проецирования схем, почти таким же образом, как ребенок у Пиаже. Вот как Скалли
характеризует, например, более поздний вариант освоения 'места' в храме на
Самосе, известном под названием 'Лабиринт':
'Это
был, однако, иной лабиринт, чем тот, который был создан критскими дворцами.
Теперь это было абстрактное место, рамка для движений лабиринтного танца. Таким
образом, он провоцировал лабиринт, но не вел по нему, как это делал критский
дворец. В результате лабиринт перестал быть направленным потоком, но стал принципом
действия, предполагавшего выбор и избирающего путь, огибающий прочные,
прерывающие движение стволы колонн' (Скалли 1969: 52-53). Лабиринт создает
место, но постепенно само место становится лабиринтным, оно теперь
предполагает, вписывает определенный принцип поведения в пребывающее в нем
тело, оно деформирует его, но уже не физической принудительностью единственно
возможного пути. Место становится пронизанным невидимыми границами, где колонны
лишь имитируют стволы божественной рощи, но где нет видимого принудительного
пути. Путь предстает лишь как граница, не имеющая материальности, но тем не
менее оказывающая формирующее (деформирующее) воздействие.
Не
случайно, конечно, Скалли использует образ направленного потока - тот же,
который использовал Аристотель, а после него Леонардо. О лабиринте более
подробно говорится в третьей главе книги, однако признаюсь читателю, что образы
лабиринта и демона сопровождали меня с начала и до конца работы над книгой, так
что в самой ее структуре, в самом характере ее 'повествования' лабиринтность и
удвоение неизменно присутствуют. Сейчас я хочу еще раз остановиться на образе
ручья и моста, но не гейдельбергского, описанного Хайдеггером, а иного,
фигурирующего в знаменитом рассказе Амброза Бирса
Амброс Бирс. 'Случай на мосту через Совиный ручей'
Рассказ
начинается с описания приготовлений к казни отрядом солдат-северян южанина
Пейтона Фаркухара (Peyton Farquhar). Казнь через повешение должна состояться на
железнодорожном мосту в Северной Алабаме. Рассказ Бирса строится на том, что
момент
11
казни
растягивается в сознании Фаркухара в длинную цепочку галлюцинаций. Ему
представляется, что веревка на его шее обрывается, что он падает в реку и
спасается от казни, и даже в момент, когда веревка переламывает его шейные
позвонки, ему мерещится, что он возвращается домой и встречает свою жену.
Бирс
дает детальное описание моста - этой своеобразной машины казни и последнего
пристанища жертвы. Он останавливается на устройстве этой машины - незакрепленных
досках под ногами казнимого (через щели между досками виден несущийся внизу
поток воды), перекладине над его головой, к которой привязана веревка с петлей.
Бирс
дает и тщательное описание расположения моста, соединяющего два берега: один из
них покрыт густым лесом, в котором исчезает петляющая дорога, а второй в месте
расположения моста имеет свободное пространство. Мост совершенно в согласии с
Хайдеггером стягивает к себе ландшафт, преобразуя его в систему сокрытия и
экспонирования, своего рода театр, в центре которого мост выступает в качестве
сценических подмостков.
Машина
казни имеет в структуре повествования особое значение. Построена она следующим
образом: сам мост создает некую горизонтальную тягу, соединяя берега и 'уводя'
пребывающее на нем тело в лес - в невидимое. Внизу река задает иное направление
горизонтального движения, ориентируя свою динамическую энергию вдоль берегов.
Казнь через повешение должна совершаться таким образом, чтобы тело падало с
моста вниз и повисало под его пролетом, но не достигнув воды. Эта примитивная
машина казни объединяет три стихии: землю, воду и воздух.
Казнь
здесь четко задается как резкий переход из одной системы пространственных тяг и
скреп (системы мост-земля) в другую систему- свободного полета и воздуха.
Падение казнимого вниз, в пропасть, в смерть есть одновременно и его, используя
выражение Жиля Делёза и Феликса Гваттари, 'детерриториализация' - решительное
изгнание из места. Жизнь в таком контексте может пониматься именно как
пристанище, смерть - как лишение места. Падение тела оказывается не просто
способом физического умерщвления, но и способом выталкивания из места. Николь
Лоро показала, что в древнегреческой трагедии самоубийство героинь через
повешение - aiora - ассоциируется с полетом птицы и освобождением, бегством
(Лоро 1987: 17-20). Падение Фаркухара с моста делает невозможным его движение
по лесной дороге (жизни). Но сам момент падения, парадоксально выбивая
Фаркухара из 'места', предназначенного для живых, открывает для него некое
новое измерение.
Фаркухар
попадает под мост, где силовые поля места трансформируются. Помните, у
Хайдеггера: '... там, где мост покрывает по-
12
ток,
он поднимает его к небу, забирая его на мгновение под сводчатый пролет и затем
вновь выпуская его на свободу'. Свод моста деформирует 'место' реки, как бы
поднимая ее вверх и затем вновь освобождая ее. Там, где мост пересекает поток,
тот перестает разделять берега, перестает функционировать как указание на их
фундаментальную несводимость к некому целому. Вода под мостом как будто
испытывает два типа динамического воздействия, одно стремительно толкает ее
вперед, делая берега несоединимыми, а второе как будто замедляет течение под
напором некой тяги, действующей перпендикулярно ее течению и соединяющей
берега.
Фаркухар
смотрит на воду сверху сквозь щели у него под ногами:
'...
Потом он позволил взгляду побродить по кружащейся в водоворотах воде течения,
бешено несшегося у него под ногами. Кусок танцующей древесины привлек к себе
его внимание, и он проследил за ним вниз по течению. Как медленно он, казалось,
двигался!' (Бирс 1956:88).
Падая
вниз, Фаркухар переходит из одного 'места' в другое и оказывается как раз в той
'магической точке', где динамический импульс собирания взаимодействует с пучком иных сил, организующих иное
'место'.
Галлюцинация
Фаркухара вызывается тем, что сам он воплощает ту силу (силу падающего тела),
которая позволяет ему на мгновение как бы совпасть с динамическими потоками,
организующими переход из 'места' в 'место'. Все его тело становится, подобно мосту
или реке, не просто пребывающим в пристанище, но именно стягивающим,
растягивающим, деформирующим импульсом, который и позволяет ему 'стать' рекой,
воздухом, лесом, перестать быть пребывающим
телом. Смерть Фаркухара описана именно как динамический вихрь, как
взаимодействие энергий и сил:
'Острые,
пронизывающие боли, казалось, стрельнули из его шеи вниз через каждый фибр его
тела и членов. Эти боли, казалось, вспыхивали вдоль ясно обозначенных линий
разветвлений и били с невероятно быстрой периодичностью. Они казались подобными
потокам пульсирующего огня, нагревающего его до невыносимой температуры. Что же
касается его головы, он не сознавал ничего, кроме чувства наполненности,
переполненности' (Бирс 1956:91).
Фаркухар
преображается в тело, напоминающее реку. Боли бегут по неким линиям тела и его
разветвлениям, как по руслам, они бьются с периодичностью волны. Голова его
наполняется, переполняется. И именно динамическое абстрагирование тела и
позволяет ему пережить казнь как галлюцинаторное погружение в воду Бирс
чрезвычайно подробен в своих описаниях галлюцинации воды.
13
Фаркухар,
например, 'почувствовал волны на своем лице и услышал отдельные звуки их
ударов' (Бирс 1956: 93). Но эти звуки лишь повторяют извне периодическую
пульсацию боли, ощущаемую им первоначально изнутри.
Это
превращение внутреннего во внешнее, а внешнего во внутреннее, превращение по
существу и являющееся обменом между человеком и местом, завершается погружением
Фаркухара в водоворот, в котором он претерпевает последнюю динамическую метаморфозу,
как бы вообще лишающую его автономного тела:
'Вдруг
он почувствовал, как его завертело вокруг и вокруг, и он стал вращаться как
волчок. Вода, берега, леса, теперь уже далекий мост, форт и люди - все
смешалось и смазалось. Предметы были представлены лишь их цветами; круговые
горизонтальные полосы цвета - вот все, что он видел. Он попал в водоворот и
несся вперед и вращался с такой скоростью, что испытывал головокружение и
тошноту' (Бирс 1956: 96).
Телесная
метаморфоза, развоплощение персонажа и его отделение от первоначального места и
первоначального времени происходит в этом пароксизме вращения, которое
напоминает машину. Здесь буквально возникает иное, нематериальное тело, которое
может двигаться по некой иной временной оси. Это возникновение, рождение нового тела перекликается с
впечатлением Леонардо, зарегистрированным в его записях. Леонардо утверждал,
что однажды видел над водой столб взвихренного ветра, образовавший на
поверхности воды водоворот, а в воздухе симулякр человека (Леонардо 1954: 765).
Любопытно, конечно, что сам момент этого магического развоплощения, этой высшей
'деформации' описывается через оппозицию движущегося глаза и неподвижных
объектов вокруг, которые постепенно теряют материальность, как бы растекаясь
вокруг вращающегося тела цветовыми полосами - поверхностями. При этом то, что
первоначально задается как движение, - мелькание неподвижных объектов на
берегу- постепенно перерастает в неподвижность - мираж горизонтальной круговой
ленты. Время парадоксальным образом останавливается как раз в центре бешено
вращающегося водоворота.
Фаркухар
не просто погибает, трансформируется, он и возрождается. Вода выбрана для этого
не случайно. Она - мифологическая стихия смерти и рождения. А как показали
психоаналитические исследования, погружение в воду может пониматься как
возвращение в материнское лоно - то есть как исчезновение, смерть и рождение
одновременно.
Шандор
Ференци совершенно однозначно связывает мотив спасения из воды или плавания в
воде с репрезентацией рождения или совокупления (Ференци 1938: 48). С темой
рождения, конечно, связана и распространенная ассоциация женского тела с водой
(Теве-
14
ляйт
1987). В рассказе Бирса, разумеется, не трудно обнаружить традиционную для
психоанализа связь между смертью, оргазмом и возрождением. Меня же в данном
случае, однако, интересует не эта устойчивая символическая связь, а нечто
противоположное. Превращение места, динамическая трансформация самого процесса
собирания, производимая бирсовской 'машиной казни', позволяет остановить время,
вводит тело в такие отношения с пространством, которые можно описать как
выпадение из 'места', растворение в потоке и удвоение - тело как бы отделяется
от самого себя и начинает существовать в ином пространстве-времени.
Время,
конечно, играет в рассказе Бирса принципиальную роль. Его мотив вводится и
усиленным до неузнаваемости звуком тикающих часов, и вторящим ему ритмическим
биением волн. Да и сама река, разумеется, является традиционной метафорой
временного потока. Падение Фаркухара не только меняет взаимоотношение 'мест',
но и останавливает движение времени. Оно вторгается в поток, в непрерывность
мощным толчком, разрывом. Оно выделяет момент, мгновение, остановку в движении
времени.
Бодлер
в эссе 'О сущности смеха' ('De l'essence du rire') анализирует ситуацию
человека, который падает на улице, а через мгновение начинает смеяться над
самим собой, над собственной неловкостью:
'Человек,
смеющийся над собственным падением, - совсем не тот, кто падает, если конечно,
он не является философом и не приобрел привычное умение быстро удваиваться и
присутствовать в качестве незаинтересованного зрителя при проявлении его
собственного Я' (Бодлер 1962: 251).
Падение
действует, 'удваивая' человека, позволяя ему занять по отношению к самому себе
внешнюю позицию наблюдателя. Поль де Ман подчеркивает, что у Бодлера
'разделение субъекта в множественности сознаний имеет место в непосредственной
связи с падением' (Де Ман 1983: 213). Сартр заметил по поводу эпилептического
припадка (имитации смерти) и падения, пережитых Флобером в 1844 году:
'В момент, когда Флобер обрушивается на пол экипажа, он находится в ином месте, в мысль его
вторгается фантасмагория, дистанцирующая его от настоящей реальности: он
становится всецело воображаемым' (Сартр 1991:66).
Сартр
указывает, что падение производит во Флобере своего рода психическую
диссоциацию, отделение от себя самого. И это раздвоение в падении связано с
тем, что в падении Флобер превратился в пассивную массу, как бы отделенную от
собственной воли и отчужденную вовне. Сартр пишет о проявившемся в падении
15
'желании
упасть, стать единым с землей или водой, с изначальной пассивностью материи, с
минеральностью...' (Сартр 1991:86).
Падение оказывается толчком вспять, к инертной материи еще до
органической жизни. Падение как будто останавливает время, позволяет ему
двигаться назад, оно создает ту самую фикцию мгновения (как остановленного
времени), в котором два 'Я',
принадлежащие к разным временным пластам, как будто встречаются. Речь идет о
преодолении времени в неком движении вспять, которое есть нечто иное, как повторение
(см. Мельберг 1980).
Падение
у Бодлера работает как смех, позволяющий субъекту раздваиваться:
'Смех - это выражение двойного или противоречивого чувства; вот
почему возникает конвульсия' (Бодлер
1962:253).
Конвульсия
в данном случае оказывается знаком остановки, разрыва в непрерывности,
мгновения, повторения. Становление 'Я' как будто прерывается падением, и этот
перерыв выражается в конвульсии как неком знаке насилия над телом, к которому
приложены силы, 'останавливающие' время.
Падение Фаркухара описывается именно как останавливающее время. Вращения водоворотов, в которые он
попадает в своем воображении, лишь выражают неожиданное преодоление линейности,
поворот времени вспять. И действительно, в последнем предсмертном видении герою
чудится, что он возвращается в свой дом и видит свою жену. Речь идет о
воспоминаниях, приобретающих остроту восприятия. В одной из своих ранних статей
'Криптомнезия' (Cryptomnesia) Карл Густав Юнг заметил, что воспоминания,
погребенные в Бессознательном, могут всплыть в сознании либо под шоковым
воздействием скорости, разрушающей автоматизмы сознания, либо в момент
предсмертной дезинтеграции последнего:
'Когда
мозг умирает и сознание распадается <...> фрагментарные воспоминания
могут воспроизводиться с массой
предсмертного мусора. То же самое происходит и при безумии. Я недавно
наблюдал случай навязчивого говорения у слабоумной девочки. Она без умолку
часами говорила о всех тех, кто за ее жизнь следил за ней, в том числе и об их
семьях, детях, расположении их комнат, описывая все подряд до самой невероятной
детали - потрясающее действо, по-видимому неподвластное волевому припоминанию'
(Юнг 1970:105).
У
Бирса это возвращение во времени назад, это повторение, это превращение
внутреннего (воспоминаний) во внешнее (восприятие) включены в функционирование
конструкции и в пространственном смысле сводятся к 'смене места'. Метаморфозы
производятся динамикой тела внутри конструкции. Я называю такую кон-
16
струкцию
'машиной' и говорю о сочетании моста, берегов, реки и тела как о некой 'машине
казни', воздействующей на телесность (подробному анализу работы 'машины казни'
будет посвящено специальное исследование, над которым я работаю).
Речь
идет о процессах, которые я отношу к сфере деформации. Процессы эти прежде всего фиксируются в чисто телесных
изменениях, в деформациях в самом прямом физическом смысле. Тело падает,
вытягивается, сквозь него проходят потоки энергии и ее пульсации, тело
обрушивается в воду, приводится во вращение, 'растворяется' в воде, неподвижные
предметы 'смазываются' и т. д. Следы этих силовых воздействий можно описать как
диаграммы.
Описание
этих следов и их анализ занимает значительное место в этой книге. Я не
намеревался создать какую-либо стройную все-объясняющую теорию. Я давно отказался
от поиска подобных фантомов. При этом, не стремясь к систематичности, я не
старался избегать теоретизирования. Впрочем, под этим словом я понимаю сегодня фрагментарную рефлексию.
Книга
писалась в разное время и в разных странах. Начата она была в России, а
завершена в США, где сделана большая ее часть. Первые варианты большинства глав
публиковались в виде статей в периодике. Правда, для книги все главы были
переработаны, а некоторые переписаны почти до неузнаваемости. В соответствии с
принятым ритуалом, укажу на место их первоначальных публикаций.
Глава
третья: Труды по знаковым системам, вып. 25, Тарту, 1992.
Глава
четвертая: 'Новое литературное обозрение', ? 7, 1994; сильно сокращенный
английский вариант: 'New Formations', 22, 1994.
Глава
пятая: 'Киноведческие записки', ? 15, 1992; английский вариант: 'October', 64,1993.
Глава
шестая: Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. Москва - Рига, 1994.
Глава
седьмая: 'Киносценарии',
? 5, 1991; английский вариант: 'The Drama Review', 143, 1994; французский
вариант в книге: Vers une theorie de 1'acteur. Colloque Lev Koulechov. Sous
la direction de Francois Albera. Lausanne,
1994.
Глава
восьмая: 'Киноведческие записки', ? 20,1993/1994.
Считаю
своим приятным долгом поблагодарить тех людей, которые оказывали мне помощь или
поддерживали, как говорится, морально. В последние годы я был связан в России в
основном с группами единомышленников, собравшихся вокруг нескольких изданий.
Первое - журнал 'Киноведческие записки', с которым меня связывает многолетнее сотрудничество в
мою бытность киноведом. Тем, кто издает этот журнал, я многим обязан. На его
страницах опубликованы первые варианты двух глав этой книги. 'Киноведче-
17
ские
записки' выпустили в свет мою первую монографию 'Видимый мир', где речь шла о
репрезентации тела. Особую благодарность я выражаю Александру Трошину, Нине
Дымшиц, Ирине Шиловой, Нине Цыркун. Вторая группа - московские философы, с
которыми мы затеяли в Москве серию книг 'Ad
Marginem'. Моя вторая книга 'Память
Тиресия' была издана в этой серии. Для 'Ad
Marginem' я готовлю сейчас дилогию
'Физиология символического'. Три человека постоянно поддерживали меня в моей
работе. Это Валерий Подорога, общение с которым было чрезвычайно стимулирующим
интеллектуальным фактором, Лена Петровская и Саша Иванов. Всем им я выражаю
глубокую благодарность. Третья группа, с которой я нахожусь в постоянном
контакте, сосредоточена вокруг журнала 'Новое литературное обозрение'. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить главного
редактора этого журнала и друга Ирину Прохорову. Особая благодарность первому
читателю этой книги и ее редактору Сергею Зенкину. Последние несколько лет я
преподаю в Нью-йоркском университете. Многое из того, что вошло в книгу,
обсуждалось с группой аспирантов этого университета, которым я многим обязан,
которых люблю, но перечислять которых поименно было бы слишком долго. И,
наконец, я должен выразить свою благодарность персоналу и администрации Центра
гуманитарных исследований Поля Гетти в Лос-Анджелесе, создавших превосходные
условия для работы над шестой главой книги. Работа над книгой связана для меня
с радостным событием - рождением дочери Анны, которой я и посвящаю эту книгу.
Глава 1. КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ
1. Тело как зеркало сказа
Борис
Эйхенбаум начинает свою статью 'Как сделана "Шинель" Гоголя' с
описания того, как читал свои произведения сам Гоголь - декламационно, особенно
подчеркивая ритм, интонацию, жест. Описание гоголевской писательской декламации
позволяет Эйхенбауму сделать вывод, принципиальный для общего понимания
гоголевского творчества: данный тип повествования является 'сказом':
'...Сказ
этот имеет тенденцию не просто повествовать, не просто говорить, но мимически и
артикуляционно воспроизводить - слова
и предложения выбираются и сцепляются не по принципу только логической речи, а
больше по принципу речи выразительной, в которой особенная роль принадлежит
артикуляции, мимике, звуковым жестам и т. д. < ...> Кроме того, его речь
часто сопровождается жестами <...> и переходит в воспроизведение, что заметно и в письменной ее форме' (Эйхенбаум
1969: 309. - Выделено мною).
Эйхенбаум
определяет гоголевский сказ как 'мимико-декламационный' (Эйхенбаум 1969: 319),
подчеркивает второстепенное значение 'анекдота' для Гоголя. Миметизм текста
направлен совсем в иную сторону. Правда, в цитированном фрагменте Эйхенбаум
сохраняет подчеркнутую неопределенность по поводу отмечаемой им миметической
функции: текст 'имеет тенденцию мимически и артикуляционно воспроизводить',
речь 'переходит в воспроизведение'... Что, собственно, имеется в виду?
Эйхенбаум выражается с намеренным нарушением принятых в русском языке норм:
воспроизводить
- что? в воспроизведение - чего? На эти вопросы он не дает прямого ответа.
И
все же понятно, что текст Гоголя в своих жестах, ужимках, гримасах имитирует
ситуацию собственного производства, причем не как письменного, но как устного
текста1. Эйхенбаум вынужден ввести в
описываемую им ситуацию образ автора как актера: '...не сказитель, а
исполнитель, почти комедиант скрывается за печатным
_____________
1 Методологические
последствия такого фоноцентризма рассмотрены в статье: Липецкий 1993.
19
текстом
"Шинели"' (Эйхенбаум 1969: 319). Поправка здесь весьма характерна -
не просто исполнитель, а 'комедиант', со всеми вытекающими отсюда ужимками:
'Личный
тон, со всеми приемами гоголевского сказа, определенно внедряется в повесть и
принимает характер гротескной ужимки или гримасы' (Эйхенбаум 1969:320).
Или
в ином месте: 'Получается нечто вроде приема 'сценической иллюзии'...'
(Эйхенбаум 1969: 320)
Неопределенность
эйхенбаумовского 'воспроизведения' объясняется парадоксальностью ситуации
'мимико-декламационного сказа'. Материя сказа с ее интонационной
возбужденностью, 'звуковыми жестами' и маньеристской орнаментальностью является
зеркалом, в котором отражается 'физика' самого сказителя, его телесность в
самом непосредственном смысле этого слова. При этом сказитель особенно ничего и
не рассказывает, история его не интересует. Он как бы стоит на некой невидимой
сцене, и тело его движется, мимирует. Он - комедиант, не производящий ничего,
кроме комедиантства. Он напоминает мима Малларме, который, по выражению Жака
Деррида, 'мимирует референтность. Это не имитатор, он мимирует имитацию'
(Деррида 1972: 270).
В
этом смысле воображаемое тело 'исполнителя' - не выразительное тело, оно ничего
определенного не выражает, оно просто вздрагивает, колышется, дергается2. Тела гоголевских персонажей ведут себя сходно
с воображаемым телом мимирующего исполнителя-автора. Они как бы зеркально
воспроизводят его.
Валерий Подорога утверждает, например, что процесс чтения вообще может
быть сведен к бессознательному мимированию, к телесному поведению,
доставляющему читателю почти физиологическое удовольствие. Чтение понимается им
как телесное перевоплощение:
'Мы читаем, пока испытываем удовольствие. Мы продолжаем читать не потому, что все лучше и лучше понимаем (скорее мы в момент чтения вообще ничего не
__________
2 Псевдо-Лонгин утверждал, что
конвульсивный строй речи с явной нарушенностью 'нормального' развертывания
может имитировать смерть или ужас, то есть явление или аффект, в значительной
степени выходящие за пределы репрезентируемого. 'Возвышенное' (непредставимое)
в данном случае вообще отчасти снимает проблему референции. Конвульсивность
слога отсылает к непредставимому: 'В словах "из-под смерти" он
[Гомер] соединил обычно несочетаемые предлоги различного происхождения и,
нарушив привычный ритм стиха, словно скомкав его под влиянием неожиданного
бедствия, извлек на поверхность самое бедствие, а весь ужас опасности отчеканил
и запечатлел неожиданный оборот "уплывать из-под смерти"'. - О
возвышенном 1966: 25. Гомер в данном примере прибег к слиянию Двух предлогов hupo и ek в выражение 'hupek tanatoio' - 'из-под смерти' в переводе
Чистяковой. Анализ этого фрагмента из Псевдо-Лонгина см. Деги 1984: 208-209.
20
понимаем),
а потому, что наша ограниченная телесная мерность вовлекается в текстовую
реальность и начинает развиваться по иным законам, мы получаем, пускай на один
миг, другую реальность и другое тело (вкус, запах, движение, жест).
Удовольствие зависит от этих перевоплощений, от переживания движения в
пространствах нам немерных <...>. Читаемый текст - это своего рода
телесная партитура, и мы извлекаем с ее помощью музыку перевоплощения...'
(Подорога 1993:141)
Если
понимать процесс чтения как 'психомиметический процесс' (выражение Подороги),
то текст может быть почти без остатка сведен именно к статусу 'телесной
партитуры'. Подорога так описывает работу текста Достоевского (хотя, без
сомнения, эту характеристику можно отнести и к Гоголю):
'...Достоевский
в своих описаниях движения персонажей не видит, что он сам описывает, он только
показывает, что эмоция 'любопытство' определяется некоторой скоростью
перемещения тела Лебедева в пространстве, ею же создаваемом, именно она
сцепляет ряд глагольных форм, которые, будучи неадекватны никакому реальному
движению тела, тем не менее создают психомиметический эффект переживания тела,
захваченного навязчивым стремлением вызвать в Другом встречное движение и тем
самым снять эмоциональное напряжение психомиметическим событием' (Подорога
1994: 88). Действия персонажей, по мнению Подороги, только усиливают
миметический эффект письма, глагольных форм, синтаксических конструкций. В
мире, описываемом Подорогой, действуют скорости. Писатель торопится писать,
персонаж спешит, потому что заряжен динамическим импульсом самого письма, да и
нужен автору только для того, чтобы динамизировать форму, читатель резонирует в
такт этим скоростям и напряжениям.
В
результате фундаментальный 'активный слой' текста существует до понимания,
помимо понимания. Более того, он действует тем сильней, чем ниже уровень
понимания, тормозящего действие внутритекстовых скоростей. Но даже если
принимать с оговорками разработанную Подорогой картину текстового миметизма,
нельзя не согласиться с тем, что миметизм принципиально противоположен
пониманию и располагается в плоскости телесности и физиологии. Именно это и
делает его 'автореферентным'. Тело лишь резонирует в такт себе самому.
Впрочем,
можно рассматривать психомиметический процесс не столько как противоположный
пониманию, сколько как некий 'регрессивный' процесс, пробуждающий некий иной
архаический тип понимания, названный, например, немецким психологом Хайнцем
Вернером 'физиогномическим восприятием'. По мнению Вернера,
21
на
ранних этапах развития психики взаимодействие между субъектом и объектом
принимает динамическую форму. Движущийся объект вызывает на этой стадии прежде
всего моторно-аффективную реакцию, ответственную за интеграцию субъекта в
окружающую среду. Но сама эта среда в таком контексте понимается как нечто
динамическое и пронизанное своего рода 'мелодикой' Вернер пишет:
'Подобная
динамизация вещей, основанная на том, что объекты в основном понимаются через
моторное и аффективное поведение субъекта, может привести к определенному типу
восприятия. Вещи, воспринимаемые таким образом, могут казаться 'одушевленными'
и даже, будучи в действительности лишенными жизни, выражать некую внутреннюю
форму жизни' (Вернер 1948: 69). Незатухающая динамика таких объектов - а к ним
могут относиться и тела литературных персонажей - придает этим объектам
странную амбивалентность: 'одушевленность' здесь всегда просвечивает через
механическую мертвенность чистой моторики. К Гоголю это относится в полной мере.
Юрий
Манн, рассматривая образы гоголевской телесности, обратил внимание на некоторые
повторяющиеся стереотипные ситуации - прежде всего пристальное внимание Гоголя
к сценам сна и могучего гиперболического храпа, а также к сценам еды. Манн
приводит характерное описание сна Петра Петровича Петуха из второго тома 'Мертвых душ':
'Хозяин,
как сел в свое какое-то четырехместное, так тут же и заснул. Тучная
собственность его, превратившись в кузнечный мех, стала издавать, через
открытый рот и носовые продухи, такие звуки, какие редко приходят в голову и
нового сочинителя: и барабан, и флейта, и какой-то отрывистый гул, точный
собачий лай' (Манн 1988: 151; Гоголь 1953, т. 5: 312).
Петух
в данном случае являет такое же тело, как тело комедиантствующего автора Он
совершенно бессознателен, в его поведении нет никакой экспрессивности, потому
что ему нечего выражать, он чистая физиология, сведенная к механике ('кузнечный
мех'). Это механическое тело как будто что-то имитирует - музыкальные
инструменты, собачий лай, - но имитатором оно не является. Тело Петуха
имитирует референциальность, в действительности, конечно, не отсылая ни к
собачьему лаю, ни к барабану и флейте. Еда и связанные с ней физиологические
ужимки также не экспрессивны Мы имеем дело не со знаками, отсылающими к
какому-то внутреннему 'содержанию', но с телесными знаками, отсылающими к самой
же физиологии и механике тела. Речь, по существу, идет о регрессии таких тел на
чисто моторный, бессознательный уровень поведения, пробуждающий у читателя
'физиогномические восприя-
22
тие'
и создающий эффект одушевленности и неодушевленности одновременно.
Звуковое
минирование в данном случае превращается в нечто механическое, внешне-телесное.
В пределе даже воображаемое тело рассказчика может превратиться в машину.
Гоголь, возникающий из конвульсий его сказа, - это по существу 'машина-Гоголь'
с программой своих уверток, с ограниченным репертуаром телесной механики3. Показательно поэтому, что, по мнению
Эйхенбаума, его персонажи говорят языком, 'которым могли бы говорить
марионетки'(Эйхенбаум 1969: 317). Машина исполнителя отражается в машинах
персонажей.
Когда
Эйхенбаум определяет Гоголя как 'исполнителя', а не как автора, он как будто
предполагает, что писатель воспроизводит некий предсуществующий текст, а не
создает новый. Такая ситуация имеет смысл лишь в контексте телесного машинизма
как генератора текста. Действительно, несмотря на сложный конгломерат движений,
включенных в телесные содрогания Петуха, они следуют механике 'кузнечного
меха', то есть воспроизводятся без изменений в каждом новом цикле. Движение
Петуха, несмотря на всю его кажущуюся изощренность, в действительности
зафиксировано в некой неотвратимой, почти статической повторяемости.
Этим
'машинизмом' объясняется и частый упрек в мертвенности гоголевских персонажей,
которые 'ничего не выражают'. Процитирую известное наблюдение Василия Розанова, буквально
формулирующее поэтику Гоголя в терминах 'физиогномического восприятия':
'Он был гениальный живописец внешних форм, и
изображению их, к чему одному был способен, придал каким-то волшебством такую
жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, как за этими формами
ничего в сущности не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их'
(Розанов 1989: 50)4.
Замечание
Розанова любопытно тем, что ставит знак равенства между жизненностью и
скульптурностью, между крайней степенью правдоподобия и отчужденностью движения
в камне.
Георг
Зиммель, анализируя творчество Родена как скульптора 'становящейся' телесности,
так описывал процесс его работы:
____________
3 Томмазо Ландольфи в рассказе 'Жена
Гоголя' придумал загадочную жену русского писателя - в виде резиновой куклы,
вернее надувного шара, которому он придал форму, полностью отвечавшую его
желанию - Ландольфи 1963. Фантазия Ландольфи может быть отчасти отнесена и к
телу самого Гоголя, увиденного в эйхенбаумовской перспективе
4 Андрей Белый идет еще дальше. 'И
самый страшный, за сердце хватающий смех, звучащий, будто смех с погоста, и все
же тревожащий нас, будто и мы мертвецы, - смех мертвеца, смех Гоголя!' - Белый
1994 361
23
'Роден утверждает, что он привык
разрешать натурщикам принимать позы по их собственному капризу. Неожиданно его
внимание сосредоточивается на особом повороте или выверте члена, неком изгибе
бедра, сгибе руки или растворе сустава. И он фиксирует в глине только это
движение этой анатомической части, не лепя всего остального тела. Затем, часто
через большой промежуток времени, перед ним начинает вырисовываться некая
глубинная интуиция всего тела. Он видит его в характерной позе и мгновенно и
твердо знает, какой из возможных многочисленных этюдов пригоден для него' (Зиммель
1980:129).
Роден
как будто исходит из абсолютного правдоподобия, он не навязывает своей воли
натурщикам, а следует их капризу. Однако затем зафиксированная им
натуралистическая деталь отрывается от тела, автономизируется и помещается в
совершенно иной телесный контекст. Это новое тело, данное Родену в интуиции,
интересно тем, что оно позволяет окончательно интегрировать анатомический
фрагмент в некую иную ситуацию. 'Выверт члена' находит для себя такое тело,
которое придает капризу этого выверта все черты закономерности.
Гоголь,
конечно, работает в ином материале. Но 'выверты членов' его персонажей,
совершенно, казалось бы, автономные и почти марионеточные, приобретают черты
закономерности от их механической повторности. Скульптурность Гоголя - это также
включение странной, но жизнеподобной анатомической детали в структуру телесной
машины.
Существенным
следствием автомимесиса, 'автореференции' является парадоксальное снятие
эйхенбаумовского фоноцентризма. Эйхенбаум считал, что фонетическая, звучащая
речь предшествует письменной, что она является перворечью гоголевского текста,
задающей всю его смысловую структуру. В действительности же звуковой жест,
интонация лишь вписаны в моторику письменного текста и отсылают не столько к
звучащему слову, сколько к мимической моторике 'исполнителя'. Если представить
себе процесс генерации гоголевского текста по Эйхенбауму, то вначале мы будем
иметь кривляющегося комедианта, чьи ужимки каким-то образом отражаются в
интонации его речи, чтобы затем зафиксироваться в неровностях и конвульсиях
письма и в конце концов преобразиться в марионеточное подергивание персонажей.
Первичным во всей этой сложной миметической цепочке, транслирующей и
перекодирующей телесную моторику 'исполнителя', будет немая гримаса, передергом
своим обозначающая иллюзию референциальности. Звучащая речь здесь - не более
как один из этапов миметической трансляции.
Гоголь,
между прочим, в 'Шинели' поместил
сцену мимирова-
24
ния
Башмачкина, переписывающего доверенный ему документ. Гоголь как будто наделяет
Башмачкина миметической чувствительностью к извивам письма, вовсе не
предполагающим наличия звукового слоя:
'Там,
в этом переписываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир.
Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до
которых если он добирался, то был сам не свой:
и
подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось,
можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его' (Гоголь 1952, т.
3:132)5. Подобная мимическая соотнесенность
с письменным текстом позволила Андрею Синявскому увидеть в этой сцене описание
творчества самого Гоголя, склонившегося над бумагой так, чтобы 'трепет и
мимика' склоненного над бумагой лица оживляли воображаемый мир, отражаясь в
нем:
'Склоненный
над рукописью автор, как верховное божество творимого из-под пера его
микромира, вступает в таинственную игру с оживающими фигурами, сплошь состоящую
из шутливого подбадривания и подтрунивания и воспроизводящую на бумаге
священное лицедейство создателя, его мимическую активность, отраженную в
зеркале текста. Авторские переживания в этом процессе миротворения напоминают
часы переписывания у Акакия Акакиевича. Представим на минуту, что буквы,
которые тот вдохновенно выводит, суть герои и события сцены, - и мы получим
подобие Гоголя, подобие Бога, создающего свет раскатами благодатного смеха'
(Терц 1992:84).
Синявский
буквально видит отражение в тексте мимической игры склоненного над ним лица
Гоголя. Правда, его сравнение с Акакием Акакиевичем выглядит несколько натянутым,
хотя бы потому, что Башмачкин совершенно не похож на творящего Бога. Он
действует исключительно как машина и оказывается даже неспособным 'переменить
заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье' (Гоголь
1952, т. 3: 132) Его мимические реакции возникают вне всякого смысла, как чисто
рефлекторные конвульсии, когда он 'добирался' до 'некоторых букв'.
Сравнение
Гоголя с Башмачкиным может быть справедливым только в одном случае: если
предположить, что Бог действует через
_________
5 Этот эпизод 'Шинели', вероятно,
как-то соотнесен с собственной страстью Гоголя к каллиграфическому
переписыванию А Т Тарасенков вспоминал 'Гоголь любил сам переписывать, и
переписывание так занимало его, что он иногда переписывал и то, что можно было
иметь печатное У него были целые тетради (в восьмушку почтовой бумаги), где его
рукой были написаны большие выдержки из разных сочинений' - Тарасенков 1952 513
25
тело
Гоголя как через автомат, что писатель лишь корчится как марионетка под
воздействием высших сил, что он не творит, но действительно 'переписывает'
некий предсуществующий текст. В таком случае тело писателя удваивается неким
сократовским демоном. Мне еще предстоит вернуться к удвоению мимирующего тела,
пока лишь констатирую эту странную и не затрагивающую сознания миметическую
реактивность, которой сам Гоголь, по-видимому, придавал особое значение.
Идею
гоголевского раздвоения высказал в статьях о 'Мертвых душах' 1842 года С. П.
Шевырев:
'Смех
принадлежит в Гоголе художнику, который не иным чем, как смехом, может забирать
в свои владения весь грубый скарб низменной природы смешного; но грусть его
принадлежит в нем человеку. Как будто два существа виднеются нам из его романа:
Поэт, увлекающий нас своей ясновидящею и причудливою фантазиею, веселящий
неистощимою игрою смеха, сквозь который он видит все низкое в мире, - и
человек, плачущий и глубоко чувствующий иное в душе своей в то самое время, как
смеется художник. Таким образом в Гоголе видим мы существо двойное, или
раздвоившееся; поэзия его не цельная, не единичная, а двойная, распадшаяся'
(Шевырев 1982:56).
Анализ
Шевырева произвел сильное впечатление на Гоголя и вполне совпал с собственным
самоощущением писателя6. Гоголь
целиком приемлет определение себя как 'двойного существа'7.
Раздвоение
отражается и в гоголевской концепции двух типов смеха, связанных с разными
типами миметизма и телесного поведения. Еще за шесть лет до статьи Шевырева, в
'Петербургских записках 1836 года' Гоголь теоретизировал по поводу двух видов
смеха - 'высшего', просветляющего, и 'низшего':
___________
6 Гоголь реагирует на статьи Шевырева
необычайно патетически. Он пишет ему 18 февраля 1843 года. 'Не могу и не в
силах я тебе изъяснить этого чувства, скажу только, что за ним всегда следовала
молитва, молитва, полная глубоких благодарностей богу, молитва вся из слез. И
виновником их не раз был ты И не столько самое проразуменье твое сил моих как
художника, которые ты взвесил эстетическим чутьем своим, как совпаденье душою,
предслышанье и предчувствие того, что слышит душа моя Выше такого чувства я не
знаю, его произвел ты Следы этого везде слышны во 2-й статье твоего разбора
"Мертвых душ", который я уже прочел несколько раз' (Гоголь 1988, т.
2. 294-295).
7 Общим местом стало
понимание гоголевских персонажей как воплощений 'собственных гадостей'
писателя, как бы зеркальных отражений низменного в нем самом При этом сам
Гоголь указывал, что изживает в персонажах низменное в себе, таким образом
производя себя 'высокого'. См. Жолковский 1994: 70-77. Переход Гоголя из низменного
в возвышенное, таким образом, весь осуществляется через раздвоение,
составляющее характерную черту гоголевского мира См Фенгер 1979: 236.
26
'...Комедия
строго обдуманная, производящая глубокостью своей иронии смех, - не тот смех,
который порождается легкими впечатлениями, беглою остротою, каламбуром, не тот
также смех, который движет грубою толпой общества, для которого нужны
конвульсии и карикатурные гримасы природы, но тот электрический, живительный
смех, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо от души,
пораженной ослепительным блеском ума, рождается из спокойного наслаждения и
производится только высоким умом' (Гоголь 1953, т. 6:111).
Высший
смех здесь определяется Гоголем через странный оксюморон. Он 'исторгается невольно' и 'свободно', при этом он рождается 'из спокойного наслаждения'. В
этой формуле очевидны разные ее истоки. 'Спокойное наслаждение' и 'высокий ум',
вероятно, восходят к шиллеровскому определению комедии, задача которой -
'зарождать и питать в нас <...> душевную свободу' (Шиллер 1957:418-419).
Идея
же 'живительного', 'электрического' смеха, который 'исторгается невольно и
неожиданно', восходит к Канту. Согласно Канту, 'смех есть аффект от внезапного
превращения напряженного ожидания в ничто' (Кант 1966: 352). Когда некое
напряжение разряжается в ничто, на смену напряжению приходит расслабление,
которое выражается и в телесной конвульсии. Кант настаивает на целительности
таких телесных содроганий:
'В
самом деле, если допустить, что со всеми нашими мыслями гармонически связано и
некоторое движение в органах тела, то нетрудно будет понять, каким образом
указанному внезапному приведению души то к одной, то к другой точке зрения для
рассмотрения своего предмета могут соответствовать сменяющиеся напряжения и
расслабление упругих частей наших внутренних органов, которое передается и
диафрагме (подобное тому, какое чувствуют те, кто боится щекотки); при этом
легкие выталкивают воздух быстро следующими друг за другом толчками и таким
образом вызывают полезное для здоровья движение; и именно оно, а не то, что
происходит в душе, и есть, собственно, причина удовольствия от мысли, которая в
сущности ничего не представляет' (Кант 1966: 353-354).
Таким
образом, 'живительный' смех у Канта совершенно противостоит идее свободы, он
действует помимо воли человека и именно через те конвульсии, которые Гоголь
относил к сфере 'низменного смеха'. Оппозиция между свободным и принудительным,
спокойным, светлым и мучительно-конвульсивным, становится существенной для
гоголевского творчества и его интерпретации критикой. Иван Сергеевич Аксаков в
некрологе Гоголю буквально опи-
27
сывает
писателя как своеобразную машину по трансформации конвульсивного в
созерцательное и спокойное:
'Пусть
представят они себе этот страшный, мучительный процесс творчества, прелагавший слезы в смех, и лирический жар любви и
той высокой мысли, во имя которой трудился он, - в спокойное, юмористическое
созерцание и изображение жизни. Человеческий организм, в котором вмещалась эта
лаборатория духа, должен был неминуемо скоро истощиться...' (Аксаков 1981: 251)
Сама смерть писателя понимается как результат такой титанической работы. Гоголь
преобразует слезы в смех ценой телесных усилий, позволяющих в конце концов
достичь высшей безмятежности созерцательного покоя. Конвульсивное как будто
гасится, поглощается телом, разрушающимся от постоянного с ним соприкосновения.
Писательское тело работает как энергетическая, силовая машина. Эту работу
Аксаков понимает именно как телесный подвиг.
Отношения
Гоголя с читателями в такой перспективе тоже могут описываться как странное
соотношение смеющихся читательских тел и спокойного, бесстрастного
писательского тела, взирающего на них сверху и преодолевающего в себе
миметическую заразительность смеха. Во время своего позднего богоискательского
периода писатель счел необходимым высказаться по поводу театра, искусства
подражания par excellence, которому сам он служил верой и правдой долгие годы.
Статья была вызвана традиционно негативным взглядом христианской церкви на
театр и была своеобразной попыткой оправдания. Называлась она 'О театре, об
одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности'. Гоголь здесь
противопоставляет два типа театра, соотносимые с двумя типами смеха. Первый тип
театра - позитивный, который он сравнивает с церковной кафедрой и который
строится на принципе сопереживания, когда толпа 'может вдруг потрястись одним
потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом'
(Гоголь 1992: 98)8. Этому 'высшему'
театру противопоставляется театр 'всяких балетных скаканий' (по существу, театр
конвульсий):
'Странно
и соединять Шекспира с плясуньями или плясунами в лайковых штанах. Что за
сближение? Ноги - ногами, а голова - головой' (Гоголь 1992: 98)9. От балета, от оперы общество 'становится
легким и ветреным'. Это осуждение плясунов кажется странным на фоне типичной
гого-
_________
8 Здесь Гоголь, разумеется, совсем не
оригинален, но следует традиционной теории симпатии или эмпатии. См. Маршалл
1988.
9 Тот же мотив встречается в
'Театральном разъезде', где Гоголь вкладывает в уста некоего господина
сравнение драматического автора с танцором. Сравнение это в устах невежды,
разумеется, в пользу танцора: 'Рассудите: ну, танцор, например, - там все-таки
искусство, уж этого никак не сделаешь, что он делает. Ну захоти я, например: да
у меня просто ноги не подымутся. А ведь писать можно не учившись' (Гоголь 1952,
т. 4: 271).
28
левской
преувеличенной моторики с ее танцевальностью и конвульсивностью. Водораздел
между 'высшим' и 'вредным' театрами, проходит, однако, не столько между разными
типами моторики, сколько между разными типами миметизма.
'Балетные
скакания' плохи потому, что они выучены и повторяются чисто механически. Здесь
как бы господствует самая примитивная миметическая форма реактивности. В
'высшем' театре заученности поведения противостоит особый тип реакции. 'Высший'
театр целиком строится вокруг 'высшего' актера, которого Гоголь называет
'мастером':
'Покуда
актеры не заучили еще своих ролей, им возможно перенять многое у лучшего
актера. Тут всяк, не зная даже сам каким образом, набирается правды и
естественности, как в речах, так и в телодвижениях. Тон вопроса дает тон
ответу. Сделай вопрос напыщенный, получишь и ответ напыщенный; сделай простой
вопрос, простой и ответ получишь. Всякий наипростейший человек уже способен
отвечать в такт. Но если только актер заучил у себя на дому свою роль, от него
изойдет напыщенный, заученный ответ, и этот ответ уже останется в нем навек...'
(Гоголь 1992: 103).
Таким
образом, позитивный театр - тоже миметичен, но мимесис тут строится иначе. Он
целиком определяется первоартистом, но не в плане механической реактивности, а
неким мистическим способом, 'не зная даже сам каким образом'. Речь идет,
например, о трансляции правды и естественности, но не в категориях
механического копирования движений, а в категориях некой 'эманации', исходящей
от тела 'мастера'. К телу этому в таком контексте предъявляется особое
требование- быть воплощением истины. Истина, излучаемая 'мастером', не может
передаваться телесным копированием его поведения. Она передается мимесисом
особого типа, как бы поверх телесной моторики. Поэтому столь существенно
подавление моторики в теле мастера. Чем ближе тело подходит к передаче
возвышенной идеи, тем более неподвижным оно становится. Конечно, Гоголь не
может назвать в качестве первоартиста Христа, но само родство 'высшего' театра
с церковью делает подобное сближение возможным10.
Речь идет о том, чтобы 'отвечать в такт' и таким образом 'набираться правды'.
Правда постигается в миметическом резонансе мистического толка, существующем по
ту сторону телесного.
В
том же случае, когда телесное движение допускается, резонанс этот предполагает
определенный тип телесной механики, построенный не на простом дублировании
движений, а на своего рода сбое,
_________
10 В 1844 году Гоголь посылает С Т.
Аксакову, М П. Погодину и С П. Шевыреву экземпляры 'Подражания Христу' Фомы
Кемпийского с призывом следовать этой книге См Гоголь 1988, т 2. 302.
29
неадекватности.
Речь идет о миметическом устройстве с нарушенной телесной непосредственностью.
Вот
как работает это устройство в знаменитом 'гуманном месте' 'Шинели', где
представлено нравственное перерождение петербургского чиновника, которому
открывается моральная истина в лице жалкого Акакия Акакиевича:
'Только
если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая
заниматься своим делом, он произносил: 'Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?'
И что-то странное заключалось в словах и голосе, с каким они были произнесены.
В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек,
недавно определившийся, который, по примеру других, позволил себе посмеяться
над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все
переменилось перед ним и показалось в другом виде. <... > И закрывал себя
рукой бедный молодой человек, и много раз содрогался...' (Гоголь 1952, т.
3:131-132) В целом сцена, конечно, следует схеме преображения смехового в
высокое (она описывает постепенную метаморфозу 'невыносимой шутки'). Но это
преображение следует определенным телесным законам. Вся описанная здесь цепочка
начинается с того, что нарушается механизированный режим существования
Башмачкина, его обычное переписывание прерывается (его толкают под руку), он
произносит свою знаменитую фразу каким-то 'странным голосом'. Речь идет о
нарушении той автоматизированной механики, которая ассоциируется с 'театром
балетных скаканий'. Толчок под руку как будто пробуждает странное
интонирование, сдвиг в голосоведении. Этот сдвиг (именно странность голоса и
слов) неожиданно останавливают молодого человека, который замирает как пронзенный, включая неподвижность в сюиту движений. И
далее нравственное перерождение шутника выражается в 'странных' жестах -
молодой человек закрывает себя рукой, содрогается.
Перед
нами все та же цепочка 'конвульсий', но производимых механизмом с нарушенным
миметизмом. Подражание здесь проходит через фазу своего рода паралича,
замирания. Конвульсии находятся в прямом соотношении с неподвижным телом
нравственного 'мастера'.
При
этом вся цепочка морального перерождения проходит помимо сознания молодого
человека (ср. с кантовским замечанием о мысли, 'которая в сущности ничего не
представляет'). Одно за другим тела вздрагивают, останавливаются, меняют свою
механику. Нравственное перерождение, описанное в 'гуманном' месте, поэтому
может быть представлено именно как цепочка неадекватных реакций, как миметизм с
нарушенной непосредственностью. Так осуществляется 'высшее' миметическое
постижение 'правды', когда 'всякий наипростейший человек уже способен отвечать
в такт'.
30
2. Смеховой миметизм
Казалось
бы, 'гуманное место' с его моралистическим пафосом и нарушенным миметизмом
противоположно фарсовому, примитивно смеховому типу поведения. В
действительности эта противоположность отнюдь не безусловна. Несмотря на многократно
декларированное неприятие фарса, Гоголь, однако, был весьма чувствителен к
'конвульсиям и карикатурным гримасам природы'. Владимир Набоков, например,
придавал особое значение гоголевскому утверждению, 'что самое забавное зрелище,
какое ему пришлось видеть, это судорожные скачки кота по раскаленной крыше
горящего дома...' (Набоков 1987:176).
Эта
садистическая комедия конвульсий была знакома Гоголю с детства, поскольку в
соседнем с отцовским поместье Дмитрия Прокофьевича Трощинского (бывшего
министра юстиции) среди прочих развлечений (заводилой которых был Василий
Афанасьевич Гоголь) особым успехом пользовались 'проказы' над умопомешанным
священником отцом Варфоломеем:
'Он
был главной мишенью для насмешек и издевательства, а иногда и побоев со стороны
не знавшей удержу толпы. Этого мало: была изобретена особая, часто
повторявшаяся потеха, состоявшая в том, что бороду шуту припечатывали сургучем
к столу и заставляли его, делая разные телодвижения, выдергивать ее по волоску'
(Вересаев 1990:34).
Такого
рода 'потехи' - чистая комедия конвульсий, в которой нет ничего смешного, кроме
нелепых телодвижений. Но сама непредсказуемая нелепость таких движений отчасти
(хотя бы чисто формально) сходна с телесной хореографией 'гуманного места',
хотя существо ее, конечно, принадлежит 'низменному', примитивно-миметическому.
Показательно,
что Гоголь превращает Чичикова в генератора такого рода примитивного (в том
числе и смехового) миметизма. Перед балом в городе N он упражняется перед
зеркалом:
'Целый
час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось
сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то
почтительное, но с некоторою улыбкою, то просто почтительное без улыбки;
отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков,
отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он
сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами
и сделал кое-что даже языком; словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один,
чувствуя притом, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не
заглядывает в щелку. Наконец он
31
слегка
трепнул себя по подбородку, сказавши: 'Ах ты, мордашка эдакой!', и стал
одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во время одевания:
надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенною
ловкостью и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело
маленькое невинное следствие: задрожал комод, и упала со стола щетка.
Появление его на бале произвело необыкновенное
действие' (Гоголь 1953, т. 5:167).
Чичиков
продолжает в обществе свои ужимки и 'антраша', а собравшиеся на балу вторят ему
как зеркало. Показательно, однако, что сюита его движений в каком-то смысле
непредсказуема, она построена на механике, существующей на грани между
автоматизированным повтором и неловкостью, - недаром он почти обрушивает комод.
При этом Гоголь описывает воздействие Чичикова через развернутую метафору
смеха, заражающего присутствующих вопреки их воле и разуму, хотя в поведении
Чичикова, собственно, нет ничего смешного:
'...Словом,
распространил он радость и веселье необыкновенное. Не было лица, на котором бы
не выразилось удовольствие или по крайней мере отражение всеобщего удовольствия. Так бывает на лицах чиновников во
время осмотра приехавшим начальником вверенных управлению их мест: после того
как уже первый страх прошел, они увидели, что многое ему нравится, и он сам
изволил, наконец, пошутить, то есть произнести с приятною усмешкой несколько
слов - смеются вдвое в ответ на это обступившие его приближенные чиновники;
смеются от души те, которые, впрочем, несколько плохо услыхали произнесенные им
слова, и, наконец, стоявший далеко у дверей у самого выхода какой-нибудь
полицейский, отроду не смеявшийся во всю жизнь свою и только что показавший
перед тем народу кулак, и тот по неизменным законам
отражения выражает на лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка более
похожа на то, как бы кто-нибудь собирался чихнуть после крепкого табаку'
(Гоголь 1953, т. 5:168. - Выделено мной).
То,
что происходит на балу, подобно
смеху, но к комическому прямого отношения не имеет. Показательно, что Гоголь
лишь использует развернутую метафору смеха, определяя происходящее 'законом
отражения', что, собственно, и объясняет странную репетицию Чичикова перед
зеркалом. Когда Чичиков каким-то удивительным жестом треплет себя по подбородку
и говорит себе: 'Ах ты, мордашка эдакой!', он лишь репетирует в зеркале реакцию
на себя окружающих. Действия и ужимки его бессмысленны, они свидетельствуют о
раздвоении Чичикова, его умножении в зеркальной
32
игре
имитаций, в которой уже нет оригинала, а есть только паясничанье копий. В
каком-то смысле это умножение симулякров соотносимо с 'двойным существом'
самого Гоголя в описании Шевырева, когда личность лишается некоего
индивидуального ядра и начинает пониматься лишь как система удвоений и
взаимоотражений. (Но между Гоголем и Чичиковым как будто есть существенная
разница. Чичиков зеркально удваивает себя, Гоголь отчуждает себя от
имитирующего его тела, хотя и нуждается в нем11.
Тот, кто ему подражает, должен быть на
него не похож. Ведь лишь отсутствие сходства свидетельствует о достижении
'высшего' типа миметизма12.)
Достоевский
тонко почувствовал эту игру удвоений, спародиро-
___________
11 Ср. с зафиксированным Анненковым
отношением Гоголя к своему подражателю Евгению Павловичу Гребенке: 'Вы с ним
знакомы, - говорил Гоголь, - напишите ему, что это никуда не годится. Как же
это можно, чтобы человек ничего не мог выдумать. Непременно напишите, чтобы он
перестал подражать. Что же это такое в самом деле? Он вредит мне. Скажите
просто, что я сержусь и не хочу этого. <... > Зачем же он в мои дела
вмешивается? Это неблагородно, напишите ему' (Анненков 1952: 246). Гоголь явно
не хочет увидеть себя в поведении другого.
12 Гоголь отчуждается от прямого
миметического поведения, подчеркивая совершенную бессодержательность
миметического автоматизма. В самом начале 'Мертвых душ' Гоголь дает развернутое
сравнение посетителей губернаторской вечеринки с мухами:
'Черные
фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом
сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета < .. > они влетали вовсе
не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по
сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать
ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у
себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми
докучными эскадронами' (Гоголь 1953, т. 5: 14).
Шевырев
выделяет это развернутое сравнение из массы сходных и пытается найти ему
гомеровские эквиваленты:
'Всмотритесь
в этих мух: как они грациозны и как тонко заметил Поэт все их маленькие
движения! Приведем несколько подобных сравнений из Гомера' (Шевырев 1982: 67).
Шевырев
приводит ряд примеров из 'Илиады', где толпы сравниваются с роями пчел, осами и
мухами. Например. 'Они толпились около мертвого, как мухи в хлеву жужжат вокруг
подойников, переполненных молоком, в весеннюю пору, когда оно льется через край
в сосуды' (XVI, 641-643). - Шевырев 1982: 67. Разумеется, гоголевское сравнение
принципиально отлично от клишированных эпических сравнений Гомера. Гоголь здесь
сосредоточивается на совершенной машинальности, автоматизированности поведения
абсолютно неотличимых созданий. Шевырев же читает это описание как эпически
отстраненный, незаинтересованный взгляд с высоты Конвульсивное или просто
бессознательно автоматизированное тело в описании Гоголя еще в большей степени
выявляет свою бессознательность, которая и перерабатывается в надэмоциональное
и 'свободное'. На этом примере хорошо видно, как Гоголь перерабатывает
низменное в возвышенное. Предельно механизированное превращается в абсолютно
свободное. И превращение это целиком строится вокруг зеркального умножения тел.
Именно множество 'черных фраков' и делает их движения одноообразно
бессмысленными и превращает их в насекомых.
33
вав
поведение Чичикова в сцене бала в 'Двойнике', где Голядкин, уже на грани
удвоения, повторяет жест Чичикова:
'Эх
ты, фигурант ты этакой! - сказал господин Голядкин, ущипнув себя окоченевшею
рукою за окоченевшую щеку,- дурашка ты этакой, Голядка ты этакой...'
(Достоевский 1956, т. 1: 241)
Достоевский
даже стремится сохранить звучание реплики Чичикова (мордашка - дурашка). Жест
же окоченевшей руки, хватающей окоченевшую щеку, у него - знак наступающего
самоотчуждения Голядкина в собственном зеркальном подобии.
Во
втором томе 'Мертвых душ' Гоголь дает иную, но также чрезвычайно выразительную
картину смеховой имитации у Чичикова:
'"Ха,
ха, ха, ха!" - И туловище генерала стало колебаться от смеха. Плечи,
носившие некогда густые эполеты, тряслись, точно как бы носили и поныне густые
эполеты.
Чичиков
разрешился тоже междометием смеха, но, из уважения к генералу, пустил его на
букву е: хе, хе, хе, хе, хе! И
туловище его также стало колебаться от смеха, хотя плечи и не тряслись, потому
что не носили густых эполет' (Гоголь 1953, т. 5: 300).
Вновь
мы имеем дело с конвульсиями, имитируемыми на уровне телесной моторики.
Такого
рода поведение, особенно хорошо выраженное в ситуации смеха, действующего 'по
законам отражения', то есть исключительно миметически, вызывает вопрос: что оно
означает, каков смысл этого автоматизированного миметизма? Что он, используя
выражение Эйхенбаума, 'воспроизводит'? Для Эйхенбаума в этой ситуации первичным
был голосовой жест Гоголя. Недаром он обращает внимание на богатое гоголевское
интонирование во время чтения своих произведений. Никто из современников,
правда, не отмечал в гоголевском чтении гротескных ужимок и чичиковских антраша.
Отмечались скорее простота, содержательность и даже торжественность каждого
интонационного нюанса. Эйхенбаум, например, приводит такую характеристику
гоголевского чтения, данную П. В. Анненковым:
'Это
было похоже на спокойное, правильно-разлитое вдохновение, какое порождается
обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Н. В. <...> продолжал новый
период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслию'
(Эйхенбаум 1969: 309). Эйхенбаум отсылает к авторской интонации по понятной
причине. Если принять ее за генератор миметических процессов, то им придается
определенная содержательная глубина. Поведение героев, телесный жест,
проступающий в тексте, отсылают в таком случае к
34
интонационному
богатству, порождаемому 'сосредоточенным чувством и мыслию'. Эйхенбаум делает
нечто подобное тому, что осуществляет сам Гоголь, противопоставляя чистой
гротескной конвульсии высший юмор, пророческий и меланхолический.
Если
же принять, как я к тому склоняюсь, 'бессмысленную', чисто телесную конвульсию
за первоимпульс миметического процесса, то ситуация меняется. Впрочем, само
понятие первоимпульса становится сомнительным в системе зеркальных повторений,
в которых инициатор миметического процесса 'отделяется' от себя самого.
Для
того чтобы ответить на поставленный вопрос, следует сказать несколько слов о
смехе, который в рамках гоголевского комизма выполняет основную миметическую
функцию.
Смех
организует микрогруппу, тесно объединяющую людей. Люди, не включенные в группу
смеющихся, чувствуют себя чужаками, покуда не подключаются к общему смеху (Жорж
Батай, например, считал смех одним из фундаментальных коммуникационных
процессов). Это подключение одновременно выражает регрессию на более низкую
психическую стадию. В человеческом теле моторные и экспрессивные движения не
отделены до конца друг от друга, хотя общая эволюция homo sapiens была
ориентирована на специализацию выразительных движений в основном на лице
(патогномика) и на закреплении чистой моторики в основном за руками и ногами.
Эта дифференциация связана с тем, что рот становится органом речи - то есть
выразительности в самой концентрированной форме.
Смех
обыкновенно начинается на лице как выразительное движение (улыбка), а затем
постепенно распространяется на тело (у Гоголя даже как бы вне тела - на несуществующие
'густые эполеты'). Таким образом, движение, первоначально задаваемое как
дифференцированное и выразительное, превращается в чистую моторику. Регресс
идет по пути пространственной иррадиации движения от органа речи, рта - вокруг
которого формируется первая улыбка - к конечностям.
Лицо
в такой ситуации как бы растворяется в теле (о взаимопроекциях лица и тела см.
главу 8). Если вспомнить поведение Чичикова перед зеркалом как первоначальную
репетицию такого миметического процесса, кончающегося смехом-чиханием отроду не
смеявшегося полицейского, то мы увидим, что первоначально Чичиков целиком
сосредоточен на лице, он подмигивает бровью и губами, кое-что делает языком,
треплет себя по подбородку - первое распространение чисто мимической игры на
тело, - а затем кончает расшаркиванием, раскланиванием и антраша. Эрнст Крис
называет такую экспрессивность всего тела, toto corpore, архаическим типом
экспрессивности, подавляемым современной цивилизацией.
В
определенных типах смеха тело подвергается конвульсиям,
35
отчуждающим
его от него самого, делает тело чужим, не зависимым от воли смеющегося. По
мнению Жоржа Батая, тем самым оно 'сводится к безличному состоянию живой
субстанции:
оно
выходит из-под собственного контроля, открывается другому...' (Батай 1973: 392)
Момент
смеха - момент интенсивнейшей коммуникации, однако совершенно безличной,
открытой для любого вновь пришедшего. Смех всегда предполагает ситуацию
'удвоения', самоотчуждения и дистанцирования. Согласно замечанию Поля де Мана,
смех- это всегда 'отношение <...> между двумя "Я", но это еще
не межсубъектное отношение' (Де Ман 1983: 212). В смехе коммуницируют не
человеческие индивиды, а их овеществленные, регрессировавшие тела, их
обезличенные 'Я'. 'Окоченевшие пальцы', 'окоченевшая щека' - это только знаки
такого пугающего омертвления. В ситуации конвульсивного смеха всегда
присутствует мираж трупа, взаимопритяжение открытых навстречу другу, 'падающих'
(по выражению Батая) друг в друга тел. Такой смех часто возникает вокруг ядра
почти животного ужаса, вокруг смердящей и пугающей сердцевины13. Батай называл такой смех
'медиатизированньм':
'Если
в коммуникативное движение чрезмерности и общей радости вторгается средний
член, причастный к природе смерти, то происходит это в той мере, в какой то
темное, отталкивающее ядро, к которому тяготеет все возбуждение, превращает
категорию смерти в принцип жизни, падение - в принцип фонтанирования' (Батай
1979: 205).
Смех,
таким образом, медиатизирует, сближает противоположное. Характеризующий его
регресс, этот отказ от ego и неожиданное в смехе раскрепощение id, обнаруживает
важнейшее свойство смеха:
'Оно не имеет выразительного поведения.
Очень сильные эмоциональные состояния имеют сходные характеристики: в состоянии
гнева выражение лица может превратиться в гримасу, в моменты самого острого
отчаяния наружу прорываются ритмические движения - приступы неконтролируемых
рыданий или крика. Нечто сходное происходит в моменты хохота, и мы можем
убедиться в том, сколь узка грань, разделяющая выражения от противоположных аффектов'
(Крис 1967: 225).
_________
13 В 'Театральном разъезде' Гоголь
пишет о 'холодном' смехе и говорит об ужасе, который навевают на него живые
мертвецы. При этом само понятие мертвеца определяется им через неспособность к
симпатической реактивности: 'Ныла Душа моя, когда я видел, как много тут же,
среди самой жизни, безответных, мертвых обитателей, страшных недвижным холодом
души своей и бесплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на бесчувственных
их лицах не вздрагивал даже ни призрак выражения от того, что повергало в
небесные слезы глубоко любящую Душу' (Гоголь 1952, т. 4: 274). Смех в таком
контексте - 'электрический' и 'живительный', он приводит тело в движение, как
гальванизированный труп.
36
Смех
смешивает различные аффекты, снимает дифференциацию в сфере выразительности.
Он, по существу, реализует медиацию между 'высоким' и 'низким', утрачивающими в
сфере его действия не просто противоположность, но даже различимость. Странным
образом медиация эта осуществляется по мере нарастания бессодержательности, а
следовательно, и недифференцированности телесного поведения.
Все
поведение Чичикова перед зеркалом отмечено тем же нарастанием
'бессодержательного' кривляния. Первоначально он перед зеркалом 'примеряет'
'множество разных выражений': 'то важное и степенное, то почтительное, но с
некоторою улыбкою, то просто почтительное без улыбки'. Гоголь специально
отмечает чрезвычайно тонкую нюансировку выражений. Все они еще могут быть
включены в системы неких значимых оппозиций. Но постепенно выразительность уступает
место 'бессодержательной' моторике: 'Он сделал даже самому себе множество
приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал кое-что даже языком'.
Постепенно эти 'кривляния' распространяются на все тело и завершаются
'антраша'. Эти антраша уже никак нельзя определить как 'важные', 'почтительные'
или 'степенные'. Они не поддаются определению, потому что выходят за рамки
выразительного. Характерно, что эта десемантизация телесной моторики
сопровождается 'неясными звуками', 'похожими на французские', то есть утратой
речевой членораздельности. 'Высокое' сближается здесь с 'низким', мычание
имитирует аристократический французский.
Смех
'взрывается', он с необыкновенной силой возникает изнутри, но его явление это
одновременно и отказ от присутствия, это явление чего-то сметаемого прочь самим
явлением. Жан-Люк Нанси окрестил его 'представлением невозможного присутствия'
(Нанси 1993: 377-378). Он задает присутствие как распад. Генерирующее смех тело
как бы исчезает, дистанцируется от самого себя до полного исчезновения.
Одной
из характерных черт смеховой мимики является разрушение экспрессивности. То,
что в рамках выразительности можно определить как целостный гештальт (лицо,
например, в системе выразительности - это образ, обладающий индивидуальностью и
единством смысла), разрушается, фрагментируется, рассыпается и предъявляет
наблюдателю некоего монстра. Вот как описывает Набоков миметическую смеховую
суггестию у Пнина, русского профессора, читающего русскую комедию XIX века
американским студентам, не способным на уяснение 'хоть какой ни на есть
забавности, еще сохранившейся в этих отрывках':
'Наконец,
веселье становилось ему непосильным, грушевидные слезы стекали по загорелым
щекам. Не только жуткие зубы его, но и немалая часть розоватой де-
37
сны
выскакивала вдруг, словно черт из табакерки, рука взлетала ко рту, большие
плечи тряслись и перекатывались. И хоть слова, придушенные пляшущей рукой, были
теперь вдвойне неразличимы для класса, полная его сдача собственному веселью
оказывалась неотразимой. К тому времени, когда сам он становился совсем
беспомощным, студенты уже валились от хохота: Чарльз прерывисто лаял, как
заводной, ослепительный ток неожиданно прелестного смеха преображал лишенную
миловидности Джозефину, а Эилин, отнюдь ее не лишенная, студенисто тряслась и
неприлично хихикала' (Набоков 1993:163). Распад физиогномики Пнина -
необходимое условие нарастающего в группе миметизма. Элементы механичности в
поведении Пнина (десна, выскакивающая, словно черт из табакерки; взлетающая ко
рту рука и т. д.) отражаются в чисто механическом поведении студентов: лающем,
как заводном, Чарльзе, трясущемся теле Эйлин. Миметизм действует, снимая
различия между членами группы, соединяя их между собой как части единой,
трясущейся и дрожащей машины.
Именно
это снятие различий и делает героев миметических цепей своеобразными
двойниками. При этом комически гротескное тело вызывает не просто удвоение,
дистанцирование или, наоборот, миметическую идентификацию с ним. Оно
оказывается телом-посредником, через которое дистанцирование постоянно
переходит в идентификацию и наоборот. Ханс Роберт Яусс заметил:
'Смех
над одним из вариантов комического героя часто превращается в смех вместе с
ним. Первоначально мы, вероятно, смеялись над Лисом, Ласарильо, Фальстафом,
мистером Пиквиком, но затем мы осознали, что неожиданно присоединились к ним в
их смехе' (Яусс 1982: 195).
Такая
ситуация предполагает наличие некой 'мерцающей' точки зрения, которая
одновременно дистанцирована от персонажа и вместе с тем почти склеена с ним.
Эта двойственность точки зрения лучше всего выражается в двойнике - неком теле,
как бы существующем вне своего 'оригинала', но вместе с тем от него практически
неотделимом.
3. Удвоение и демон Сократа
Юрий
Лотман объясняет вранье Хлестакова тем, 'что в вымышленном мире он может перестать быть самим собой, стать другим, поменять первое и третье лицо
местами, потому что сам-то он глубоко убежден в том, что подлинно интересен
может быть только 'он', а не 'я'.
38
<...>
То раздвоение, которое станет специальным объектом рассмотрения в 'Двойнике'
Достоевского и которое совершенно чуждо человеку декабристской поры, уже
заложено в Хлестакове...' (Лотман 1992, т. 1: 345) Гоголь не просто раздваивает
Хлестакова через вранье, он одновременно подчеркивает специфическую механистичность
его поведения. В 'Замечаниях для господ актеров' Гоголь так характеризует
Хлестакова:
'Говорит
и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить внимания на
какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст совершенно неожиданно'
(Гоголь 1952, т. 4: 281). Хлестаков как будто воплощает в себя кантовскую
концепцию смеха, с ее неожиданным
срывом в 'ничто'. Он является знакомой нам уже машиной с нарушенным
автоматизмом поведения. В письме-наставлении Михаилу Щепкину (10 мая 1836 г.)
Гоголь особенно настаивает на 'отрывочности' хлестаковской пластики:
'Каждое
слово его, то есть фраза или речение, есть экспромт совершенно неожиданный и
потому должно выражать отрывисто. Не должно упустить из виду, что в конце этой
сцены начинает его мало-помалу разбирать. Но он вовсе не должен шататься на
стуле; он должен только раскраснеться и выражаться еще неожиданнее, и чем
далее, громче и громче' (Гоголь 1988, т. 1: 451). В сцене вранья, о которой
говорит Гоголь, Хлестаков становится наконец главным миметическим телом всей
пьесы, и окончательное утверждение в этой роли совпадает с подчеркиванием
непредсказуемой отрывочности его поведения. Хлестаков буквально сам не знает,
что будет следующим экспромтом его не контролируемого сознанием тела. Любопытно
указание Гоголя на то, что Хлестаков не должен раскачиваться на стуле. Такое
раскачивание также относится к разряду автоматизированных, механических
движений, но оно обладает предсказуемостью.
Миметическое
тело в полном смысле этого слова не должно капсулироваться в автономности
ритмически однообразного движения, оно должно быть чутко настроено вовне.
Будучи центром миметических процессов, происходящих в пьесе, Хлестаков как бы
раздваивается. Его тело ведет себя так, как будто оно реагирует на иное,
невидимое тело, чью логику оно не может рассчитать, оно входит в
соприкосновение с тем самым 'демоном', о котором я упоминал выше.
Известно,
что Сократ считал, будто его сопровождает некий демон (гений), который, по
сведениям Платона, дает ему советы, останавливает его, когда он хочет совершить
'неправильный' поступок, а по мнению Ксенофона, активно побуждает его к
действиям. Гегель, уделивший демону Сократа значительное внимание, связы-
39
вает
его с неспособностью греков принимать решение, руководствуясь внутренними
побуждениями. Оракул - это способ передачи решения 'внешнему факту'. Демон
Сократа, по мнению Гегеля, - это 'оракул, который вместе с тем не представляет
собой чего-то внешнего, а является чем-то субъективным, есть его оракул' (Гегель 1932: 66). Речь идет
о процессе проекции вовне внутреннего решения и одновременно интериоризации
'внешнего' решения.
Плутарх,
например, объяснял феномен сократовского демона тем, что душа, проникая в
плоть, становится иррациональной. Наиболее же чистая, рациональная,
интеллектуальная часть души у некоторых как бы остается над телом, поднимаясь
вверх над головой человека. Интеллект у таких людей как бы оказывается вне
плоти и говорит с телом извне:
'Теперь
та часть, которая погружена в тело, называется "душой", в то время
как часть, неподвластная смерти, обычно называется "разумом" и
считается внутренней способностью, так же как предметы, отраженные в зеркалах,
кажутся внутри зеркал. Тем не менее всякий, кто понимает этот предмет
правильно, называет ее "божеством" из-за того, что она существует
вовне' (Плутарх 1992: 344).
Закономерно
Гегель усматривает в Сократе важный этап развития связи индивидуума с 'реальным
всеобщим духом', демон же выступает в качестве воплощения такой формирующейся
связи. Гегель пишет:
'Так
как у Сократа внутреннее решение только что начало отделяться от внешнего
оракула, то было необходимо, чтобы это возвращение в себя появилось здесь при
его первом выступлении еще в физиологической форме <...>. Демон Сократа
стоит, таким образом, посредине между внешним откровением оракула и чисто
внутренним откровением духа; он есть нечто внутреннее, но именно таким образом,
что он представляет собой особого гения, отличного от человеческой воли, но еще
не ум и произвол самого Сократа. Более пристальное рассмотрение этого гения
показывает нам поэтому форму, приближающуюся к сомнамбулизму, к раздвоенности
сознания, и у Сократа, по-видимому, мы явно находим нечто вроде магнетического
состояния, ибо он, как мы уже упомянули, часто впадал в оцепенелость и каталепсию'
(Гегель 1932: 68-69).
Гегелевский
анализ интересен для нас потому, что он связывает определенные формы сознания,
вернее переход от одной формы сознания (и, как мы бы уточнили сегодня, -
дискурса) к другой форме через чисто физиологический тип реакции. Переход от
внешнего к внутреннему, от абстрактного, всеобщего к индивидуальному вы-
40
ражается
у Сократа в расщеплении сознания и тела, в проявлении неожиданного автоматизма,
механичности (сомнамбулизм, каталепсия). Речь идет, таким образом, и о
нарушении нормальной динамики тела, с которой как-то связан демон Сократа.
Ситуация
сократовского магнетизма (безусловно связанная с миметической энергией, которую
Сократ проецировал на окружающих) предполагает как бы извлечение 'духа' из
сократовского тела, трансформацию этого тела в миметическую марионетку,
следующую за отчужденным от Сократа демоном. Сам Сократ становится
'магнетическим' только через эту стадию раздвоения и механизации собственной
телесности. Таким образом, миметический процесс, инициируемый Сократом,
отражает не столько даже связь тела-куклы с овнешненной, принявшей облик демона
субъективностью, сколько ситуацию перехода от одного типа дискурса и сознания к
другому. По выражению Гегеля, 'это возвращение в себя появилось здесь при его
первом выступлении еще в физиологической форме'. Меня, собственно, и
интересует, что означает каталептическая, сомнамбулическая физиологическая
форма, что она отражает, что мимирует. Ведь отрывистость и неожиданность
телесного поведения Хлестакова также относится к каталептическому
сомнамбулизму.
Вслед
за Гегелем демон Сократа заинтересовал Кьеркегора14.
Последний обратил внимание на два свойства демона - невокализуемость его голоса
и нежелание давать позитивные, побуждающие советы. Тот факт, что голос демона
не слышен и он лишь предупреждает 'неправильные' действия, по мнению
Кьеркегора, говорит о негативной природе демона, противостоящей позитивности
классического греческого красноречия:
'На
место этого божественного красноречия, реверберирующего во всех вещах, он подставил
молчание' (Кьеркегор 1971:188).
Демон
конкретно выражает ироническую, то есть негативно-дистанцированную позицию
Сократа как по отношению к материальной реальности, так и к идее: '...Идея
становится пределом, от которого Сократ с ироническим удовлетворением вновь
повернулся внутрь себя' (Кьеркегор 1971: 192). Негативная дистанцированность,
по мнению Кьеркегора, становится 'моментом исчезновения' всей иронической
системы.
Гоголь
был, разумеется, иронистом, он и сам себя таковым считал, например, когда утверждал,
что его комедия 'производит смех' 'глубокостью своей иронии' (Гоголь 1953, т.
6: 111). Ироничность
__________
14 Я имею в виду, конечно, лишь
относительно близкую к нам по времени интеллектуальную традицию Вероятно, одним
из первых трактатов о демоне Сократа следует считать трактат Апулея 'De deo
Socratis' 0 более почтенной традиции интерпретации фигуры демона (или гения) см
Нитцше 1975
41
Гоголя,
как это ни парадоксально, явилась почвой, на которой возник и развился
гоголевский мессианизм. Ведь именно ироническая позиция позволяет подняться над
реальностью, занять по отношению к ней иронически-дистанцированную, почти
божественную позицию. Кьеркегор писал:
'Благодаря
иронии субъект постоянно выводит себя за пределы и лишает все явления их
реальности во имя спасения себя самого, то есть для сохранения своей негативной
независимости по отношению ко всему' (Кьеркегор 1971:274).
В
принципе это удаление от 'тщеты' мира может быть, в некоторых случаях, в том
числе и в гоголевском, почвой для постулирования иной, единственно абсолютной
реальности - реальности Бога.
Удваивание
в демоне есть дистанцирование телесности по отношению к идее. Это значит, что
тело ведет себя тем или иным образом не потому, что оно выражает некое
содержание, не потому, что оно включено в систему платоновского мимесиса, а
потому, что оно соотнесено с другим, пусть невидимым телом - демоном. Гоголь в
моторике своего чтения постоянно разыгрывает соотнесенность с некой
содержательной глубиной. 'Правильно-разлитое вдохновение, какое порождается
обыкновенно глубоким созерцанием предмета', медленная патетика жестов, которые
Гоголь производил, при чтении соотносят его телесность с некой идеей. Его жесты
выстраиваются в 'логическую' цепочку, по-своему имитирующую логику продуманной
речи. Хлестаков ведет себя прямо противоположно, он отрывочно и неожиданно
копирует действия, производимые неким невидимым двойником, находящимся между
ним и идеей. Отсюда конвульсивность и нелогичность его моторики. Хлестаков
'повернут к себе от Идеи'. Он отгорожен от идеи невидимым телом, или удвоением
своей телесности. Между его поведением и Идеей находится фильтр двойничества,
который я и называю демоном.
Таким
образом, позиция ирониста, позиция дистанцирования, которая может быть
соотнесена с точкой зрения линейной перспективы, предполагающей наличие
пространства между наблюдателем и репрезентируемым пространством, с одной
стороны, задается демоном или гением, а с другой стороны, им же и разрушается.
Ведь именно тело демона 'поднесено' к 'глазам' так близко, что разрушает всякое
репрезентативное пространство, тем самым подрывая 'божественную' позицию
ирониста, который наблюдает за всем происходящим с недосягаемой высоты.
Демон
- совершенно особое тело. Поскольку он является чистой фикцией, 'исчезающим
моментом' иронической системы как системы чистой дистанцированности, то его
тело можно определить как 'негативное' тело. Это тело, выраженное в неком
зиянии, пустоте, не предполагающей, однако, перспективы зрения. Это скорее-
тактильная пустота. Оно и выражает себя в отрывочной моторике
42
копирующего
его персонажа, как пустота, как провал. Возникает такое ощущение, что
человек как бы облокачивается на пустоту, на небытие и совершает отрывочное
движение, чтобы восстановить пошатнувшийся баланс. Если бы эта пустота была
доступна зрению, то имитирующее действие лишилось бы своей отрывочности.
Отрывочность детерминируется и отсутствием видимого 'промежутка'. Само
пространство видения задает, предполагает некое время (а потому и определенную
инерцию) для копирования. Удаленный сигнал действует менее неожиданно, чем
максимально приближенный.
В
ослабленной форме сама отчужденность гоголевского поведения превращает его тело
в некое подобие такого миметического негативного присутствия. Гоголь со своим
'двойным существом' постоянно включается в ситуации миметического умножения.
Наиболее стандартной ситуацией такого рода были знаменитые гоголевские устные
чтения. Писатель придавал им первостепенное значение, а в статье 'Чтения
русских поэтов перед публикой' (1843) обосновывал значение чтений особым
характером русского языка, звуковой строй которого самой природой якобы
предназначен для перехода от низкого к высокому:
'К
образованию чтецов способствует также и язык наш, который как бы создан для
искусного чтения, заключая в себе все оттенки звуков и самые смелые переходы от
возвышенного до простого в одной и той же речи. Я даже думаю, что публичные
чтения со временем заменят у нас спектакли' (Гоголь 1953, т. 6:123).
В
чтении, по мнению Гоголя, обнаруживается скрытая в голосе миметическая сила,
по-своему связанная с самим процессом раздвоения:
'Сила
эта сообщится всем и произведет чудо: потрясутся и те, которые не потрясались
никогда от звуков поэзии' (Гоголь 1953, т. б: 124).
При
этом 'чтение это будет вовсе не крикливое, не в жару и горячке. Напротив, оно
может быть даже очень спокойное...' (Гоголь 1953,т. 6: 124).
Как
видно, в ситуации чтения как раз и осуществляется, с одной стороны, олимпийское
отстранение в формах полного спокойствия, некой негативности, а с другой
стороны, конвульсивное потрясение через мимесис 'силы'.
Воспоминания
современников, в которых чтениям Гоголя постоянно отводится особое место,
отмечают странность писательского поведения при чтении его произведений.
Николай Берг, например, вспоминал о поведении Гоголя во время чтения его
произведений Щепкиным в 1848 году:
'Гоголь был тут же. Просидев совершенным истуканом в
углу, рядом с читавшим, час или полтора, со взгля-
43
дом,
устремленным в неопределенное пространство, он встал и скрылся...
Впрочем,
положение его в те минуты было точно затруднительное: читал не он сам, а
другой; между тем вся зала смотрела не на читавшего, а на автора...' (Берг
1952:502).
Раздвоение
здесь принимает совершенно физический характер. При этом голосу и телу Щепкина
передается вся миметическая функция. Гоголь же, совершенно в духе шевыревского
'двойного существа', целиком принимает на себя функции полного отчуждения от
'здесь-и-теперь', физически выраженной 'негативности'. Это выражается
устремлением взгляда в некое 'неопределенное пространство' и полной телесной
статуарностью. Тело как будто выводится из-под контроля чувств и совершенно
самоотчуждается. Разрушение экспрессивности ('истукан') здесь негативно
соотносится со сходным же разрушением в пароксизме смеха. Можно также
предположить, что щепкинское чтение вызывало в читателях смех, а гоголевская
маскообразная неподвижность его блокировала, подавляла.
Павел
Васильевич Анненков вспоминал, как Гоголь диктовал ему в Риме главы из 'Мертвых
душ'. Гоголь диктовал спокойным, размеренным тоном:
'Случалось
также, что, прежде исполнения моей обязанности переписчика, я в некоторых
местах опрокидывался назад и разражался хохотом. Гоголь глядел на меня
хладнокровно, но ласково улыбался и только проговаривал: 'Старайтесь не
смеяться, Жюль'. <... > Впрочем, сам Гоголь иногда следовал моему примеру
и вторил мне при случае каким-то сдержанным полусмехом, если могу так
выразиться. Это случилось, например, после окончания 'Повести о капитане
Копейкине' <...>. Когда, по окончании повести, я отдался неудержимому
порыву веселости, Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз спрашивал:
"Какова повесть о капитане Копейкине?"' (Анненков 1952:271).
Анненков
в данном случае выступает как авторский двойник. Гоголь, как полагается, сейчас
же принимает на себя роль отчужденного, холодного наблюдателя, демона. Ведет он
себя странно. Он бесстрастно читает текст, вызывающий у Анненкова взрывы
хохота, и одновременно просит его не смеяться. Он генерирует смех и тут же его
подавляет. Он жаждет читательского смеха, но в полную меру утверждает себя,
поднимаясь над той миметической телесной реакцией, которую он же столь
неотразимо вызывает. Так работает гоголевская демоническая машина по
превращению 'низкого' в 'высокое', машина, разрушающая, по мнению Аксакова, его
собственное тело.
44
Рассматривая
становление диалогического дискурса у Достоевского, Михаил Бахтин выводит его,
по существу, из ситуации наличия невидимого демона. Уже в речи Макара Девушкина
в 'Бедных людях' Бахтин обнаруживает 'стиль, определяемый напряженным предвосхищением
чужого слова' (Бахтин 1972: 351). Эта вписанность невидимого собеседника в речь
Девушкина приводит к искажению речевой пластики. Бахтин определяет возникающий
стиль как 'корчащееся слово с робкой и стыдящейся оглядкой и приглушенным
вызовом' (Бахтин 1972: 352). Оглядка, корчи - все эти телесные метафоры имеют
смысл лишь постольку, поскольку они отсылают к негативному, а по существу
мнимому, присутствию Другого. Бахтин идет еще дальше и придумывает 'взгляд
чужого человека', якобы воздействующий на речь Макара Девушкина:
'Бедный
человек <...> постоянно чувствует на себе 'дурной взгляд' чужого
человека, взгляд или попрекающий, или- что, может быть, еще хуже для него-
насмешливый <...>. Под этим чужим взглядом и корчится речь Девушкина'
(Бахтин 1972: 353-354). Философски эта ситуация предвосхищает знаменитые
построения Сартра, когда последний выводит весь генезис мира Жана Жене из
взгляда, обращенного на него в детстве (Сартр 1964: 26-27), или описывает
функцию взгляда в трансформации субъективности в 'Бытии и ничто' (Сартр 1966:
340-400), Здесь, однако, ситуация несколько иная, чем у Сартра. Видимое тело,
тело, на которое обращен взгляд, производит какую-то особую речь, миметически
отражающую конвульсии тела под обращенным на него взглядом. Привалы, несообразности,
пустоты и заикания в речи оказываются пустотами, мимирующими отсутствующее, но
видящее тело. Тело, превращенное во взгляд, сведенное к чистому присутствию
(подобному 'истуканному' присутствию Гоголя на чтениях Щепкина), к некой
бестелесной субъективности, отчужденной от говорящего, направленной на него
извне.
Ситуация
эта крайне интересна тем, что еще не содержит в себе развернутого диалогизма в
бахтинском понимании, а является лишь его зародышем. Здесь еще нет
диалогического взаимодействия двух соотнесенных между собой речевых потоков
(чуть ниже Бахтин проделает эксперимент, развернув монолог Девушкина в
воображаемый диалог с 'чужим человеком'). Протодиалогизм возникает здесь как
взаимодействие высказывания и видимости, речевого и видимого. И это
взаимодействие выражается в корчах речи, иначе говоря, в ее деформациях. Взгляд
может отразиться в речи как ее 'провал', как некий мимесис пустоты. Демон
Макара Девушкина молчит, 'не вокализуется', если использовать выражение
Кьеркегора, потому что он есть парадоксальная негативность необнаружимого
присутствия - взгляд без тела. И этот бестелесный взгляд дистанцирует речь от
'идеи', от 'реальности', вписывая в нее пустоту провалов и деформаций.
45
Проблема
взгляда возникает в книге Бахтина еще раз, когда он разбирает 'Двойника':
'В
стиле рассказа в 'Двойнике' есть еще одна очень существенная черта, также верно
отмеченная В. Виноградовым, но не объясненная им. 'В повествовательном сказе, -
говорит он, - преобладают моторные образы, и основной стилистический прием его
- регистрация движений независимо от их повторяемости'.
Действительно,
рассказ с утомительнейшею точностью регистрирует все мельчайшие движения героя,
не скупясь на бесконечные повторения. Рассказчик словно прикован к своему
герою, не может отойти от него на должную дистанцию, чтобы дать резюмирующий и
цельный образ его поступков и действий. Такой обобщающий образ лежал бы уже вне
кругозора самого героя, и вообще такой образ предполагает какую-то устойчивую
позицию вовне. Этой позиции нет у рассказчика, у него нет необходимой
перспективы для художественного завершающего охвата образа героя и его
поступков в целом' (Бахтин 1972: 386-387).
Бахтин
не совсем прав, утверждая, что Виноградов не дал объяснения отмеченного им
явления. Однако объяснение Виноградова было действительно неудовлетворительным.
С одной стороны, он принял моторику персонажей в 'Двойнике' за знаки 'душевных
переживаний'15. С другой стороны, он
связал возникающую механистичность моторики, ее марионеточность с установкой на
гротеск. И наконец, он объяснил отрывочность, обрывистость движений Голядкина
еще и следующим образом:
'Для
того чтобы эти формулы движений и настроений не образовали замкнутого круга,
воспроизводимого с утомительным однообразием, необходимо было разнообразить порядок
их смены неожиданными нарушениями. Поэтому встречаются в тексте бесконечные
указания на внезапный обрыв начатого действия и неожиданный переход к новому.
Наречное образование вдруг отмечает
пересечение одного ряда движений другим' (Виноградов 1976:111).
Нет,
разумеется, никаких оснований считать, что 'внезапный обрыв и неожиданный
переход' нарушают однообразие повторности. Скорее наоборот, они вносят
добавочное однообразие, бороться с которым можно не обрывочностью, но
логичностью жестикуляционных периодов. Бахтин предлагает чрезвычайно
нетривиальное объяснение странной моторике персонажей Достоевского.
Повествователь, по его мнению, находится слишком близко к герою, он
_________
15 'В соответствии с этим неизменно
повторяются и описания душевных переживаний, знаками которых являлись внешние
движения' (Виноградов 1976' 110).
46
связан
с ним особой миметической нитью, которая позволяет ему фиксировать (копировать
на письме) все его движения, но не позволяет рассмотреть его тело со стороны и
таким образом занять некую внешнюю по отношению к нему позицию. В этом смысле
повествователь может быть действительно уподоблен демону, отделившемуся от
тела, но все же не настолько, чтобы быть от него критически отчужденным.
Что
же это за видение, которое исключает 'устойчивую позицию вовне'? Что это за
видение, которое не позволяет увидеть? Это видение, в котором зрение как бы
подавляется фиксацией отдельного движения, отдельной конвульсии описываемого
тела. Это видение, в котором зрение разрушается чувством моторики, по существу
неким ощущением схемы тела и его динамики. Это видение, возникающее буквально
на границе зрения и слепоты. Бахтин говорит о 'бесперспективной точке зрения'16.
Приведу
пример из 'Двойника', отобранный Виноградовым, и с его же комментарием:
'Помимо
игры неожиданными пересечениями рядов движений, пересечениями, вследствие
которых схема действий героя проектируется в форме зигзагообразно расположенных
линий, те же эффекты комического использования моторных образов осуществляются
также посредством особого приема рисовки действия, выполнению которого
предшествует парализованная отступлением попытка. Комизм такого
"триединого движения" подчеркивается контрастными сцеплениями фраз и
слов и рождающимися отсюда каламбурами.
Пример:
"...герой наш... приготовился дернуть за шнурок колокольчика...
Приготовившись дернуть за шнурок колокольчика, он немедленно и довольно кстати
рассудил, что не лучше ли завтра... Но... немедленно переменил новое решение свое
и уже так, заодно, впрочем, с самым
решительным видом позвонил..."' (Виноградов 1976: 112). Попробуем
понять, что описывает Виноградов. По-видимому, когда он говорит о 'схеме
действий героя, проектируемых в форме зигзагообразно расположенных линий', он
по-своему воспроизводит присутствие глаза, помещенного в 'бесперспективную
точку зрения'. Глаз, буквально приклеенный к Голядкину, движется вместе с ним
некой зигзагообразной линией. Потому что стоит наблюдателю отойти чуть дальше
от голядкинского тела, и никакого зигзага не будет. Будет человек, который приготовился
дернуть за шнурок и дернул - позвонил. Но это непротиворечивое действие дается
наблюдателю, наделенному 'перспективной точкой зрения', то есть
__________
16 Дональд Фенгер говорит об
'авторской свободе по отношению к единой перспективе' и у Гоголя (Фенгер 1979:
91).
47
позицией
вовне. Более того, как бы мы ни
приближали точку зрения наблюдателя к телу Голядкина, мы не получим никакого
зигзага. Зигзаг вообще возникает только в результате расслоения Голядкина, его
внутреннего удвоения, позволяющего телу действовать автономно по отношению к
его воле, или хотя бы асинхронно (выполнять уже отмененное решение).
Зигзагообразные линии, обнаруживаемые Виноградовым, вообще не могут
наблюдаться, они располагаются там, где зрение исключается. Более того, моторные
образы, интересующие Виноградова, вообще возможны только если подавить зрение
как таковое. 'Бесперспективная точка зрения' в данном случае - это точка зрения
слепоты.
Наблюдателем
фиксируется диссоциация динамической схемы тела, вообще не доступной внешнему
наблюдателю, но осознаваемой только самим Голядкиным. Наблюдатель поэтому в
данном случае занимает место самого Голядкина, но не совсем, он как бы
одновременно помещен и внутри и вне его тела.
Что
это значит?
Вчитаемся
еще раз в приведенный Виноградовым фрагмент. Реакции Голядкина описаны с точки
зрения повествователя, осведомленного о внутренних порывах и решениях героя.
Между тем само действие Голядкина выбрано Достоевским со смыслом. Персонаж
должен дернуть за шнурок. Вся
'зигзагообразность' проектируемого Голядкиным действия подчеркивает
марионеточную природу персонажа, который вообще не способен принять решение,
поскольку побуждается к действиям некой внешней силой, как будто дергающей за
шнурок его самого. Отсюда повтор характерного определения - 'немедленно'. Это
'немедленно' указывает на то, что за действием Голядкина не стоит никакой идеи,
никакого сомнения или решения. Его просто дергают за шнурок. Дергая за шнурок,
Голядкин лишь мимирует действие некой силы, приложенной к нему самому. Дернуть
за шнурок для него означает лишь неосмысленно воспроизвести манипуляцию его
собственного демона над ним самим. Действие Голядкина поэтому может быть
определено как миметическое удвоение. Все же, что касается 'перемены решения',
'нового решения', - не более как симуляция, поскольку никакого решения Голядкин
вообще принять не в состоянии.
Но
это означает, что наблюдатель, помещая себя как бы 'внутрь' психики Голядкина,
в действительности выбирает 'неправильную' точку зрения, потому что решения
принимаются вовсе не внутри голядкинской субъективности, а вне его психики,
там, где расположен невидимый демон, двойник. То, что описывается как смена
решений Голядкина, в действительности - не что иное, как миметическое дерганье
некоего симулякра. Вот почему внутренняя точка зрения оказывается внешней по
отношению к тому месту, где действительно детерминируется моторика (поведение)
персонажа. А
48
внешняя
точка зрения в принципе может совпасть с искомой точкой перспективного видения.
Моторика,
таким образом, выступает лишь как текст, в котором фиксируется невозможность
непротиворечивого взгляда, невозможность дискурса с единой точкой зрения.
Видимое здесь (зигзагообразные линии моторики) есть не более как след чисто
словесного, по сути невидимого. След этой словесной игры, между прочим,
отложился и в отмеченной Виноградовым каламбурности фрагмента17.
Вальтер
Беньямин оставил нам портрет беспрерывно мимирующего тела - портрет венского
ирониста Карла Крауса, по мнению Беньямина, также анимируемого неким
миметическим демоном тщеславия. Беньямин описывает странную стратегию поведения
Крауса, пишущего и одновременно имитирующего акт письма, беспрерывно
пародически меняющего маски, непрестанно изображающего окружающих. Беньямин
описывает демона Крауса как 'танцующего демона', 'дико жестикулирующего на
невидимом холме' (Беньямин 1986: 250).
Демон
беспрерывно отчуждает личность Крауса, превращая ее в неиссякающий ряд
миметических 'персон', масок. Срывание масок с окружающих незаметно переходит в
потерю аутентичности самого ирониста, исчезающего за разворачивающейся цепочкой
личин.
Почему
это отчуждение проходит через повышенную жестикуляцию и танец? Почему вообще
жест принимает такое огромное, такое несоразмерное значение во всей ситуации
отчуждения и удвоения? Ведь и в разобранном эпизоде с Голядкиным простое
дерганье за шнурок, жест, предельно автоматизированный повседневным поведением,
становится вдруг чрезвычайно, неумеренно значимым.
Дело,
по-видимому, в том, что именно танец позволяет одновременно предельно
абстрагироваться от внешнего наблюдателя и трансцендировать субъективность.
Известно, что Ницше считал танец своеобразной формой мышления. Валерий Подорога
дает по этому поводу следующий комментарий:
'...Танец
не создает оптического пространства, где могла бы осуществляться нормативно и
по определенным каналам ориентированная коммуникация; танец- это пространство
экстатическое, где движение подчиняется внутренним биоритмам танцующего,
которые невозможно измерить в количественных параметрах времени, тактом или
метром. Семиотика внутренних движений
_____________
17 Движение персонажа может странным
образом действительно отражать нечто, казалось бы, совершенно с ним
несоотносимое - движение письма, например Гоголь так характеризует пластику
Чичикова на балу в N 'Посеменивши с довольно ловкими поворотами направо и
налево, он подшаркнул тут же ножкой в виде коротенького хвостика или наподобие
запятой' (Гоголь 1953, т. 5 171) Чичиков буквально пишет ногой текст
собственного описания
49
танцующего
тщетна. Внутреннее переживание времени, а другого в танце нет, так же как нет
'внешнего наблюдателя' или не участвующего в танце, строится по логике
трансгрессии органического: все движения, на каких бы уровнях- физиологическом
или психосоматическом- они ни располагались, сопротивляясь друг другу,
повторяясь, но постоянно поддерживая нарастающую волну энергии, вызывают полную
индукцию всех двигательных событий тела танцующего' (Подорога 1993а: 193).
Внешний наблюдатель в такой ситуации исчезает, но субъективность также
растворяется в том, что Подорога называет 'полной индукцией всех двигательных
событий тела'. Тело движется уже не по воле танцующего, а в силу распределения
энергий и индуктивных процессов. Танец, таким образом, снимая внешнюю позицию
наблюдателя, не постулирует внутренней позиции. Он реализует избавление от
внешнего вне форм подлинно внутреннего. В танце мы обнаруживаем ту же
противоречивость слепоты и зрения, ту же странную амбивалентность отношений
между телом и его демоном, что и в виноградовском примере из Достоевского.
Виноградов
приводит еще один пример 'триединого', 'зигзагообразного' движения у
Достоевского:
'Голядкин...
взял стул и сел. Но вспомнив, что уселся без приглашения... поспешил исправить
ошибку свою в незнании света и хорошего тона, немедленно встав... Потом опомнившись...
решился, нимало не медля... и... сел окончательно' (Виноградов 1976: 112).
Ситуация
здесь несколько иная, чем в сцене со шнурком, где меняются только намерения.
Здесь эти намерения реализуются. Голядкин садится, потом 'немедленно' встает, а
затем 'не медля' садится окончательно. И хотя Достоевский не вводит в этот
эпизод каламбура, он намеренно повторяет это навязчивое 'немедленно'. Эпизод со
стулом похож на эпизод со шнурком еще и в том, что действие, которое
осуществляет Голядкин, - из самых тривиальных, автоматизированных. Фокус
заключается в том, что это 'стертое', ничем не примечательное действие -
человек сел - вдруг приобретает какое-то несоразмерное значение именно за счет
его повторения. Сам характер повтора действия также значим. Голядкин не просто
садится, он садится с чрезвычайной решимостью и скоростью. Тем самым
автоматизированность действия как будто подчеркивается, тело действует со
стремительностью, как будто исключающей работу психики (хотя, как мы знаем из
текста Достоевского, эти сверхбыстрые действия отражают сложные и даже
мучительные колебания).
Но
именно чрезмерное подчеркивание марионеточного автоматизма, чрезмерность жеста
придают ему характер телесного события, наполненного смыслом. То, что Голядкин
прячет за ширмой
50
сверхбыстрого
автоматизма, в действительности лишь обнаруживает себя. Жест не камуфлируется,
а экспонируется и тем самым предлагается наблюдателю как наполненный смыслом
текст.
Происходящее
напоминает не столько танец, сколько пантомиму. Мим также обычно изображает
легко опознаваемые и наиболее привычные жесты и действия: он показывает, как он
идет по улице, срывает и нюхает цветок, выпивает чашку кофе. Репертуар его
действий столь банален, что, вообще говоря, не требует никакой специальной
техники для их имитации. Однако мим имитирует их, заведомо преувеличивая. Более
того, он как бы разрушает автоматизированность каждого имитируемого им жеста.
Для того чтобы добиться этого, мим обучается дезартикулированию каждого
движения. Автоматизированная схема жеста уничтожается, и на ее место
подставляется странная жестикуляционная синтагма, в которой движение руки
дезартикулировано таким образом, чтобы нарушить стереотипную связь между
движением плеча, предплечья и кисти. Суставы приобретают неожиданное значение
каких-то фильтров, не пропускающих через себя кодифицированную жестикуляционную
схему. В результате складывается странное впечатление, будто кисть движется
отдельно от предплечья, а предплечье отдельно от плеча, хотя общая семантика
жеста и сохраняется.
Дезартикуляция
жеста при всей ее подчеркнутости накладывается на повышенную пластическую
взаимосвязанность отдельных частей. Перед наблюдателем разворачиваются
одновременно фрагментация жестикуляционной синтагмы, ее членение на фрагменты и
новое сплетение этих фрагментов в некое неразделимое целое. Речь идет, по
существу, о перераспределении акцентов внутри синтагмы, о ее переартикуляции,
которая не может прочитываться иначе, как разрушение жестикуляционной
спонтанности, как дезавтоматизация жеста, а следовательно, и его смысла.
Выбор
банального действия должен прочитываться на этом фоне. Привычный и не имеющий
особого смысла жест пьющего человека неожиданно приобретает какое-то особое
значение. Он становится столь 'содержательным', что заставляет зрителей с
интересом наблюдать за его имитацией.
Дезавтоматизация
жеста и его переартикуляция - это именно то, что происходит со многими
персонажами Гоголя и что так явственно подчеркнуто в поведении садящегося и
встающего Голядкина. То же самое можно сказать и о жестикуляционной
чрезмерности.
Эта
чрезмерность лежит, по мнению Хосе Жиля, в основе чтения пантомимы. Он
указывает, что тело мима
'производит
больше знаков, чем обыкновенно. Каким образом мим показывает нам, что он пьет
чашку кофе? Его жест не является простым воспроизведением привычного жеста
руки, которая вытягивается, пальцев, берущихся за ручку, руки, поднимающейся на
высоту рта; перед нами
51
множество
артикуляций, каждая жестовая фраза преувеличена, она содержит множество
микрофраз, которых раньше в ней не было. Жест питья вырастает, становится
барочным; чтобы показать, что чашка наклоняется к губам, рука взлетает высоко
вверх причудливым движением. Мим, таким образом, подменяет речь;
микроскопические сочленения занимают место слов, но говорят иначе, чем слова'
(Жиль 1985:101).
Я
не могу согласиться с Жилем, что речь идет о производстве неких псевдослов.
Речь, на мой взгляд, идет о подчеркнутом деформировании нормативной
синтагматичности движения. Деформирование это преувеличено (то, что Жиль
описывает как перепроизводство знаков), потому что, как и всякое
деформирование, отсылает к определенной энергетике. Тело действует так, как
будто к нему приложена некая сила, способная нарушить кодифицированность
затверженных и стертых движений. Тело становится местом приложения силы,
действующей на него извне, оно превращается в тело робота, автомата, марионетки
и одновременно удваивается призраком демона, которого оно имитирует.
Отсюда
двойной эффект мимирующего тела - это тело не производящее движения, но
имитирующее движения. Мим никогда не стремится обмануть публику естественностью
своих движений. Наоборот, он стремится обнаружить подлинную имитационность
своего поведения. Как выразился Деррида, 'он имитирует имитацию'. Этот двойной
мимесис обнаруживается только в формах деформаций, то есть в формах обнаружения
внешних сил и энергий. Барочность жеста и есть проявление внешней силы. Почему
жесты мима чрезмерны? Почему, поднося руку с воображаемой чашкой ко рту, он
вздымает ее высоко вверх? Да потому, что он именно разыгрывает избыточность
силы, приложенной к его руке.
Генрих
фон Клейст обозначил бы это явление как антигравитационность марионеточного
тела. Но антигравитационность означает только одно - к телу приложена сила,
превышающая силу гравитации. Когда Голядкин мгновенно садится, немедленно
вскакивает и решительно садится вновь, он воспроизводит действие некоего
невидимого механизма, некой пружины, которая деформирует 'нормальную' механику
тела избыточностью энергии. Перепроизводство знаков в пантомиме поэтому может пониматься
как продукт игры сил. Существенно, конечно, то, что эта игра сил создает такое
сложное перераспределение артикуляций, что она порождает иллюзию некоего
содержательного текста. Тело дается наблюдателю как тело полное смысла
(перепроизводящее знаки), а потому особенно 'содержательное'. Правда, ключей
для чтения этого содержания не Дается. Энергетическое тело, тело
деперсонализирующееся в конвульсиях, немотивированном поведении, приступе
миметического смеха, создает иллюзию смысловой наполненности, лишь отражающей
видимость энергетического избытка.
Глава 2. КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: РИЛЬКЕ
1. Высокий тощий субъект в черном пальто...
В
романе Рильке 'Записки Мальте Лауридса Бригге' есть один пассаж, особенно
интригующий странностью описанного в нем телесного поведения. Первый вариант
интересующего меня фрагмента содержался в письме, написанном из Парижа Лу
Андреас Саломе (18 июля 1903 г.). Здесь Рильке описывает преследующий его страх
и странное ощущение от людей, сопутствующее ему. Люди, которых он встречает в
Париже, напоминают ему автоматов или фрагменты неорганической материи:
'Когда
я впервые проходил мимо Hotel Dieu, туда как раз въезжала открытая пролетка, в
ней лежал человек, покачивавшийся от каждого движения, лежал перекошенно, как
сломанная марионетка, с тяжелым нарывом на длинной, серой свисающей шее. И
каких только людей не встречал я с тех пор. Обломки кариатид, над которыми еще
тяготела вся мука, все здание муки, и под его тяжестью они шевелились медленно,
как черепахи. <...> О, какой это был мир! Куски, куски людей, части
животных, остатки бывших вещей, и все это еще в движении, словно гонимое
каким-то зловещим ветром, несущее и носимое, падающее и само себя в падении
перегоняющее' (Рильке 1971: 199-200)1
Рильке
испытывает странное миметическое притяжение к этим отталкивающим его существам,
которые видятся ему 'прозрачными', 'извне чуть притемненными испарениями' и
содрогаемыми 'хохотом, который поднимается как чад из плохих очагов. Ничто не
было менее похожим на смех, чем смех этих отчужденных; когда они смеялись, это
звучало так, будто у них внутри что-то падало и разбивалось и заполняло их
осколками' (Рильке 1971: 203).
Смех
этих странных фигур проецируется на них извне, как чад очагов, но и когда он
проникает внутрь их тел, он все еще остается внешним, он разбивается на
осколки, он падает как 'что-то'. Интимно внутреннее остается предельно внешним.
Впрочем, все поведение существ, заполняющих воображение поэта, целиком мотиви-
___________
1 Цитируемое письмо в русском издании
сокращено не менее чем вполовину, о чем читателю, к сожалению, не сообщается
53
ровано
извне. Они ползут как обломки кариатид, на которые рухнула тяжесть здания, их
гонит какой-то зловещий ветер. В этом вынесении вовне приводящей их в движение
силы уже заключено их раздвоение, особенно очевидное в момент падения этих
призрачных тел, 'падающих и самих себя в падении перегоняющих'. Рильке
прибегает к загадочному образу невозможной экстериоризации.
Это
состояние нарушенности четкой границы между органическим и неорганическим, по
мнению Роберта Музиля, отражает важнейшую черту поэтического мира Рильке, в
котором повышенный метафоризм выражает миметическую энергию безостановочного
метаморфизма:
'В
этом нежном лирическом взаимодействии одна вещь становится подобием другой. У
Рильке камни и деревья не только становятся людьми - как это всегда и повсюду
происходило в поэзии, - но люди также становятся вещами или безымянными
созданиями и, приведенные в движение столь же безымянным дыханием, достигают
наивысшей степени человечности' (Музиль 1990:245).
Действительно,
марионетки и кариатиды Рильке настолько в конце концов проникаются людским, что
как бы приобретают драматическую человечность, еще далее подталкивающую общий
порыв миметизма, пронизывающий мир Рильке и включающий в конце концов его
самого:
'Стараясь
их выразить, я начинал творить их самих, и вместо того чтобы преобразовать их в
вещи, созданные моей волей, я придавал им жизнь, которую они обращали против
меня же и преследовали меня до глубокой ночи' (Рильке 1971:203).
Здесь
перспектива, намеченная Эйхенбаумом в анализе 'Шинели', переворачивается (см
главу 1). Не персонаж имитирует здесь строй авторского сказа, но автор как бы
пристраивается к персонажу. То, что определяется Рильке как преследование со
стороны персонажей, в действительности превращается в преследование персонажей
поэтом Впрочем, это выворачивание, обращение позиций уже предполагается самой
ситуацией крайне деформированной пластики поведения.
Вспомним
мима, который таким образом отчуждает собственные действия от внутренних
мотивировок и настолько переносит причину действия вне собственного тела, что
по существу позволяет зрителю занять внешнюю позицию, совпадающую с той, откуда
проектируются действия мима. Быть вовне в такой ситуации означает быть внутри.
И
наконец, Рильке описывает некое тело, по какой-то причине особенно для него
привлекательное. Именно связанный с ним кусок он в дальнейшем и перепечатывает
с некоторыми изменениями в
54
романе.
Процитирую этот необыкновенный фрагмент из 'Записок'. Бригге (он же Рильке)
обнаруживает 'высокого, тощего субъекта в черном пальто и мягкой черной шляпе
на коротких блеклых волосах'. Человек этот почему-то вызывает смех у прохожих:
'Убедившись,
что в одежде и повадках его нет ничего смешного, я собрался уже отвести от него
взгляд, как вдруг он обо что-то споткнулся. Я шел следом за ним и потому стал
внимательно смотреть под ноги, но на том месте не оказалось ничего, решительно
ничего. Мы оба шли дальше, он и я, на том же расстоянии друг от друга и
спокойно достигли перехода, и вот тут человек впереди меня, спрыгивая со
ступенек тротуара на мостовую, начал высоко выбрасывать одну ногу- так скачут
дети, когда им весело. Другую сторону перехода он одолел одним махом. Но едва
оказался наверху, он вскинул одну ногу и подпрыгнул и тотчас притопнул опять.
Легко можно было решить, что он споткнулся, если уговорить себя, что на его
пути оказалось мелкое препятствие - косточка, скользкая фруктовая кожура -
что-нибудь в таком роде; странно, что и сам он, кажется, верил в существование помехи,
ибо он всякий раз оборачивался на досадившее место с видом упрека и
недовольства, свойственного людям в подобных случаях. Снова что-то толкнуло
меня перейти на другую сторону, и снова я не послушался, я по-прежнему шел за
ним, все свое внимание устремив ему на ноги. Должен признаться, я вздохнул с
облегчением, когда шагов двадцать он спокойно прошел, не подпрыгивая, но,
подняв глаза, я заметил, что его мучит новая незадача. У него поднялся воротник
пальто, и как ни старался он его опустить, то одной рукой, то обеими сразу, у
него ничего не получалось. Такое с каждым может случиться. Я ничуть не
встревожился. Но далее с беспредельным изумлением я обнаружил, что суетливые
руки проделывают два жеста: один быстрый тайный жест украдкой вздергивает
воротник, а другой подробный, продленный, как бы скандированный - его опускает.
Наблюдение это до того меня ошарашило, что лишь две минуты спустя я сообразил,
что жуткое двухтактное дерганье, едва оставив его ноги, перекинулось на шею за
поднятым воротом и в беспокойные руки. С того мгновения я с ним сросся. Я
чувствовал, как это дерганье бродит по телу, ища, где бы вырваться. Я понимал,
как он боится людей, и сам я уже пытливо вглядывался в прохожих, чтобы
увериться, что они ничего не заметили. Холодное острие вонзилось мне в хребет,
когда он опять чуть заметно подпрыгнул, и я решил споткнуться тоже, на случай
если это заметят. Можно таким способом убедить любопытных, что на дороге в
самом деле ле
55
жит
какой-то пустяк, об который мы спотыкаемся оба. Но покуда я размышлял, как ему
помочь, он сам нашел новый прекрасный выход. Я забыл упомянуть, что у него была
трость? <...> В судорожных поисках выхода он вдруг сообразил прижать
трость к спине, сперва одной рукой (мало ли на что могла пригодиться другая),
хорошенько прижать к позвоночнику, а набалдашник сунуть под воротник, подперев
таким образом шейный и первый спинной позвонки. В этом маневре не было ничего
вызывающего, он разве чуть-чуть отдавал развязностью, но нежданно весенний день
вполне ее извинял. Никто и не думал на него оборачиваться, и все теперь шло
хорошо. Шло как по маслу. Правда, на следующем переходе прорвалось два прыжка,
два крохотных, сдавленных прыжочка, совершенно безобидных, а единственный
заметный прыжок был обставлен так ловко (как раз на дороге валялся шланг), что
решительно нечего было бояться. Да, все шло хорошо. Время от времени вторая
рука вцеплялась в трость, прижимала ее к спине еще тверже, и опасность
преодолевалась. Но я ничего не мог поделать - страх мой все возрастал. Я знал,
что покуда он безмерно силится выглядеть спокойным и небрежным, жуткое
содрогание собирается у него в теле, нарастает и нарастает, и я в себе
чувствовал, как он со страхом за этим следит, я видел, как он вцепляется в
трость, когда его начинает дергать. Выражение рук оставалось строгим и
непреклонным, я всю надежду возлагал на его волю, должно быть слабую. Но что
воля?.. Настанет миг, когда силы его истощатся, и теперь уж недолго. И вот, идя
за ним следом с обрывающимся сердцем, я, как деньги, копил свои жалкие силы и,
глядя ему на руки, молил принять их в нужде.
Думаю,
он их и принял. Моя ли вина, что их было так мало...
На
Place Saint-Michel было большое движение, сновал народ, то и дело мы
оказывались между двух экипажей, и тут он переводил дух, отдыхал, что ли, и тогда
случался то кивок, то прыжок. Быть может, то была уловка пленной, но
несдававшейся немочи. Воля была прорвана в двух местах, и в бедных пораженных
мышцах засела сладкая покорная память о заманчивом возбуждении и одержимость
двухтактным ритмом. Палка, однако, была на месте, руки глядели зло и надменно;
так мы ступили на мост, и все шло сносно. Вполне сносно. Но здесь в походке
появилась неуверенность, два шага он пробежал бегом- и остановился.
Остановился. Левая рука тихо выпустила трость и поднималась - до того медленно,
что я видел, как она колышет воздух. Он чуть сдвинул на затылок
56
шляпу
и потер лоб. Он чуть повернул голову, и взгляд скользнул по небу, домам, по
воде, ни на чем не удерживаясь, и тут он сдался. Трость полетела, он раскинул
руки, будто собрался взмыть, и как стихия его согнула, рванула вперед, швырнула
назад, заставила кивать, гнуться, биться в танце среди толпы. Тотчас его
обступили, и уже я его не видел.
Какой
смысл был еще куда-то идти? Я был весь пустой. Как пустой лист бумаги, меня
понесло вдоль домов, по бульварам обратно' (Рильке 1988: 60-63). Как видно из
процитированного, между Бригге и тощим субъектом устанавливается почти полная
идентификация, и происходит это как раз в том режиме, который описан Бахтиным
(см. главу 1). Глаз наблюдателя неотрывно привязан к телу, за которым он
следует. При этом глаз как бы аннигилирует расстояние между ним и объектом
наблюдения. Внимание почти целиком сосредоточено на деталях - руках, трости,
ногах, так что общая перспектива как бы исчезает - снимается. Это
'бесперспективное зрение' производит, однако, существенную трансформацию в
позиции наблюдателя. Последний как бы соединяется с наблюдаемым в единый
агрегат, в котором невозможно отделить авторское чтение текста чужого тела от
собственного его поведения. По существу, Бригге срастается с субъектом в единую
машину, части которой притерты друг к другу как демон и его двойник, как тело и
его миметическая копия.
Субъект
включает в свое тело ось - трость, которая дублирует позвоночник и пронизывает
тело подобно некому механическому элементу (ср. с наблюдением Музиля об
овеществлении людей у Рильке). И сейчас же аналогичная ось возникает в теле
наблюдателя, которое впервые механически повторяет движения субъекта:
'Холодное
острие вонзилось мне в хребет, когда он опять чуть заметно подпрыгнул, и я
решил споткнуться тоже...' Эта механическая синхронизация двух тел
первоначально задается взглядом, прикованным к ногам и рукам субъекта. Взгляд и
есть острие, которое неожиданно возвращается из преследуемого тела и впивается
в тело рассказчика.
Но
это острие, разгоняющее механизм мимикрии, есть лишь дублирование того жала2 (того взгляда), которым наблюдатель
вампирически прикован к наблюдаемому. Он стремится целиком завладеть им, он
делает все, чтобы субъект не был замечен окружающими, и в ужасе отступает,
когда толпа окружает его двойника. Он теряет тело преследуемого и воспринимает
эту потерю как потерю себя самого: 'Какой смысл был еще куда-то идти? Я был
весь пус-
___________
2 Валерий Подорога высказал мнение,
что жало (в его случае голос) преобразует тело в плоть, которая в отличие от
инертного тела обретает миметические способности. - Подорога 1993а: 60-70.
57
той'.
То, что преследуемый предстает наблюдателю только со спины, имеет особое
значение. Отсутствие лица деперсонализирует его, делает его удобной маской, за
которой можно скрыть собственный невроз преследователя. Преследователь помещает
себя в машину и скрывает свой собственный невроз в приводном механизме чужого
невроза. Показательно, что тогда, когда преследователь решает сымитировать
странное телодвижение субъекта, решает 'споткнуться', он нагромождает целый ряд
мотивировок и объяснений: '...я решил споткнуться тоже, на случай, если это
заметят. Можно таким способом убедить любопытных, что на дороге в самом деле
лежит какой-то пустяк, об который мы спотыкаемся оба'. Бригге придумывает
мотивировку, чтобы самому совершить невротическое действие.
Интересна
сущность этой мотивировки. Бригге имитирует субъекта якобы для того, чтобы
окружающие не заметили странности поведения последнего. Экстравагантный жест
мотивируется камуфляжем: я повторяю странное движение, чтобы была не замечена
странность оригинала. Вообще все поведение субъекта - не столько борьба с некой
подчиняющей его себе силой, сколько борьба со стремлением разыграть нечто
театральное, таящее в себе и привлекательность и угрозу. Наблюдатель отпадает
от наблюдаемого в тот момент, когда он входит в миметический круг толпы, тем
самым отводя своему преследователю лишь роль зрителя, но не двойника. Когда
субъекта окружают люди, они тем самым исключают Бригге из ситуации имитации,
дублирования, мимикрии.
Но
что, собственно, обещает субъекту эта отчаянная финальная театрализация
поведения: '...стихия его согнула, рванула вперед, швырнула назад, заставила
кивать, гнуться, биться в танце среди толпы. Тотчас его обступили, и уже я его
не видел'. Рильке не случайно, конечно, использует для движений его персонажа
определение - танец.
Переход
от сдержанности к этому танцу описывается Рильке в нескольких плоскостях.
Прежде всего, это переход от одного типа театральности, когда субъект
разыгрывает естественность, спокойствие, 'нормальность', к другому типу
театральности, когда актер вдруг сбрасывает с себя личину персонажа, но, вместо
того чтобы обнаружить под ней 'обычное' тело, обнаруживает вдруг
сверхгистриона. Пока субъект играет некоего персонажа, пока он демонстрирует
технику удвоения и идентификации, он включает в свою орбиту наблюдателя. В тот
же момент, когда он непосредственно переходит к сверхгистрионству танца,
наблюдатель исключается из цепочки мимикрий и дублирований.
В
результате тело 'субъекта' как бы переворачивает классические театральные
отношения. То, что выдает себя за хороший театр, - изображение естественности -
постоянно читается как маска, как фальшь. И в то же время сверхгистрионизм
одержимости во
58
всей
преувеличенности его танца, во всей чрезмерности его знаков читается как
подлинное. История, описанная Рильке, поэтому может пониматься как история
обнаружения актерского, заведомо фальшивого как подлинного. Октав Маннони
как-то заметил, 'что театр в качестве институции функционирует как прирожденный
символ отрицания (Verneinung), благодаря чему то, что представлено по
возможности как истинное, одновременно представляется как фальшивое...'
(Маннони 1969: 304).
Эта
фальшь подлинного и подлинность фальшивого делают противоречивой модальность
чтения текста и более чем неопределенной позицию наблюдателя. В романе Рильке
смягчает те откровенные эротические обертоны, которыми окружена сцена финального
прорыва в письме:
'Теперь
я был буквально за его спиной, полностью лишенный всякой воли, влекомый его
страхом, уже не отличимым от моего собственного. Вдруг трость его полетела в
сторону, прямо посреди моста. Человек встал; непривычно тихий и одеревеневший,
он не двигался. Он ждал;
казалось,
однако, что враг внутри него еще не поверил в то, что он сдался, - он
колебался, разумеется, не более мгновения. Потом он вырвался, как пожар, изо
всех окон одновременно. И начался танец. <...> Вокруг него сейчас же
образовался тесный кружок, который постепенно оттеснил меня назад, и я больше
не мог видеть его. Мои колени дрожали, меня лишили всего. Я стоял белый,
облокотясь на парапет моста, и в конце концов пошел домой;
не
было никакого смысла уже идти в Bibliotheque Nationale. Где та книга, которая
способна помочь мне перебороть то, что было во мне? Я чувствовал себя
использованным; как будто чужой страх изъел меня и измучил, вот как я
чувствовал' (Рильке 1988а: 29).
Человек
в письме к Лу Андреас-Саломе почти превращается в фаллический придаток самого
Рильке. Рильке описывает свое предельное изнеможение, за которым следует
совершенно оргиастическое поведение человека-фаллоса, который замирает,
деревенеет, покуда из него не вырывается подобно пожару подавленная в нем
энергия. И этот оргазм завершается окончательной выжатостью поэта: 'Мои колени
дрожали, меня лишили всего. Я стоял белый...'
Оргазм
делает понятным и педалируемый во всем фрагменте мотив стыда, страха быть
увиденным, застигнутым врасплох. Театр, таким образом, воистину становится
театром сексуальности, в котором снимается различие между чрезмерностью и
истинностью, эксгибиционизмом и правдой. Но этот же театр можно прочесть и как
театр смерти, а последний танец 'субъекта' как агонию.
59
2. Членораздельность и 'детерриториализация'
Рильке
подчеркивает одну деталь. Раскрепощение 'субъекта' наступает в момент, когда он
отбрасывает палку. Этот протез оказывается по-своему связанным с наблюдателем.
Он также отпадает за ненадобностью. Палка работает не просто как механическая
ось, сцепляющая в единый машинный агрегат Рильке и субъекта, или как субститут
взгляда. Она же действует и как протез, как третья нога, которая, вместо того
чтобы облегчить движение человека, затрудняет его. Трость оказывается 'противодействующим'
протезом. В такой функции ее использовал, например, Герман Брох в романе
'Сомнамбулы'. В начале романа он дает подробный портрет господина фон Пазенова.
Походка фон Пазенова характеризуется как чудовищная, вызывающая отвращение,
провоцирующая. Особый смысл походке фон Пазенова придает трость, которую он при
каждом шаге ритмически вздымает чуть ли не до уровня колен:
'Таким
образом, две ноги и трость продолжили вместе, вызывая невольную фантазию, что
этот человек, родись он лошадью, был бы иноходцем; но самым чудовищным и
отвратительным было то, что он был трехногим иноходцем, треногой, которая
привела себя в движение. Не менее ужасающим было и сознание того, что трехногая
целесообразность человеческой походки была столь же обманчивой, как и ее неснижаемая
скорость: что направлена она была совершенно ни на что! Так как ни один человек
с серьезной целью не мог бы идти таким образом...' (Брох 1986: 10)
Трость,
призванная своей механистичностью внести в походку особую рациональность
движущейся машины, а следовательно, и иллюзию целесообразности и
целенаправленности всему движению, в реальности действует вопреки своему
предназначению. Она вообще не используется для ходьбы. И все же ее
ортопедическая функция не отменена до конца. Она выражена в последних фразах
эпизода, как в романе, так и в письме. В обоих случаях речь идет о
беспомощности книги, письма, бумаги перед лицом наблюдаемого телесного
эксцесса. В романе Бригге сравнивает себя с 'пустым листом бумаги'. Писатель
как бы впустую тратит энергию, он не в состоянии превратить наблюдаемый им
эпизод в слова, в текст3.
Брох
отмечает как самое неприятное в походке фон Пазенова иллюзию смысла, цели,
которую придает трость, но которую эта же
_________
3 В письме Лу Андреас-Саломе от 13
мая 1904 года Рильке говорит о старых книгах и документах как о текстах с
утерянным кодом, в которых зашифрован некий пульс телесности: 'Во всех своих
нервах я ощущал близость судеб, возбуждение и вздымание фигур, от которых ничто
меня не отделяло, кроме глупой неспособности читать и интерпретировать старые
знаки и вносить порядок в пыльную сумятицу старых бумаг' (Рильке 1988а: 52).
60
трость
и разрушает. Трость действует как нечто членящее, дисциплинирующее, дробящее,
как странное воплощение самого лингвистического процесса, членящего, дробящего,
фрагментирующего. Отброшенная трость - это и отброшенный протез
лингвистического, без которого наблюдатель остается 'пустым листом бумаги',
выжатой как лимон дрожащей телесной оболочкой. Объект же наблюдения -
невротическое тело, - достигнув квазиэротического пароксизма, выходит за рамки
артикулируемого, в том числе и членораздельной речи. Членораздельность как
будто имитирует разделенность членов - ног и трости.
В
стихотворении Бодлера 'Семь стариков' описывается создание, напоминающее фон
Пазенова, но еще более пугающее. Механичность возникающего в видении Бодлера
страшного старика оказывается в данном случае связанной не только с
расчлененностью тела и дискурса, но и с их репродуцируемостью, дублируемостью:
Согнут
буквою 'ге', неуклюжий, кургузый,
Без
горба, но как будто в крестце перебит!
И клюка не опорой казалась - обузой
И ему придавала страдальческий вид.
<...>
Вслед за ним, как двойник, тем же адом зачатый, -
Те же космы и палка, глаза, борода, -
Как
могильный жилец,
как живых соглядатай,
Шел такой же - откуда? Зачем и куда?
Я
не знаю - игра наваждения злого
Или розыгрыш подлый, - но грязен и дик,
Предо мной семикратно - даю в этом слово! -
Проходил, повторяясь, проклятый старик'
(Бодлер 1970: 148; пер.В.Левика)4.
_____________
4 II n'etait pas voute, mais casse,
son echine
Faisant avec sa jambe un parfait angle droit,
Si bien que son baton, parachevant sa mine,
Lui donnait la tournure et le pas maladroit.
Son pareil le suivait: barbe, oeil, dos, baton, loques,
Nul trait ne distinguait, du meme enfer venu,
Ce jumeau centenaire, et ces spectres baroques
Marchaient du meme pas vers un but inconnu.
A quel complot infame etais-je done en butte,
Ou quel mechant hasard ainsi m'humiliait?
Car je comptais sept fois, de minute en minute
Ce sinistre vieillard qui se multipliait!
(Бодлер 1961:98)
Комментатор
'Цветов зла' Антуан Адан указывает на связь между этим стихотворением Бодлера и
романом Рильке (Бодлер 1961: 382).
61
Механичность
тела тянет за собой его повторяемость, она как бы воспроизводит себя в
копирующих его механических же 'демонах'. Клюка и перебитость крестца как будто
включают спрятанный в теле старика репродуктивный механизм. Вальтер Беньямин
записал по поводу 'Семи стариков' Бодлера: '"Семь стариков" - по
поводу вечного возвращения того же самого. Танцовщицы в мюзик-холле' (Беньямин
1989: 341). Танцовщицы обладают той же механической умножаемостью (Бак-Морсс
1989:191).
Умножаемость,
удвояемость тела связана с его членимостью. В момент же, когда членимость
исчезает, поглощается органоморфностью, множественность сливается в
нерасчленимость толпы, в которой двойничество переходит в неразделимую
слиянность.
Членораздельность
отбрасывается в момент, когда субъект растворяется в толпе и выпадает из поля
зрения. Его финальная трансформация совпадает с наступающей слепотой
наблюдателя, блокирующей словесное выражение. Все движение наблюдаемого
персонажа - это движение к той самой финальной танцевальной метаморфозе, за
которой следует немота. По существу, это движение совпадает с движением языка,
который достигает такой границы выразимости, за которой наступает молчание
непереводимых интенсивностей.
Жиль
Делёз и Феликс Гваттари показали, что именно такое движение свойственно так
называемым 'малым' или, точнее, 'маргинальным' литературам (litterature
mineure), к числу которых они относили немецкоязычную литературу Праги,
представителем которой и был Рильке (ср. его занятия русским языком и попытки
писать стихи по-русски, его занятия датским или увлечение словарем Гримма, понимаемым
как инструмент 'расширения языкового сознания'):
'Пражский немецкий - это смещенный язык, он подходит
для странного и маргинального употребления' (Делёз - Гваттари 1986:17).
По
мнению Делёза и Гваттари, такая маргинальная литература широко использует
что-то вроде 'тензоров', математических величин, по-разному описываемых в
различных системах координат. Они подобно векторам указывают на некие
преобразования, а не понятия. В языке такое указание может осуществлять особое
распределение гласных и согласных, интонационный строй речи и т. д. Короче,
'язык перестает быть репрезентативным, чтобы
отныне двигаться к своим границам, к экстремам. Эту метаморфозу
сопровождает коннотация боли...' (Делёз - Гваттари 1986:23).
Движение
субъекта к финальному исчезновению - и есть движение к молчанию, используя
выражение Делёза - Гваттари, к 'детерриториализации' языка.
62
Гоголь
с его украинизмами и всей историей его постепенно преодолеваемой провинциальной
маргинальности в значительной степени также относится к разряду 'малой'
литературы. Напомню хотя бы список украинизмов, открывающий первую книгу Гоголя
'Вечера на хуторе близ Диканьки':
'На
всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по
азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны' (Гоголь
1952, т. 1: 7).
Бахтин
решительно определял гоголевскую речь как нелитературную и ненормативную
(Бахтин 1975: 491-492). Уже в таком раннем гоголевском тексте, как 'Сорочинская
ярмарка', дается яркий образец поглощения артикулированной телесности в стихии
нечленораздельной речи:
'Вам,
верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда
встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем
носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас
в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище
и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит,
гогочет, гремит? Шум, брань, мычание, блеяние, рев- всё сливается в один
нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки- все
ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосные
речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватывается, не спасается от
этого потопа; ни один крик не выговаривается ясно' (Гоголь 1952, т.1: 14-15).
Толпа
здесь - знак хаоса, поглощающего как отдельные тела и предметы, так и
собственно речь, которая могла бы этот хаос артикулировать. При этом распад
визуальных связей, когда все 'мечется кучами и снуется перед глазами', вводится
Гоголем в подчеркнутый параллелизм с исчезновением речи. Любопытно, что оба
параллельных ряда организованы Гоголем по модели перечислений, имитирующих
распад синтагматического мышления в потенциально бесконечном развертывании
свободно организованной номинации. Список 'непонятных' читателю украинизмов в
предисловии предвосхищает такого рода ряды. Диалектизм, литературная
маргинальность заявляют о своей потенциальной принадлежности к
трансрациональному.
В
описании ярмарки 'шум, брань, мычание, блеяние, рев' оказываются по-своему
аналогичны другому ряду: 'Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники,
шапки'. Если же приглядеться внимательней к характеру этих перечислительных
рядов, то мы увидим, что в них разворачивается регрессия человеческого на ста-
63
дию
животного. Шум, брань переходят в мычание и блеяние. В' втором ряду
регрессивный ряд еще более радикален. Здесь смешиваются люди (цыганы, бабы) с
животными (волы) и предметами.
При
этом регрессия речи сопровождается разрушением традиционных иерархий, в которых
человек стоит выше животного и неодушевленных предметов. Если первый (звуковой)
ряд еще подчиняется некой регрессивной иерархии (человеческие звуки
предшествуют мычанию и блеянию), то визуальный ряд представляет уже совершенно
аиерархический хаос. Сквозь такого рода словесные конструкции просвечивает не
просто 'детерриториализация' языка, но 'детерриториализация' тел.
Вспомним,
что Рильке ввел описанный им эпизод рассуждениями о том, что люди в Париже
претерпевают странные метаморфозы, превращаются в марионеток, в обломки
кариатид5:
'Куски,
куски людей, части животных, остатки бывших вещей, и все это еще в движении,
словно гонимое каким-то зловещим ветром, несущее и носимое, падающее и само
себя в падении перегоняющее'.
В
этом контексте и тело 'субъекта' - это тело, влекомое к метаморфозе, а в
пределе - к исчезновению, выходу за пределы зрения и языка. Он исчезает в
толпе, как в неком телесном агрегате, в котором происходит размельчение,
раздробление на куски, трансформация автономного тела в некую субстанцию,
которую Делёз и Гваттари называют 'молекулярным' ('становлением
молекулярного').
То,
что происходит с 'субъектом', - это по существу заторможенное напряжение некой
телесной метаморфозы, почти кафкианской. В теле преследуемого бродит какая-то
нечеловеческая сила, которая стремится найти выход наружу, прорвать оболочку,
вывернуть ее наизнанку:
'...Жуткое
двухтактное дерганье, едва оставив его ноги, перекинулось на шею за поднятым
воротом и в беспокойные руки. С того мгновения я с ним сросся. Я чувствовал,
как это дерганье бродит по телу, ища, где бы вырваться...' Метаморфоза задается
как прорыв изнутри. Палка оказывается отчасти и знаком того твердого и
предельно напряженного, что пока еще таится в теле, это фальшивый знак (семиотический
протез) еще не явленного означающего. Рильке видел напряжение такого рода
потенции в жестикуляции статуй Родена:
__________
5 Рильке в данном случае буквально
следует за Бодлером, для которого человеческие обломки, 'руины' - одновременно
и антигравитационные марионетки. См. стихотворение 'Старушки':
То
бочком, то вприпрыжку - не хочет, а пляшет,
Будто дергает бес колокольчик смешной,
Будто кукла, сломавшись, ручонкою машет
Невпопад!
(Бодлер 1970: 150; перевод В. Левика).
64
'Жест,
произраставший и постепенно развившийся до такой силы и величия <...>
пробился родником, тихо стекающим по телу. <...> Об этом жесте можно
сказать, что он почиет в твердом бутоне' (Рильке 1971:103-104). При этом каждая
точка, в которой сосредоточено напряжение, описывается Рильке как рот, как
множество ртов, покрывающих тело (Рильке 1971: 103). Речь идет именно о прорыве
слова из тела, вернее не слова как такового, но знака.
Страх
Бригге-Рильке в значительной мере является страхом перспективы рождения чего-то
неведомого, неописуемого, невыразимого, выворачивания наружу чудовища. Рождение
монстра и происходит внутри толпы, которая сама уже есть монстр, молекулярный
агрегат, выходящий за пределы возможностей описания (ср. с гоголевским:
'...весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим
туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит').
Но
страх этот задается и отсутствием пространства между наблюдателем и
наблюдаемым. 'Бесперспективное зрение', описанное Бахтиным на примере
следования повествователя за Голядкиным, предполагало страх, которым насквозь
пронизан 'Двойник'. Дистанцированность, перспектива- это еще и безопасность,
это еще и право оставаться развоплощенным взглядом, наделенным, как всякое
бестелесное присутствие, особой властью и неуязвимостью. 'Бесперспективное
зрение', не позволяя дистанцироваться от объекта наблюдения, разрушает
традиционно присущий рассказчику статус субъекта, помещенного в точку зрения
воображаемой перспективы. Оно подводит нарратора на расстояние прикосновения,
которое представляет для него опасность. Элиас Канетти заметил:
'Ничего
так не боится человек, как непонятного прикосновения. Когда случайно
дотрагиваешься до чего-то, хочется увидеть,
хочется узнать или по крайней мере догадаться, что это. Человек всегда
старается избегать чужеродного прикосновения. Внезапное касание ночью или
вообще в темноте может сделать этот страх паническим. Даже одежда не
обеспечивает достаточной безопасности:
ее
так легко разорвать, так легко добраться до твоей голой, гладкой, беззащитной
плоти' (Канетти 1990: 391). Этот страх связан с тем, что прикосновение к телу
превращает его в объект еще в большей степени, чем взгляд, обращенный на него.
Прикосновение заставляет тело пережить глубокую метаморфозу (переход от
субъектности к объектности), оно разрушает, казалось бы, незыблемый статус
наблюдающего субъекта.
Фрейд
говорил о табу прикосновения и описывал невротическую практику подавления
страха через 'изоляцию' тревожащего предмета. В принципе, фрейдовская изоляция
сопоставима с пространственным дистанцированием, но она также направлена на
разруше-
65
ние
сложившихся ассоциативных цепочек. Фрейд, в частности, упоминает 'моторную
изоляцию': 'Моторная изоляция призвана обеспечить разрыв связей в мышлении'
(Фрейд 1979: 276). Фрейдовская 'изоляция' в интересующем меня контексте может
действовать по-разному в разных ситуациях. Она может держать 'опасное' тело на
расстоянии, но она может и приблизить его, компенсировав ослабление
пространственной изоляции моторной. В таком случае 'опасное тело' перестает
функционировать согласно 'органической' логике телесности, но как бы дробит
жестикуляционную синтагму на изолированные, не связанные друг с другом
элементы.
Описанная
Рильке ситуация разворачивается следующим образом: наблюдатель следует за
субъектом, постепенно он начинает имитировать его, повторять каждое из его
движений, и по мере этого повторения, этого копирования, этого незаметного
превращения в зеркальное отражение субъекта, расстояние между ними сокращается
почти до нуля: 'Теперь я был буквально за
его спиной, полностью лишенный всякой воли, влекомый его страхом, уже не
отличимым от моего собственного'.
Это
сокращение расстояния, сопровождающееся нарастающим страхом наблюдателя,
одновременно провоцирует цепочку 'моторных изоляций', делающих поведение
наблюдаемого тела все менее связным. Уничтожение расстояния между
преследователем и преследуемым приближает метаморфозу наблюдаемого, но и
метаморфозу самого наблюдателя. Она предопределена заранее имитацией
зеркальности. Зеркальное отражение тела, хотя оно и дается зрению как нечто
внешнее, видимое со стороны, остается странной смесью внешнего и внутреннего.
Приведу пояснения Мориса Мерло-Понти:
'Мое
тело в зеркале продолжает, как тень, следовать моим намерениям, если же
наблюдение сводится к варьированию точки зрения и сохранению объекта в
неподвижности, оно ускользает от наблюдения и дается в качестве симулякра моего
тактильного тела, поскольку оно имитирует инициативы, вместо того чтобы
отвечать им свободным разворачиванием перспектив. Мое визуальное тело - это
предмет, в том что касается частей, удаленных от моей головы, но стоит
приблизиться к глазам, оно отделяется от предметов и организует среди них
квазипространство, в которое предметам нет доступа, когда же я хочу заполнить
это пространство с помощью изображения в зеркале, оно вновь отсылает меня к
оригиналу тела, находящемуся не там, среди вещей, но с моей стороны, вне
всякого зрения' (Мерло-Понти 1945:107-108). Если довести до известного
совершенства двойничество, если действительно превратиться в демона, так что
каждому движению тела будет соответствовать движение глаз, движение
преследующего
66
субъекта,
то тело-отражение, тело-двойник вообще исчезнет из поля зрения как внешний, визуальный симулякр и неожиданно
трансформируется в тактильный симулякр, магически имитирующий внутренние
интенции тела, вместо того чтобы имитировать пространство, 'свободное
разворачивание перспектив'. Внешнее здесь превращается во внутреннее. И это
превращение - заключительный этап метаморфозы наблюдателя в наблюдаемого.
Рильке в 'Записках' пишет о странной метаморфозе, которой подвергалось тело
Бригге в зеркале, когда внешняя оболочка тела - костюм - неожиданно становилась
носителем собственной воли, когда воление начинало исходить не изнутри, но как
бы снаружи:
'Тогда-то
узнал я, какую власть имеет над нами костюм. Едва я облачался в один из этих
нарядов, я вынужден был признать, что попал от него в зависимость; что он мне
диктует движения, мины и даже прихоти; рука, на которую все опадал кружевной манжет,
уже не была всегдашней моей рукою; она двигалась как актер и даже сама собой
любовалась, каким это ни звучало бы преувеличением' (Рильке 1988: 83).
Показательна
эта способность руки наблюдать за собой, то есть осуществлять видение без
собственного органа зрения. Дело доходит до того, что зеркальное изображение
выворачивает себя наизнанку и в конце концов парадоксально предъявляет
наблюдателю его самого по 'эту' сторону зеркала, то есть вне поля зрения.
Метаморфоза протекает через подавление зрения как такового.
Роже
Кайуа, рассматривая миметизм как своего рода 'психастению', слабость ego, стремящегося деперсонализироваться
и превратиться в 'другого', считал, например, что подавление зрения, темнота
ночи- необходимые условия для такой психастенической трансформации:
'...Темнота-
это не просто отсутствие света; в ней есть что-то позитивное. В то время как
освещенное пространство стирается перед материальностью предметов, темнота
'насыщена', она непосредственно касается индивида, окутывает его, проницает и
даже проходит насквозь:
таким
образом, 'Я' оказывается проницаемо для темноты, но не для света' (Кайуа
1972:109).
В
этом смысле подавление дистанцированного, перспективного видения оказывается
необходимым условием для метаморфозы.
Рильке
описывает ситуацию опасного сближения двух тел, исчезновения пространства между
ними, установления миметической психастении, приводящей к деперсонализации. И
этому постепенному стиранию границ между телами, выворачиванию внутреннего во
внешнее и наоборот соответствует конвульсивное выбухание иного, нового,
миметического тела изнутри преследуемого. Тело - это не что иное, как
зеркальное отражение самого Бригге, которого рож-
67
дает
преследуемый им неврастеник. 'Другой', сидящий в нем, - это тактильный
симулякр, оказавшийся по 'эту' сторону зеркала, но все еще находящийся внутри.
3. Внутреннее/внешнее
Рильке
был заворожен трансформациями, связывающими внутреннее с внешним6. След этой завороженности очевиден в письме к
Лу Андреас-Саломе от 20 февраля 1914 года:
'Я
понял лучше, чем это когда-либо ранее дано мне было понять, каким образом
эволюционирующее создание переводится все далее и далее из [внешнего] мира в
мир внутренний. Особенно изумительное место в этом путешествии вовнутрь
занимает птица: ее гнездо, это по сути дела внешнее лоно, подаренное ей
Природой, лоно, которое она обставляет и покрывает, вместо того чтобы содержать
его внутри себя' (Рильке 1988а: 238). Рильке утверждает, что птица не различает
между внутренним и внешним, а потому ее пение 'превращает весь мир во
внутренний ландшафт'7. Свои
рассуждения о диалектике внутреннего и внешнего Рильке завершает следующим
образом:
'Прекрасен
пассаж, касающийся "двух тайн": тайны, охраняющей то, что внутри, и
тайны, исключающей то, что снаружи.
Растительный
мир превосходно демонстрирует, что он не делает тайны из своих тайн, как будто
знает, что они и так будут всегда в сохранности. Но именно это я ощутил перед
скульптурами в Египте, именно это я всегда с тех пор и чувствовал перед лицом
всего египетского: это обнажение тайны и есть тайна с начала и до конца, в
каждом своем миллиметре, так что нет нужды ее прятать. Возможно, что все
фаллическое (такова была моя интуиция в Карнакском храме, я даже и сейчас не
смог бы об этом мыслить) - это лишь
экспонирование человеческой "интимной тайны" в смысле "открытой
тайны" Природы' (Рильке 1988а: 240).
____________
6 См. 'Восьмую Дуинскую элегию':
Вся
тварь земная множеством очей
глядит в открытый мир. Лишь наши очи
погружены всегда в самих себя
и вольный мир не видят из капкана
(Рильке 1977: 292; пер. Г. Ратгауза).
7 По мнению Отто Ранка,
птичье гнездо - это вынесенная наружу матка. Это выворачивание внутреннего
наружу засвидетельствовано в целом ряде поверий относительно способности матки
выходить подобно зверю из материнского организма наружу, например через рот. -
Ранк 1993: 16-17.
68
Выпячивание,
выставление интимного как некой внутренней тайны, фаллическое обнажение
чудовищного, превращение внутреннего во внешнее, все это происходит под напором
изнутри. Птица выворачивает свою интимность наружу, тем самым смешивая внешний
мир с собственным сердцем. Смысл 'овнешняется', но от этого он не перестает
быть внутренним, тайным. Поэтому момент финальной трансформации, момент
оргиастического пароксизма преследуемого, когда тот в конце концов отбрасывает
всякую личину, чтобы освободить свое 'внутреннее', явить его миру, совпадает с
моментом ослепления. Обнаружение тайны, невидимого делает их еще более
непроницаемыми. Мартин Хайдеггер определил это свойство птицы, как и поэта у
Рильке, как 'незащищенность'. И эта 'незащищенность устанавливается
человеческой самоутверждающейся природой таким образом, что сама эта
незащищенность, обернувшись вокруг самой себя, охраняет нас в самой
сердцевинной и наиболее невидимой области широчайшего внутреннего пространства
мира. Незащищенность защищает сама по себе' (Хайдеггер 1971:129). Хайдеггер
указывает, что рильковская 'незащищенность' связана со способностью сознания
вызывать из самых сокровенных глубин предметы, обретающие присутствие
(репрезентированность) в самой сердцевине внутреннего, скрытого пространства.
Использованный
Рильке образ птичьего гнезда до него интерпретировался в сходном контексте
Жюлем Мишле. Мишле утверждал, что круговая форма гнезда создается давлением на
него тела птицы, которая по существу воспроизводит форму своего тела в
создаваемой ею 'архитектуре':
'Таким
образом, дом - это сам человек, его форма, его самое непосредственное усилие; я
бы сказал - его страдание. Результат возникает благодаря постоянно повторяемому
давлению груди. Нет ни одной травинки, которая, ради того чтобы согнуться и
сохранить кривизну, не была бы тысячу раз отжата грудью, сердцем, да так, что
от этого наверняка перехватывало дыхание и начинался сердечный трепет' (Мишле
1859: 209).
Мишле
описывает создание гнезда со свойственной ему сентиментальностью. Но
описываемый им процесс относится к сфере отнюдь не сентиментальной. Речь идет о
репродуцировании, копировании себя, снятии 'маски' с собственного тела. При
этом давление изнутри (Мишле использует метафоры сердца и дыхания) производит
внешнюю оболочку. Копирование понимается как выворачивание наружу, как
метаморфоза. Гастон Башляр заметил по поводу созданной Мишле картины:
'Какая
невероятная инверсия образов! Мы имеем грудь, созданную эмбрионом. Все сводится
к внутреннему давлению, физически господствующей интимности.
69
Гнездо - это набухающий плод, давящий на собственные
границы' (Башляр 1994:101).
Это
выдавливание тела из собственных границ может быть понято и как причина
движения тела в пространстве. Тело выходит из себя, тем самым перемещаясь к
некой точке, в которой осуществляется метаморфоза. В 'Ворпсведе' имеется
странное описание голландских колонистов, чьи лица и тела в какой-то мере
сформированы по модели птичьего гнезда:
'У
всех одно лицо: суровое, напряженное рабочее лицо, кожа которого, растянувшись
от беспрестанных усилий, в старости становится велика лицу, точно разношенная
перчатка. Видишь руки, чрезмерно удлиненные от всяких тяжестей, спины женщин и
стариков, скрюченные как деревья, всегда выдерживающие один и тот же вихрь.
Сердце сдавлено в этих телах и не может раскрыться. ' (Рильке 1971:67)
Тело
этих людей - продукт деформации и давления. Они живут в своих телах, которые то
велики, то узки им, как внутри некоего отчужденного чудовищного квазиархитектурного
пространства.
Сходной
пространственной структурой наделен знаменитый критский лабиринт - прототип
всех лабиринтов (о лабиринте см. главу 3). Движение в нем часто уподобляется
танцу. Известно, что, выйдя из Лабиринта и достигнув Делоса, Тесей отметил
счастливый исход своего приключения танцем, в котором имитировались извивы
лабиринта. С тех пор так называемый 'танец журавлей' ритуально повторяет проход
Тесея по лабиринту (Сантарканжели 1974: 221-233). Танцующее тело не просто
проходит по воображаемому, невидимому (чаще всего лабиринтные танцы исполняются
ночью) пространству, оно строит это пространство своим движением, оно формирует
его наподобие того, как птица формирует своим телом гнездо. Франсуаза
Фронтизи-Дюкру утверждает, например, что Лабиринт, по-видимому, вообще нельзя
воспринимать как некое строение:
'Разнообразие
форм, которые ему придаются на монетах в Кноссе, где он представлен то
крестообразно, то первоначально как прямоугольник, а потом как круг, и
эквивалентность этой фигуры с излучиной [реки] (все на тех же Кносских монетах)
не позволяет видеть в нем план здания. Все указывает на то, что речь идет о
символической форме без архитектурного референта' (Фронтизи-Дюкру 1975:143).
Лабиринт
- это внешний рисунок движения тела, устремленного к трансформации. Лабиринтный
танец ритуально начинается Движением влево - в сторону смерти и кончается тем,
что цепочка танцующих меняет направление и символически воскресает. Танцующее,
вьющееся тело чертит линию
метаморфозы. По мнению Жа-
70
на-Франсуа
Лиотара, лабиринт 'мгновенно возникает в том месте и в тот момент (на какой
карте, по какому календарю?), где проявляется страх' (Лиотар 1974: 44). Страх
сопровождает и порождает метаморфозы. Страх сопровождает весь эпизод из романа
Рильке. 'Субъект' Бригге не просто движется по бульвару Сен-Мишель, его тело
излучает страх и прочерчивает некую сложную диаграмму пути. Народ, экипажи на
бульваре создают движущуюся стену-поток, которая обтекает идущего, формируя
особое 'миметическое' пространство, порождаемое его собственным движущимся
телом
'...Было
большое движение, сновал народ, то и дело мы оказывались между двух экипажей, и
тут он переводил дух, отдыхал, что ли, и тогда случался то кивок, то прыжок '
Все
зигзаги его пути, все прыжки, кульбиты, повороты, вздрагивания, все отклонения
от воображаемой прямой отражают структуру приложения сил, которые лишь
визуализируются причудливым, лабиринтным маршрутом одержимого ими тела
Рильке
был заворожен картой Нила, чей абрис он прочитывал в категориях лабиринтных,
энергетических метаморфоз.
'Я
достал для себя большой Атлас Andree и глубоко погружен в его странно
однородную страницу, я поражен течением этой реки, которая, набухая как контур
Родена, содержит в себе богатство многоликой энергии, повороты и изгибы, подобные
швам на черепе, производящие множество мелких жестов, когда она качается влево
или вправо вроде человека, идущего через толпу и что-то в ней раздающего, - то
он видит кого-то, нуждающегося в нем, здесь, то там, но все же медленно
продвигается вперед Впервые я ощутил реку так живо, так реально, почти как
человека..' (Рильке 1988а' 113)
Показательно,
конечно, что кривая линия, конвульсивная графема персонализируется до образа
человека, идущего в толпе Движение в толпе - это прежде всего перераспределение
сил, это диаграмма, это лабиринт, превращенный в след Но это одновременно и
фигура письма Рильке переживает лабиринтное движение Нила как след на бумаге
Энергия тела, как энергия текста, - в их извивах Трость, которую прижимает
'субъект' к спине, - это прямая, получающая весь смысл только через кривизну
лабиринта
Диаграммы
конвульсивного тела, будь то антраша Чичикова или гоголевские хохочущие тела,
раздвоенное и безынерционное тело Голядкина или странные извивы 'субъекта'
Рильке, - это всегда тела в становлении, в исчезновении (не случайно и лабиринт
на карте дается Рильке как река - символ напряженного становления и
исчезновения) Тела эти даются читателю в некой особой перспективе, которая
теснейшим образом связана с причудливостью их поведения. Гоголевское тело
миметично по отношению к авторскому
71
сказу,
Голядкин дается в 'бесперспективном' 'демоническом' зрении, 'субъект' Рильке
выворачивается в собственного преследователя. Все эти тела находятся в особых,
нестандартных отношениях с устремленным на них взглядом, они почти
'патологически' сцеплены с описывающим их повествователем. Плотность этого
сцепления такова, что повествователь и персонаж образуют 'агрегат', единую
машину, вырабатывающую как пластику персонажа, так и позицию рассказчика, с
этой пластикой тесно соотнесенную.
Конвульсивное
тело во всех описанных случаях, но каждый раз по-разному, исключает
дистанцированный взгляд наблюдателя извне. Именно отсутствие дистанцированности
и позволяет машине удвоений работать как энергетической машине. Разумеется, и
сверхудаленная, абстрактная точка зрения, вынесенная за пределы
репрезентативного пространства, может порождать свои напряжения и искривления.
Однако описываемая мной динамическая машина гораздо более явно связана с
разного рода деформациями телесности.
Вспомним
птицу Мишле. Ее активность целиком сводится к искривлению тех травинок, которые
она использует для построения гнезда. Искривление это возникает благодаря тому,
что птица (традиционный символ расстояния, дистанцированности, свободы) включена
в такую машину, где она вынуждена вступать в отношения энергетического нажима
на создаваемую ею копию самой себя Эта 'копировальная машина' работает таким
образом, что внутренняя часть гнезда имитирует наподобие отливочной формы
внешний абрис тела. Внутреннее задается как копия внешнего, как видимая,
эксгибируемая интроекция Эта метаморфоза внешнего во внутреннее и наоборот
возможна только благодаря копированию, удвоению изгиба. Копирование же изгиба
(деформации) возможно только в результате приложения сил, да такого, которое в
перспективе может уничтожить саму птицу
Машина,
производящая деформации, в значительной степени исключает слово или
детерриториализирует его. Деформации трудно описать, они гораздо явственней
переживаются тактильно, телесно, чем вербально и даже зрительно. Описываемая
машина не только снимает расстояние потому, что расстояние ослабляет действие
сил, она снимает расстояние потому, что лишь 'бесперспективное видение'
способно легко трансформироваться в тактильность Конвульсивная машина поэтому
тяготеет к ночи, лабиринтности, психастеническому расползанию ego, и в конечном
счете - к темноте, всем тем элементам, которые характеризуют регрессивную
позицию.
Конвульсивная
машина, смешивая внутреннее и внешнее, работает как психика ребенка на
параноидно-шизоидной стадии, описанной Мелани Клейн. 'Частичные объекты' Клейн
интроецируют-
72
ся
и попадают в неоформленную темную пропасть внутреннего пространства и
превращаются, по выражению Жиля Делёза, в агрессивные 'симулякры'. Симулякры -
это 'частичные объекты' без формы, объекты, которые нельзя представить и
вербализовать, они являются деструктивными сгустками энергии, погруженными в
глубину тела и агрессивно воздействующими изнутри на его границы, 'они способны
взорвать как тело матери, так и тело ребенка, фрагменты одного всегда
преследуют фрагменты другого и сами же преследуемы ими в той чудовищной
сумятице, которая и составляет Страсти младенца' (Делёз 1969:260).
Поверхность
тел, разделенная на эрогенные зоны, по мнению Делёза, возникает в результате
проекции частичных объектов из глубины. Проецируясь из глубины, они организуют
поверхность тела, которая первоначально строится вокруг провалов в глубину-
телесных отверстий. Мы имеем здесь как раз такой же процесс проецирования
глубины наружу, который иначе можно представить как процесс выворачивания под
воздействием неких энергий и сил.
По
наблюдению Мелани Клейн, параноидно-шизоидная стадия особенно ярко проявляется
на орально-анальном этапе развития сексуальности и сопровождается сильными садистскими
импульсами против 'внутренних', интроецированных объектов. При этом такие
объекты могут находиться не только внутри ребенка, но и внутри тела его матери,
так что
'атаки
ребенка на внутренности материнского тела и пенис, который он в них воображает,
ведутся с помощью ядовитых и опасных выделений...' (Кляйн 1960: 207) В
дальнейшем ребенок переносит страх с интроецированных частичных объектов на
внешний мир, внешние предметы и таким образом осуществляет фундаментальную
операцию приравнивания внутренних симулякров внешним объектам. Но теперь уже не
только внутренние симулякры проецируются наружу, но и внешние предметы
поглощаются (интроецируются) внутрь. И вновь внутренность материнского тела
претерпевает метаморфозу:
'..
Теперь внутренность ее тела представляет объект и внешний мир в более широком
смысле, дело в том, что теперь она стала местом, которое содержит, в силу более
широкого распределения диапазона страхов, больше разнородных предметов' (Клейн
I960: 208)
Клейн
привела множество доказательств распространенности фантазий об опасном
отцовском пенисе, якобы содержащемся внутри материнского тела. Сама эта
фантазия в значительной степени объясняет интенсивность садистского импульса,
направленного внутрь материнского тела. Пенис внутри- это невидимый орган, это
частичный объект, который никак не поддается описанию, он выявляется лишь в
страхе, тревоге, садистической агрессивности и тематике преследования.
73
Если
использовать терминологию Рильке, мы имеем дело с внутренней тайной, которая
являет себя в обнаженном фаллосе или фалличности египетских скульптур и
обелисков, как тайна вывернутая наружу, явленная. Таинственным в этой
сверхэкспонируемой форме является след ее минувшего пребывания внутри, ее
невидимости, которая согласно механизмам инверсии лишь проецируется на внешний
объект. Но и сам жест открытия, обнаружения придает экспонируемому
таинственность. Фаллос поэтому- всегда лишь проекция внутреннего, всегда лишь
симулякр, скрывающий тайну. Его 'оригинал' принадлежит ядру, непроницаемой
оболочке материнского тела.
В
преследовании Бригге тело преследуемого - это тело рожающее, выворачивающее
наружу содержащийся в нем симулякр. Это тело, обнажающее фаллос как тайну:
'Возможно,
что все фаллическое (такова была моя интуиция в Карнакском храме, я даже и
сейчас не смог бы об этом мыслить) -
это лишь экспонирование человеческой 'интимной тайны' в смысле 'открытой тайны'
Природы'.
Тот
факт, что Рильке через много лет после посетившего его 'откровения' все еще не
может мыслить свою интуицию,
свидетельствует лишь о том, что машина обнажения тайны, машина выворачивания
внутреннего действует именно как силовая машина, производящая диаграммы и
бросающая вызов дискурсивности. Тайна обнажена, но выразить ее нельзя потому,
что и предъявленная она все еще остается тайной, 'открытой тайной', если
использовать выражение Рильке. Обнажение правды целиком сосредоточено в
прорыве, в энергетической явленности, но не в мысли и не в словах. Только в
таком виде явленная тайна сохраняет свою загадочность.
4. Диаграммы
Слова
в принципе не в состоянии дать адекватного описания раздвоенной телесности и
'бесперспективного видения'. Русский беллетрист Александр Куприн опубликовал за
несколько лет до того, как Рильке описал 'субъекта в черном пальто', повесть
'Олеся' (1898), в которую включил эпизод, построенный вокруг идентичной
ситуации раздвоенной, демонической телесности. Речь идет о неком
'эксперименте', проводимом с повествователем деревенской 'колдуньей' Олесей.
Она заставляет рассказчика идти вперед, не оборачиваясь:
'Я
пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чувствуя за своей спиной
напряженный взгляд Олеси. Но, пройдя около двадцати шагов, я вдруг споткнулся
на совсем ровном месте и упал ничком' (Куприн 1957: 279).
74
Опыт
повторяется, и рассказчик без всякой видимой причины спотыкается и падает
вновь. На настойчивые расспросы Олеся отвечает достаточно невнятно, утверждает,
что не может объяснить. И далее следует растолковывание самого повествователя:
'Я
действительно не совсем понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот своеобразный фокус
состоит в том, что она, идя за мной следом шаг за шагом, нога в ногу, и
неотступно глядя на меня, в то же время старается подражать каждому, самому
малейшему моему движению, так сказать отождествляет себя со мною. Пройдя таким
образом несколько шагов, она начинает мысленно воображать на некотором
расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги на аршин от земли. В
ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся
вдруг делает падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий человек
должен непременно упасть <...> Только много времени спустя я вспомнил
сбивчивое объяснение Олеси, когда читал отчет доктора Шарко об опытах,
произведенных им над двумя пациентками Сальпетриера, профессиональными колдуньями,
страдавшими истерией. И я был очень удивлен, узнав, что французские колдуньи из
простонародья прибегали в подобных случаях совершенно к той же сноровке, какую
пускала в ход хорошенькая полесская ведьма' (Куприн 1957: 279-280).
То,
что Рильке описывает как странный жизненный опыт, Куприн описывает как 'фокус'
или псевдонаучный эксперимент (любопытно, однако, что и Рильке в 'Записках'
упоминает Сальпетриер и помещает в эту лечебницу один из эпизодов романа).
Характерно, что в конце приведенная им сцена превращается в подобие
медицинского эксперимента Шарко над истеричками. Уравнение ведьмы с истеричкой
- прямая дань позитивизму XIX века. Куприн начинает с признания, что он 'не
совсем понял ее', но далее достаточно внятно и плоско 'переводит' невнятицу
Олеси на жаргон квазинаучного описания.
Описание
это любопытно. Во-первых, в отличие от текста Рильке, повествователь здесь
помещен первым в паре. Он не преследует, он сам преследуем. В силу этого он
занимает, так сказать, 'слепую позицию', он ничего не видит. Он просто падает
ничком. Единственное, что он может сообщить читателю по собственному опыту, -
это ощущение напряженного взгляда Олеси. Поэтому все происходящее он вынужден
описывать с чужих (и невнятных) слов, со слов 'демона', 'преследователя'. Из
описания становится отчасти понятным сложное взаимоотношение тел. Идущий сзади
до мельчайших подробностей имитирует поведение человека, идущего впереди. Таким
образом, преследующий, подпущенный к нему так близко, что
75
расстояние
между телами элиминируется, первоначально ведет себя как миметическая кукла. В
итоге же, в момент падения оказывается, что отношения между телами незаметно
'перевернулись' и теперь идущий впереди оказывается марионеткой преследователя.
Различие между телами устраняется, оба они оказываются практически
неразличимыми.
Куприн
не в состоянии выразить эту ситуацию словесно. Вместо того чтобы снять
расстояние между описываемым и точкой зрения на него рассказчика, он поступает
наоборот, умножает дистанцию между повествователем и событием. Он резюмирует
речь другого о себе и начинает смотреть на себя странно-дистанцированным
образом, потому что его собственная позиция не позволяет ему осуществлять
наррацию, она в такой же степени слепа, как и нема. Вслушаемся в строение фраз
Куприна:
'Пройдя
таким образом несколько шагов, она
начинает мысленно воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги
на аршин от земли. В ту минуту, когда я
должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение, и тогда, по ее словам, самый
крепкий человек должен непременно
упасть...'
Я
умышленно выделил субъекты и объекты действия в этом плохо написанном тексте.
Олеся начинает воображать веревку 'впереди меня', она делает падающее движение,
когда 'я' должен прикоснуться к веревке, и от этого движения должен упасть
некто, определяемый как 'самый крепкий человек'. Этот 'самый крепкий человек'
возникает во фразе потому, что Куприн не может адекватно выразить в этой игре
местоимений то собственно, что должно произойти, - мое падение от ее жеста.
В итоге фраза, если спрямить изгибы ее подчиненных предложений и вводных
оборотов ('по ее словам') приобретает следующую логическую конструкцию- 'В ту
минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, самый
крепкий человек должен непременно упасть..'
Конечно,
Куприн не является изысканным стилистом. Однако это вполне грамотный писатель.
Странная путаность его повествования в данном случае неслучайна. Речь идет о
явлении, которое Жан-Франсуа Лиотар определил как 'разделение на знаки'
(clivage en signes) 'событий, тензоров, переходов интенсивностей' (Лиотар 1974:
62). Разделение на знаки прежде всего означает распределение по грамматическим
категориям, среди которых местоимения играют важную роль. 'Я', по мнению
Лиотара, выступает одновременно и как адресат и как дешифровщик знаков. 'Я'
разделяется в знаках на две ипостаси:
'"Я"
(Je) - это прежде всего 'я' (moi), но оно складывается через конструирование того, что говорит
"оно" или другой (так как его здесь нет). Та же
"диалектика" интен-
76
сивного
и интенционального разделяет все вовлеченные вещи, она разделяет меня,
конституируя, она есть конституирование 'я', воспринимающего/активного,
чувственного/интеллектуального, того, кому дарят/дарящего - все это, повторим,
имеет смысл только в конфигурации знака, разделение "Я" - это
конституирующее знак разделение...' (Лиотар 1974: 63).
Но
в этом конституирующем его разделении знака уже проявляется расслоение
'интенсивностей', которое продолжается в ситуации парных тел. Парное тело - это
тело максимально напряженной игры интенсивностей, напряжения, и описание этого
тела демонстрирует, каким образом единство 'парной' машины распадается сначала
на 'разделенное' 'я', а затем на целый набор противоречивых местоимений. Это
расслоение равнозначно распаду интенсивностей, разрушению машины.
Распад
интенсивностей в особо драматических случаях может принимать как форму
блокировки речи (у Рильке это метафора 'пустого листа бумаги'), так и форму
предельно отчужденной речи (у Куприна, например, это отсылка к 'отчету доктора
Шарко об опытах', который якобы содержит какое-то объяснение).
То,
что 'парное тело' сложно связано со строем речи, было продемонстрировано
Мишелем Фуко в его статье 'Наружная мысль'. Фуко отмечает, что отделение языка
от субъекта высказывания, его автономизация в некой безличной речи может
описываться через ситуацию 'компаньона', который есть не что иное, как
описанный мною 'демон'. 'Компаньон' Фуко как бы приближается непосредственно к
говорящему телу и отбирает у него речь, он все еще продолжает использовать
местоимение 'Я', но оно перестает относиться к говорящему, и речь как бы
отходит от порождающего его тела в 'нейтральное пространство языка',
существующее
'между повествователем и неотделимым от него компаньоном,
который за ним не следует, [пространство, которое расположено] вдоль узкой
линии, отделяющей говорящее "Я" от "Он", каким оно является
в качестве говоримого существа' (Фуко 1994: 536-537).
Любопытное
описание парного тела дает Петер Хандке в романе 'Повторение' (Die
Wiederholung). Здесь столкновение с 'демоном' порождает такое усложнение
позиции субъекта, которое постепенно приводит к дереализации всей ситуации.
Повествователь Филип Кобал описывает свои отношения с неким мистическим
'врагом', мальчиком, имитировавшим Филипа в детстве:
'И,
как правило, он даже не прикасался ко мне, он меня передразнивал. Если я шел в
одиночестве, он выскакивал из-за куста и шел за мной, подражая моей походке,
опуская ноги одновременно со мной и раскачивая руками в том же ритме. Если я
принимался бежать, он делал то же самое; если я останавливался, он делал то же
самое; ес-
77
ли
я моргал, он делал то же. И он никогда не смотрел мне в глаза; он просто изучал
мои глаза подобно всем остальным частям моего тела, с тем чтобы обнаружить
любое движение в самом зародыше и скопировать его. Я часто старался обмануть
его по поводу моего будущего движения. Я притворялся, что двигаюсь в одном
направлении, а затем неожиданно убегал. Но я ни разу не смог перехитрить его.
Его подражание было скорее подобно поведению тени; я стал пленником собственной
тени. <...> Он стал вездесущ, даже когда его в действительности не было
со мной. Когда я радовался переменам, моя радость вскоре испарялась, потому что
мысленно я видел, как ее имитирует мой враг и тем самым разрушает ее. И то же
самое случилось со всеми моими чувствами - гордостью, печалью, гневом,
привязанностью. Столкнувшись с их тенью, они перестали быть реальными. <...
> Сражаясь с ним в возрасте двенадцати лет, я больше не знал, кто я, иными
словами, я перестал быть кем бы то ни было...' (Хандке 1989:16-18).
Постепенное
растворение в собственной тени и угасание эмоций связано здесь с несколькими
точно описанными Хандке механизмами. Первый связан с нарастающей фиксацией
внимания на каждом движении. Стремление Филипа обмануть своего подражателя
приводит к поиску начальной фазы движения, еще не выявленного, не вышедшего
наружу. Речь идет, по существу, о поиске некоего состояния, предшествующего
манифестации, состояния нереализованных возможностей, когда выбор еще не
состоялся, а потому возможен обман.
Но
это состояние до начала движения оказывается в действительности не состоянием
бесконечного выбора возможностей, а состоянием невозможности начать, тем, что в экзистенциально-этическом плане
было названо Кьеркегором 'телеологическим приостанавливанием' (Кьеркегор 1968:
237-239). Движение в таком контексте - это некое инерционное проявление некоего
импульса, развертывание в континууме чего-то свернутого до мгновения. Но само
это мгновение оказывается странной сферой невозможности и паралича.
Индивидуальность двигающегося тела как бы исчезает вместе с динамикой в том
случае, если удается достичь самого истока движения.
Мерло-Понти
рассказал о фильме, запечатлевшем работу Анри Матисса. Самым поразительным в
работе художника был постоянно повторявшийся момент длительного колебания руки,
как будто зависавшей над холстом и перебиравшей десятки возможностей.
Мерло-Понти так прокомментировал увиденное:
'Он
не был демиургом; он был человеком. Перед его мысленным взором не представали
все возможные жесты, и, делая свой выбор, он не выбирал один жест из всех
78
возможных.
Возможности перебирает замедленная съемка. Матисс, находясь внутри
человеческого времени и видения, взглянул на все еще открытое целое
создаваемого им произведения и поднес кисть к той линии, которая того
требовала, ради того чтобы произведение стало наконец таким, каким оно было в
процессе становления' (Мерло-Понти 1964: 45-46).
Интенциональность
снимает момент колебаний как бесконечного выбора, предшествующего действию.
Невозможность начать, таким образом, по мнению Мерло-Понти, лишь фиксируется
камерой. Она дается лишь внешнему наблюдателю, копиисту, но незнакома самому
действующему телу.
К
истоку движения в данном случае устремлены два тела - тело Филипа и его
подражателя. Один действует в прямом соотнесении с целью своих поступков
(Филип), другой фиксирует со стороны исток этих действий как момент перебора
бесконечного количества возможностей (копиист). Магия 'врага' заключается в том,
что он, провоцируя идентификацию Филипа с ним самим и тем самым как бы
экстериоризируя принятие Филипом решений, лишает его интенциональности,
парализует его волю и тело Паралич выбора возникает через принятие точки зрения
на себя как бы со стороны. Копиист, демон - как раз и предлагают подобную игру
в диссоциацию точки зрения. Они воплощают вынос зрения вне собственного тела.
С
этой ситуацией прямо ассоциируется и второй механизм, связанный с нежеланием
'врага' посмотреть в глаза Филипу, нежеланием встретиться с ним взглядом Глаза
рассказчика изучаются подражателем как некие внешние объекты. Таким образом,
Филипу навязывается роль пассивного объекта наблюдения Закономерным образом
Хандке воспроизводит ситуацию Куприна, когда, казалось бы, активное тело (идущий
впереди, выполняющий движения по собственному усмотрению) оказывается пассивным
объектом магии Мимикрия в данном случае с непременностью приводит к распаду
ясной оппозиции субъект/объект (говорящий/компаньон), на которой основывается
синтаксическая структура речи ('.. я больше не знал, кто я, иными словами, я
перестал быть кем бы то ни было...'). Динамическое, энергетическое с
неизбежностью затрагивает логическое, дискурсивное, словесное.
Нельзя,
однако, считать, что речь идет о 'распаде' интенсивностей, об их 'деформациях'
как о некой совершенно нейтральной процедуре 'перекодировки' энергегического в
словесное. Сама по себе невозможность 'перевода' телесной ситуации в
дискурсивную - есть событие также
энергетического свойства. Распад интенсивностей в момент перевода их в знаки
откладывается в дискурсе также в виде деформаций.
Чрезвычайное
напряжение двух тел, между которыми различие редуцируется до их смешения,
конечно, не может быть до конца выражено в словесном описании - заметим еще раз
- подчеркнуто
79
дистанцированном.
Но все же это напряжение оставляет след в знаках, в формах их раздвоения,
расщепления. Неловкость, например, купринской речи, тяжелая синтаксическая
конструкция, неадекватность псевдонаучного жаргона описываемой ситуации и т. д.
- это также знаки неразрешимого напряжения, существующего между телесностью и
языком описания. Странная логическая конструкция фразы с 'самым крепким
человеком' - это также диаграмма, след несоответствий и провоцируемых ими
деформаций.
Машины
телесности, машины текстуальности как бы транслируют друг другу интенсивности в
виде диаграмм, в виде деформаций.
Понятие
'диаграммы' применительно к текстовым практикам было разработано Жилем Делёзом
и Феликсом Гваттари. Согласно Делёзу - Гваттари, языки описания или, шире,
'знаковые режимы' могут быть уподоблены машинам. 'Нормализованная' машина
вырабатывает определенные формы содержания и выражения. Однако периодически
возникает новая семиотическая машина, являющаяся плодом трансформации,
'детерриториализации' старой машины, нарушения стратифицированного и
нормализованного режима существования знаков. В момент трансформации, когда
новая машина еще не сложилась, когда она лишь возникает в момент замещения
старой семиотической машины, на месте хорошо работающего механизма оказывается
некая 'абстрактная машина', еще не овладевшая производством новых форм
содержания и выражения Абстрактная машина, машина становления других машин
производит диаграммы- дознаковые, предзнаковые или послезнаковые образования.
Абстрактная машина не знает различий между планом содержания и планом
выражения, она 'доязыковая машина'. При этом она
'сама
по себе не физическая или телесная, так же как и не семиотическая; она диаграмматическая (она также не имеет
никакого отношения к различию между искусственным и естественным). Она работает
через материю, а не субстанцию, через
функцию, а не через форму.
<...> Абстрактная машина - это чистая Материя-Функция - диаграмма,
независимая от форм и субстанций, выражения и содержания, которые она будет
распределять. <.. > Материя-содержание имеет только степени
интенсивности, сопротивления, проводимости, нагреваемости, растяжимости,
скорости или запаздывания; а функция-выражение имеет только 'тензоры', подобно
системе математического или музыкального письма. Письмо теперь функционирует на
том же уровне, что и реальность, а реальность материально пишет. Диаграммы
сохраняют наиболее детерриториализированное содержание и наиболее
детерриториализированное выражение для того, чтобы соединить их' (Делёз -
Гваттари 1987:141).
80
Когда
диаграммы попадают в стратифицирующее поле действия языка, они подвергаются
субстанциализации. Производимый абстрактной машиной континуум интенсивностей
заменяется разрывами, стратами, формами, элементами и т. д. То, что в
диаграммах записывалось как 'реальность' со всеми физическими показателями
реальности - сопротивляемостью, напряженностью и т. д., приобретает отныне
абстрактный характер знаков, в которых диаграммы себя 'не узнают'.
Стратификация
'диаграмматических полей' в языке подобна процессу 'разделения', которому
подвергаются интенсивности у Лиотара.
Делёз
вернулся к определению диаграммы в своей книге о Мишеле Фуко. Здесь он
несколько изменил перспективу. Диаграмма в эссе о Фуко прежде всего связана с
социальным полем, состоящим из артикулируемых 'утверждений' (например, законы)
и неартикулируемых видимостей (например, тюрьма, в которой дисциплинарность
принимает форму паноптизма). Диаграмма в подобной перспективе - это след
пересечения таких, казалось бы, не соединимых между собой образований. Это
рисунок, создаваемый точками приложения различных социальных сил, каждая из
которых явлена в иной семиотической или энергетической страте. Здесь Делёз
говорит о диаграмматической множественности, или диаграмматическом
многообразии.
Диаграммы
создают единство социального поля, которое без них оказалось бы просто
пространством дисперсии и нереализованных потенций. По существу, они являются
некими континуумами, которые в дальнейшем подвергаются 'раздвоению' на
артикулируемое и видимое. Они - неформализованные общие причины. Так же как 'Я'
при расслоении интенсивностей раздваивается на 'Я' - адресата сообщения и 'Я' -
дешифровщика знаков, социальная диаграмма расслаивается на мир видимого и мир
артикулируемого. 'Что же такое диаграмма? - спрашивает Делёз. - Это
демонстрация отношений между силами, конституирующими власть...' (Делёз 1988:
36). Это определение прежде всего относится к сфере приложения интересов Фуко,
к сфере отношений власти, но оно имеет и более широкое значение. Делёз дает еще
одну существенную дефиницию: 'Диаграмма -
это более не аудио- и не визуальный архив, но карта, картография, совпадающая
со всем социальным полем' (Делёз 1988: 34).
Проблематика
данной работы не выходит за рамки художественных текстов и телесности. В мою
задачу не входит рассмотрение понятия диаграммы в столь широком социальном
смысле, хотя, конечно, многие из рассмотренных вариантов телесности - Голядкин,
Башмачкин, 'субъект' Рильке - тесно связаны с проблематикой власти. Все они -
тела, испытывающие на себе давление соци-
81
альных
сил, которые так или иначе ответственны за конвульсивность их поведения.
Конечно, 'патологический' миметизм Чичикова или Хлестакова - явление не только
текстовое или телесное, но и социальное8.
Там,
где раздвоение еще не произошло, но где оно уже конституируется, там, где
давление сил уже выражает себя в становящемся удвоении, мы имеем дело с
'машинами' в смысле Делёза - Гваттари и с диаграммами как видимым следом сил и
наступающей трансформации. Делёз как-то определил тело в терминах чистой
энергетики:
'Каждая
сила связана с другими, она либо подчиняется, либо командует. Тело определяет
именно это отношение между господствующей и подчиненной силой. Всякое отношение
сил конституирует тело - будь то химическое, биологическое, социальное или
политическое. Как только две неравных силы вступают во взаимодействие, они
образуют тело' (Делёз 1983: 40).
Действительно,
активность тела зависит от приложения к нему сил. Именно эта силовая сторона
телесности делает ее столь 'непроницаемой', столь трудно осмысливаемой для
сознания. Даже относительно успешные попытки осмыслить психические механизмы в
терминах напряжений и сил (либидинозная психология, концепция бессознательного
как поля взаимодействия сил) до конца не снимают этой фундаментальной непроницаемости.
Конвульсивное
тело, в отличие от 'классических' тел, еще более явственно реализует свою
зависимость от сил и интенсивностей, то есть именно от тех 'материи' и
'функции', которые удобно описывать в терминах диаграммы.
Существенной
особенностью конвульсивных тел является их почти непременное миметическое
удвоение, которому сопутствует 'неклассическая' ('бесперспективная', если
использовать термин Бахтина) форма зрения. Конвульсивное тело ведет себя именно
как машина трансформаций, в которой меняется режим знаков Континуум
интенсивностей расщепляется, умножая тело надвое (возникает демоническая пара).
Но эта пара еще не включила на полный ход языковую машину, хотя перевод
видимого в дискурсивное уже оказывается проблематичным. Да и мир видимостей еще
не сформировался до конца, не вычленился из мира слепоты. Неудачи в этом
межсемиотическом переводе - сами по себе диаграмматичны.
Так
функционирует телесность, разворачивая цепочку деформаций, конвульсий,
удвоений, строя лабиринтную карту диаграмм как карту движений, в которых
видимое и дискурсивное еще сближены настолько, что подавляют друг друга.
_________
8 Делёз определяет социальные
отношения имитации как 'истинные отношения меяоду силами, в той мере в какой
они трансцендировали простое насилие' (Делёз 1988.36)
Г л а в а 3. ЛАБИРИНТ
Лабиринт
- это темное пространство, в котором движется тело. Это тело, строящее
пространство своего движения, почти не контролируемое зрением. А потому и
отношение между дискурсивным и чувственным здесь иное. Дискурсивное начинает
соотноситься с наиболее регрессивной сферой чувственности - со сферой
тактильного, с миром странных когнитивных карт и маршрутов, со сферой диаграмм
par excellence.
В
последней, пятой части 'Отверженных' Гюго описывает блуждания Жана Вальжана по
парижской клоаке. Описание этих блужданий занимает целых две книги - 'Утроба
Левиафана' и 'Грязь, побежденная силой духа'. Необычен большой объем этого
эпизода по отношению к сложности нарративной ситуации: человек бредет во тьме
по неведомому ему лабиринту темных каналов, лишенный какой-либо ориентации.
Когда герой оказывается по существу слепым и лишенным знания, автор начинает
испытывать затруднения вместе с героем. Показательно, что готический роман,
создавший моду на подземелья, при всем изобилии последних на его страницах,
часто не в состоянии развить описания подземных блужданий больше, чем на
несколько абзацев. Эта неспособность отражает зависимость дискурсивного от
видимого, при всей их кажущейся несовместимости. Диаграмматический корень у них
все же общий. Стандартные описания обычно ограничиваются топосами страха и
отчаяния - то есть откровенными аллегориями переживаемой автором неспособности
к повествованию. Примеры таких неудавшихся описаний можно обнаружить в
готическом романе, например, у Анны Рэдклиф или Мэтью Льюиса. В 'Монахе'
последнего, например, погружение героя - Амброзио - в темный подземный лабиринт
пробуждает целый поток риторических фигур, заменяющих собой 'невозможное'
описание:
'Теперь
Амброзио остался один. Самая непроницаемая темнота окружала его и пробуждала
сомнения в его груди. < ...> С радостью он бы вернулся в аббатство; но
поскольку он прошел через бесчисленные пещеры и извилистые переходы, попытка
вновь найти ступени была безнадежной. Судьба его была предрешена; никакой возможности
бежать не было. < ...> В настоящее время в его ощущениях господствовал
ужас' (Льюис 1959: 270-271).
83
Льюис
незаметно переходит от образа лабиринта к связанному с ним топосу 'судьбы' и
тут же переводит повествование в риторический пласт, к которому относится и
непременный в таком случае топос 'ужаса'.
Для
Гобино подземелья - воплощенное ничто. Там ничего не видно, там нечего
описывать. Спуск под землю в таком контексте вообще не имеет смысла. В 'Акриви
Франгопуло' (1867) Гобино замечает:
'Ценой
изнурительных усилий достигаешь глубин пещеры; поднимаешь голову и оказываешься
достойно вознагражденным за идиотизм всех этих стараний: вокруг не видно ничего
такого, ради чего стоило бы сделать три шага' (Гобино 1968: 230). Иными
словами, не видно ничего.
Поскольку
внешний мир, данный человеку в ощущениях, почти полностью подавлен темнотой
подземелья, 'внешнее' постепенно исчезает и замещается 'внутренним'. Погружение
в темноту оказывается метафорическим погружением в самого себя, вернее странной
метаморфозой, в которой внешняя темнота становится почти эквивалентной пугающей
темноте внутреннего, описанной Мелани Клейн и Делёзом (см. главу 2). В этом
смысле Гобино прав - подземелье не стоит того, чтобы сделать и три шага. Оно
всегда рядом, в тебе самом. Гастон Башляр, пытавшийся разгадать смысл
многочисленных подземных блужданий в европейской литературе, обратил внимание
на изобилие связанных с ними органоморфных сравнений: 'утробу Левиафана' в
'Отверженных' или аналогичное сравнение в 'Человеке, который смеется'
('...узкий коридор извивался, как кишка; внутренность тюрьмы так же извилиста,
как и внутренности человека' [Гюго 1955: 407].) Башляр пришел к выводу, что
перед нами навязчиво повторяющаяся метафорика глубинной интроспекции,
погружения внутрь человеческого тела:
'Если
мы, наконец, обратим внимание на наши кошмары, связанные с лабиринтами, то мы
обнаружим внутри себя многие телесные реалии, производящие впечатление
лабиринтов' (Башляр 1965: 258).
Конечно,
представлять лабиринт как вынесенное вовне подобие кишечника - значит упростить
ситуацию. В действительности лабиринт - это продолжение и удвоение помещенного
в нем тела, но удвоение достаточно сложное.
В
каком-то смысле он сходен с гнездом, которое строит птица у Рильке и Мишле, -
oil копия строящего его тела (см. главу 2). Кафка в рассказе 'Нора'
подчеркивает, что нора-лабиринт построена многолетними стараниями 'всего тела'
населяющего его существа. А сам процесс строительства подземного лабиринта
описан почти как строительство гнезда у Мишле:
84
'Тысячи
и тысячи раз, дни и ночи напролет я должен был биться лбом о землю, и я был
счастлив, когда появлялась кровь, так как это доказывало, что стены начинают
твердеть...' (Кафка 1971: 328)
Крот
Кафки строит лабиринт как некое расширенное тело, властелином которого он
является в той мере, в какой схема лабиринта фиксируется в моторике строящего
его тела. Дело не просто в том, что Крот разбивает о землю лоб, но в том, что
он в кровь разносит свое тело, тысячекратно повторяя одно и то же движение, так
что схема лабиринта становится схемой его собственной моторики. В какой-то
степени лабиринт из 'Норы' сходен с машиной из 'Исправительной колонии'. И то и
другое вписывает в тело некий пространственный текст.
Кровь,
проливаемая Кротом, имеет и символическое значение. Лабиринт строится как место
жертвенной трансфигурации, место преобразования тела, связанное с сакральным
пролитием крови (к числу таких же лабиринтов, связанных с жертвоприношением,
относился и знаменитый Кносский). Антонен Арто в 'Гелиогабале' описал подземный
сточный лабиринт, по которому жертвенная кровь спускается в глубины земли,
покуда не касается 'первобытных геологических пластов, окаменевших содроганий
хаоса' (Арто 1979: 42). Жертвоприношение - всегда удвоение профанного
сакральным.
Лабиринт-
также машина, удваивающая помещенное в него тело. Тело в нем всегда соотнесено
с неким внешним, но глубоко интериоризированным пространством собственного
двойника. Лабиринт - это архитектурный двойник тела, двигаться в нем - все
равно что двигаться внутри некой памяти тела, хранящей следы многократно
проделанных маршрутов. Более того, двигаться в освоенном, 'своем' пространстве
подземного лабиринта - означает актуализировать память тела, растворить
настоящее в прошлом, жить внутри следа, составляющего внешнюю мнемоническую
оболочку тела. Погрузиться в 'свое' подземелье - означает погрузиться не в
кишечник, но в симулякр собственного тела, построенный из моторной памяти
маршрутов.
Избранная
Гюго стратегия описания подземных странствий Жана Вальжана целиком построена на
соотнесении маршрутов, планов и карт. Ситуация, однако, осложняется тем, что
герой Гюго оказывается не в своем, но
в чужом лабиринте, в чужой,
непроницаемой для него памяти, внутри динамической схемы чужого тела. Эта
ситуация и определяет 'странности' избранного Гюго нарративного метода.
Он
начинает с подробного описания истории парижской клоаки, затем переходит к
описанию самого подземного путешествия, которое постоянно соотносится им с
неким планом подземного Парижа.
85
При
этом Вальжан старается соотнести свое местопребывание с расположением парижских
улиц, но это ему чаще всего не удается:
'Он
решил, что находится, вероятно, в водостоке Центрального рынка, что, выбрав
левый путь и следуя под уклон, он может меньше чем в четверть часа добраться до
одного из отверстий, выходящих к Сене между мостами Менял и Новым...' (Гюго
1979, т. 2: 607, далее в тексте главы указывается том и страница этого
издания). В действительности расчеты героя ошибочны:
'Жан
Вальжан ошибся в самом начале. Он думал, что находится под улицей Сен-Дени, но,
к сожалению, это было не так' (2,608).
Гюго
не только постоянно корректирует незнание Вальжана своим топографическим
комментарием. Время от времени он даже воображает себе, что бы случилось с
героем, выбери он тот маршрут, которым он не
пошел:
'Если
бы Жан Вальжан направился вверх по галерее, то после бесконечных усилий,
изнемогая от усталости, полумертвый, он в конце концов наткнулся бы во мраке на
глухую стену. И это был бы конец.
В
лучшем случае, вернувшись немного назад и углубившись в туннель улицы Сестер
Страстей Господних, не задерживаясь у подземной развалины под перекрестком
Бушра и следуя дальше коридором Сен-Луи, затем, свернув налево, проходом
Сен-Жиль, повернув потом направо и миновав галерею Сен-Себастьен, он мог бы
достичь водостока Амло, если бы только не заблудился в сети стоков,
напоминающих букву F и залегающих под Бастилией, а оттуда уже добраться до
выхода на Сену возле Арсенала. Но для этого необходимо было хорошо знать все
разветвления и все отверстия громадного звездчатого коралла парижской клоаки.
Между тем, повторяем, он совершенно не разбирался в этой ужасной сети дорог, по
которой плутал, и если бы спросить его, где он находится, он ответил бы:
"В недрах ночи"' (2, 619).
Гюго
действительно помещает Вальжана в 'чужой', вернее в 'свой', то есть авторский
лабиринт. Именно он, Гюго, прекрасно знает, как нужно двигаться в этом
хитросплетении, где повернуть, где перед идущим может возникнуть сложность. Он
обладает знанием-памятью того пространства, в котором вслепую брошен его
герой!.
__________
1 Пародийный вариант раздвоенности
автора, который одновременно 'преследует' персонажа и следит за его движениями
сверху, 'по карте', был придуман Константином Вагиновым в 'Трудах и днях
Свистонова' Здесь описан кошмар герои ни - Наденьки
'Начинает
бежать по бесконечным комнатам Огромный дом, вроде лабиринта Живет в нем только
этот человек Бежит она по коридору, снова по светлым комнатам, по гостиным с
лепными стенами, иногда в конце коридора видит его Он злорадно смеется, и она
снова бежит и знает, что все время он ее видит и находит Наконец, вбегает она в
комнату вроде кухни, знает, что здесь дверь на улицу Смотрит на стену и
понимает сразу, почему этот человек знает, где она на стене план этого дома, а
весь путь ее, Наденьки, показывает в нем медная то ненькая проволока, которая
сама ложится по ее следам, все время указывая, куда Наденька идет. От проволоки
остался маленький свобод ньш конец, и Наденька видит, как она ее отгибает и
ставит торчком Теперь она знает, что проволока ничего не укажет' (Вагинов 1989
249)
Человек
следит за Наденькой по плану дома и одновременно возникает в 'конце коридора'
Вагинов, однако, иронически усложняет ситуацию Наденька посто янно 'знает', что за ней следят, а в конце,
обнаружив план, она сама раздваивается на наблюдателя и персонажа, когда видит
со стороны, как она отгибает проволоку.
86
С
точки зрения нарративной экономии метод Гюго кажется малоэффективным. Вся эта
детальная топография имеет более чем косвенное отношение к блужданиям героя,
который выбирает иной маршрут, не знает ее, которому она никак не служит - тем
более что некоторые топографические пассажи (как вышеприведенный) существуют в
условном наклонении. Воображаемый маршрут, рисуемый Гюго на карте, пожалуй,
только запутывает читателя, особенно плохо знакомого с Парижем. При этом Гюго
полностью отдает себе отчет в возникающей разобщенности авторского знания и
незнания персонажа:
'У
Жана Вальжана не было того факела, каким пользуемся мы, чтобы осветить читателю
подземное странствие, - он не знал названий улиц. Ничто не указывало ему, какой
район города он пересекал или какое расстояние преодолел'(2,621).
Если
представить себе нарративную стратегию Гюго в пространственных категориях, то
она будет выглядеть следующим образом:
вместо
того чтобы неотступно следовать за героем и пытаться описывать его
передвижения, сам 'Гюго' как бы движется по одному маршруту, но в какой-то
момент замечает, что герой его пошел иначе. Он описывает передвижения Вальжана
как отклонения от собственной схемы.
Речь идет о постоянно фиксируемой им диссоциации моторной памяти собственного
тела рассказчика и беспамятства персонажа.
В
иных эпизодах романа рассказчик легко следует за героем, диссоциации авторского
тела и тела персонажа не наступает. Она становится очевидной, как только Гюго
начинает строить для Вальжана свой собственный лабиринт. Лабиринт этот
оказывает удивительное воздействие на повествование. Он как бы автоматизирует
маршрут повествователя, которому становится 'трудно' следовать за персонажем,
ведь память его собственного тела заставляет его двигаться подобно автомату по
привычным маршрутам. Вальжан
87
же
отклоняется от них потому, что тело его не несет памяти этих маршрутов.
В
каком-то смысле расслоение рассказчика и персонажа (которое может быть понято и
как удвоение телесности) наступает потому, что рассказчик начинает двигаться
как марионетка, как автомат собственной памяти, а персонаж сохраняет свободу
выбора своего собственного маршрута (отчего и движется 'неправильно').
Этим,
однако, дело не ограничивается. В тексте 'Отверженных' откладывается в виде
следов та мифология, которая окружала подземный Париж. Индивидуальная память
тела горожанина, сформированная сетью улиц и привычных городских маршрутов,
входит в соприкосновение с памятью культуры, с чужой памятью, так или иначе проецируемой на подземный лабиринт.
Поскольку подземное пространство было в реальности мало кем обжито, оно
оказалось местом проекции исторического воображаемого, городской мифологии.
Ограничусь кратким, почти перечислительным ее очерком.
Естественным
образом на парижские подземелья проецировалась вся мифология преисподней и
потустороннего мира. Эта мифология питалась, например, и тем, что один из
входов в парижские катакомбы находился на улице Анфер (Ад). Сравнение подземных
каналов со Стиксом могло лечь в основу развернутых сюжетных конструкций. В
популярном романе Жозефа Мери 'Парижские салоны и подземелья' фигурирует старик
Ахариас, охраняющий вход в подземелья подобно Церберу. В романе описано и
путешествие по подземным каналам на лодке Ахариаса, навязчиво сравниваемого с
Хароном, и т. д. В подземельях человек превращается в тень, душу умершего2. Эти представления, по-видимому, связанные со
всеми подземельями мира, получили особый импульс в результате создания гигантского
парижского оссуария - захоронения костей и черепов в гротах катакомб. Оссуарий
начал складываться в 1786 году после переноса в катакомбы остатков захоронений
первоначально кладбища Инносан, а затем и большинства парижских кладбищ. Сюда
были перенесены десятки тысяч трупов (для их перевозки использовали тысячу
повозок), кости которых были размещены здесь не без орнаментального изыска
(Ариес 1981: 498-500). Эли Берте, автор сенсационного романа 'Парижские
катакомбы' (1854) писал:
'...Поколения
мертвых накапливаются в этих мрачных складах, сегодня их количество оценивается
в двенадцать или пятнадцать миллионов (в двенадцать или пятнадцать раз больше,
чем нынешнее население Парижа), человеческие создания явились сюда, чтобы
перемешать свои останки' (Берте 1854, т. 2: 275-276). Посещение оссуария стало
щекочущим нервы развлечением для
_________
2 Обзор представлений о подземных
жилищах богов и душ умерших см. Роде 1966:88-114
88
туристов.
Надар запечатлел их облик в серии популярных фотографий (Ямпольский 1989:
91-92).
Иная
мифологическая линия связана с идентификацией парижских подземелий с
катакомбами первых христиан. Импульсом послужило открытие в 1611 году под
часовней Мучеников подземного святилища с алтарем. Эта подземная церковь стала
ассоциироваться с мучениями святого Дени и его соратников (Фурнье 1864: 53-57).
Но настоящей сенсацией стал ложный слух об открытии неким Дюбуа подземного
храма Осириса и Исиды, якобы подтвердившем старые легенды об исиадическом
культе в древней Лютеции (Балтрушайтис 1967). Воображаемый храм Осириса
'был
круглой формы, в центре его поддерживали восемнадцать мраморных аркад, тут же
находился серебряный алтарь, украшенный двенадцатью золотыми статуями...'
(Фурнье 1864: 58) и т. д.
По
рассказам Дюбуа, открытые им подземелья были так велики, что он шел по ним семь
часов, прежде чем достиг храма. Осирис придавал мистический оттенок странствиям
душ в парижских подземельях. Почти во всех текстах, связанных с тематикой
подземелья, появляется загадочная подземная церковь: у Мери это часовня с
алтарем, у Берте - храм тамплиеров, в 'Консуэло' у Жорж Санд - это 'церковь',
естественная пещера, сталактиты которой 'можно было принять за бесформенные
статуи, исполинские изображения варварских богов древности' (Санд 1982: 249).
Моделью здесь можно считать подземный эпизод 'Мучеников' Шатобриана. Евдор
рассказывает, как он идет по римским катакомбам, по лабиринту, 'чьи
погребальные коридоры были уставлены тройным рядом гробов, водруженных один на
другой' (Шатобриан 1851: 91), и, пройдя через город мертвых, попадает в
христианский храм, озаренный светом3.
Мотив
церкви придает подземным блужданиям очевидный оттенок инициации. Мрачный
ритуал, псевдосмерть здесь предшествуют открытию высшей истины и символическому
воскрешению.
_____________
3 Показательно, что модные в начале
XIX века сеансы фантасмагории - спектаклей волшебного фонаря с явлениями
призраков и покойников - устраивались их изобретателем Этьеном-Гаспаром
Робертсоном в подземной крипте заброшенного монастыря капуцинов возле
Вандомской площади
'Здесь,
среди старых могил и статуй, Робертсон нашел великолепное место для оптических
шоу призраков - своего рода замогильный театр, погруженный во мрак, отрезанный
от окружающих городских улиц и окруженный < > молчаливой аурой
"исиадических мистерий"', -
пишет
исследователь (Кестл 1988: 36). Сам Робертсон указывал, что его сеансам должно
было предшествовать длительное погружение в замогильную тьму, где зрители были
бы лишены движения, звуков, подспорий для ориентации Явление светового призрака
в крипте должно было следовать за метафорическим погружением в подземный
лабиринт Аида.
89
Связь
прохода по подземелью с инициацией хорошо видна в корпусе масонских текстов
XVIII века вплоть до 'Волшебной флейты' Моцарта - Шиканедера. Для нас этот
мотив интересен в той мере, в какой он вписывает трансформацию в тело
проходящего по подземелью человека (трансфигурация, воскрешение- лишь частные
случаи такой трансформации). О том, что подземелье связано с метаморфозами
телесности, свидетельствует и распространенный мотив каннибализма, например, у
Нодье в 'Мадемуазель де Марсан', где один из героев, замурованных в подземелье,
предлагает другому выпить свою кровь (Нодье I960: 486), или у Метьюрина, где,
чтобы пройти через закупоренный телом спутника подземный ход, 'стоит убить
близкое существо <... > питаться его мясом и этим прогрызть себе дорогу к
жизни и свободе' (Метьюрин 1983: 191). Каннибализм в данном случае выступает
как магическое присвоение себе нового, иного тела, которое позволяет
осуществлять иную, возможно более эффективную связь с лабиринтом, это освоение
лабиринта как поедание чужого тела. Но это и знак регрессии на животную стадию,
вызванной погружением в темноту, соответствующим размыванием границ ego и
своего рода 'дедифференциацией', по выражению Хайнца Хартмана (Хартман 1958)4. По наблюдению Мэгги Килгур, в XIX веке
возникает целый жанр повествований о кораблекрушении, сопровождаемом мотивом
каннибализма (Килгур 1990:
149).
Кораблекрушение в данном случае выступает как знак 'падения', распада цивилизованного
человека, наступающего в конце путешествия (инициации, транссубстанциации).
Начиная
с XVIII века, подземная тематика окрашивается в неожиданные, отнюдь не
мистериальные тона. Тезис о подземелье как месте обретения нового знания,
откровения отныне связывается с достижениями археологии и геологии. Бальзак
даже уподобил погружение в монмартрские каменоломни чтению книги Кювье, когда
перед взором человека
'обнаруживаются
ископаемые, чьи останки относятся к временам допотопным, душа испытывает страх,
ибо перед ней приоткрываются миллиарды лет, миллионы народов, не только
исчезнувших из слабой памяти человечества, но забытых даже нерушимым
божественным преданием...' (Бальзак 1955: 24).
Таким
образом, человек, погружаясь в темный лабиринт, как бы погружается в 'чужую'
память. И то, что открывается его 'взору', если темнота оказывается хоть в
какой-то мере проницаемой, может пониматься как анамнезис, как проступание
забытых воспоминаний.
________
4 По мнению Хартмана, шизофрения,
например, вызывает дезинтеграцию дифференцированных психических функций и их
регрессию к недифференцированной, инфантильной смешанности.
90
В
такой перспективе лабиринт может быть пространством собственного беспамятства и
чужой памяти, или пространством, в котором происходит как бы обмен опытом,
знаниями, воспоминаниями. Те следы прошлого, которые так или иначе вписаны в
геологическую книгу шахт и подземелий, оживают благодаря тому, что приходят во
взаимодействие с погруженным в лабиринт телом5.
Тело, двигаясь в лабиринте, оживляет чужую память, существует в пространстве
чужого опыта.
В
пределе этот опыт может иметь совершенно мифологический характер, например,
неких первоистоков. Человек возвращается к блаженным забытым Адамовым временам
с их утерянным сверхзнанием, которое оживает, например, в ископаемых животных-
этих исчезнувших буквах первоалфавита природы. Допотопные ископаемые
обнаруживаются подземными путешественниками с удивительной частотой6, а у Мери в парижской канализации даже
возникают вполне живые существа доисторических времен: животные, не имеющие
имени, ящеры, рептилии и гигантский змей (Мери 1862: 120-121)7. Уже упоминавшийся Берте издал книгу 'Париж до
истории', где автору во сне является прекрасная женщина - 'Человеческая наука'
- и ведет его по подобию подземелья:
'По
мере того как я шел вперед, свет становился менее ярким; иногда даже
приходилось пересекать пространства, погруженные во тьму' (Берте 1885: 3).
Постепенно
перед глазами автора начинают разворачиваться картины истории, завершающиеся
видением доисторической пещеры на склоне Монмартрского холма, заселенного
первобытными людьми. Погружение во тьму, под землю, становится эквивалентом
погружения в глубь веков. Поэтому мотив света, возникающего в конце туннеля и
символизирующего новое знание, связан не просто с христианской или
инициационной темой, но и со знанием как
___________
5 Речь идет, например, о минералогии
как о науке, расшифровывающей письмена на камнях. Расшифровка природных
пиктограмм на камнях долгое время занимала воображение европейцев. См. Стаффорд
1984.
6 Ср. у Берте:
'...Скала,
странным образом разорванная (dechiree - ср. с книгой), то тут, то там
обнаруживала осколки ископаемых, раковины и крупные кости допотопных животных'
(Берте 1854, т. 4: 152).
У Эскироса:
'Эти
ночные расы живут <... > как живые руины рухнувшего варварства, как
последние представители прошлого человечества на земле' (цит. по: Ситрон, 1961:
405).
7 Эжен Сю в 'Парижских
тайнах' воображает воды клоаки как своего рода вертикальный палеонтологический
срез жизни, запутанной в лабиринты: 'Это уже не грязь, это спрессованная,
шевелящаяся живая масса, не поддающееся распутыванию сплетение, копошащееся,
кишащее, столь сжатое, сдавленное, что глухое едва заметное волнение едва
возникает над уровнем этой тины, или вернее этого слоя нечистых тварей' (Сю
1954: 257).
91
воспоминанием
(ср. с платоновской концепцией знания как анамнезиса).
Перечисленные
мотивы обнаруживаются у Гюго. Правда, у него нет подземного храма, но движение
Вальжана во тьме отчетливо уподобляется движению души к свету. Здесь
встречаются и непременные геологические ассоциации. Клоака многократно
описывается Гюго как природная книга истории, хранящая
'отпечаток
геологических эр и революционных переворотов <...> следы всех
катаклизмов, начиная от раковины времен потопа8
и кончая лоскутом от савана Марата' (2,604).
Но
это погружение в историю связано для Гюго с одним существенным мотивом,
который, хотя и обнаруживается у других авторов, только у Гюго играет
конструктивную роль. Погружение во тьму истории означает одновременно и
приближение к некому первичному, таинственному протоязыку. В 'Парижских
катакомбах' Берте под землей обнаруживается человек, почти зверь, едва
лепечущий по-французски. У Мери этот мотив протоязыка выражен отчетливей. Автор
представляет себе руку Бога, срывающую с подземного Парижа поверхность и
обнаруживающую лабиринт как тайные письмена. Автор заключает свою фантазию
следующим образом:
'Мы
ходим, смеемся, танцуем, играем на ковре, составленном из ужасающих вещей,
вещей, которым нет соответствия ни в одном языке и которые все еще ждут имени'
(Мери 1862: 118-119).
Любопытно,
конечно, что и в парижской канализации Мери обнаруживает 'животных, не имеющих
имени'. Этот интерес к именам и называнию, как и к некоторому мифическому
протоязыку, также может быть понят, если представить себе подземный лабиринт
как аналог памяти. Сравнение памяти с пещерой стало клише уже во времена
античности (Карразерс 1990: 40). Св. Августин призывал:
'Вообразите
долины, пещеры и пропасти моей памяти, они бесчисленны и они неисчислимо полны
бесчисленными родами вещей, присутствующими либо в виде образов, что
свойственно всем телам, либо непосредственно, как искусства, либо в виде
некоего понятия или сознания...' (Августин 1963: 227)
__________
8 Раковина времен потопа - это, конечно,
классический компонент палеонтологии, начиная с XVIII века, в связи с открытием
ископаемых ракушек на склонах высоких гор, - но это и микромодель лабиринта.
Когда Минос пытается поймать Удравшего от него строителя лабиринта Дедала, он
ищет человека, способного продеть нить сквозь раковину улитки. Раковина здесь
выступает как эквивалент лабиринта, нить - как нить Ариадны. - Детьенн, 1989:
24-25. Внутри подземного лабиринта обнаруживаются, таким образом, иные
лабиринтные конструкции, к числу которых относятся письмо, язык и т. д.
92
Этот
вид пещер и пропастей, заполненных образами, вполне соответствует тому, что
предъявляет глазу рука Бога, обнаруживающая под Парижем тайнопись лабиринтов. В
пещерах памяти хранятся сами вещи (res) или их образы, которые получают имена,
облекаясь в слова по мере их вспоминания. Тело без имени - это еще не всплывшее
в памяти тело (Карразерс 1990: 190-191). Анамнезис тел поэтому может пониматься
и как анамнезис имени, языка.
В
'Легенде веков' Гюго обнаруживает на месте Парижа Вавилонскую башню, чьи
колонны похожи на загадочные руны. Она стоит на холме, в склоне которого зияет
жерло подземелья, ведущего к смерти (Гюго 1930:167-168). Эта тема Парижа как
нового Вавилона, места смешения загадочных первоязыков, получает у Гюго двойную
разработку. Во-первых, Гюго обнаруживает в городе некий особый 'подземный' язык
- арго. Бальзак также видит в арго первобытный язык подземелий:
'...Нет
языка более крепкого, более красочного, нежели язык этого подземного мира,
копошащегося, с той поры как возникли империи и столицы, в подвалах и вертепах,
в третьем трюме общества <...>.
Каждое слово этого языка- образ, грубый, замысловатый или жуткий' (Бальзак
1954: 415-416)9.
Гюго
разрабатывает тему арго в пространственных метафорах лабиринтов и подземелий.
Уже в 'Соборе Парижской богоматери' он касается 'царства арго', расположенного
в знаменитом Дворе чудес. Гренгуар, попадающий туда, должен пройти через
лабиринт переулков и глухих тупиков, расположенных вокруг старинного кладбища
Инносан и похожих на перепутанный кошкой моток ниток.
'"Вот
улицы, которым не хватает логики", - подумал Гренгуар, сбитый с толку
этими бесчисленными поворотами, то и дело приводившими его опять на то же
место' (Гюго 1953: 73-74)10.
Затем
Гренгуар попадает в зловещее копошение призрачных нищих, неожиданно
обращающихся к нему на различных языках. 'Да это столпотворение вавилонское! -
воскликнул он и бросился бежать' (Гюго 1953: 81). Потерянный в лабиринте,
Гренгуар наконец попадает в царство арго, уподобляемое Гюго клоаке. 'Король'
воров Клопен Труйльфу обращается к поэту:
'Ты
проник в царство арго, не будучи его подданным, ты преступил законы нашего
города <...> должен понести за это наказание. Кто ты такой? Оправдывайся!
Скажи свое звание' (Гюго 1953: 87).
___________
9 Образ 'третьего трюма' (театральный
термин) использует и Гюго в 'Отверженных', где он разворачивает метафору
общества как многослойных рудников (2, 25-27).
10 Отметим кладбище.
Невинных (Инносан) как место действия, то самое кладбище, которое послужило
основой подземного оссуария.
93
В
свою защиту Гренгуар произносит речь, где пытается доказать, что он, как поэт,
может быть причислен к подданным королевства арго наравне с Эзопом, Гомером и
Меркурием (Гермесом- 'мастером' эзотерического языка). Приобщение к арго
описывается как инициация и погружение внутрь лабиринта по ту сторону
вавилонской ситуации.
В
блуждании Гренгуара особенно отчетливо проявляется особый статус арго,
достигаемого только в результате трансгрессии (нарушения законов) и
детерриториализации - блуждания впотьмах. Но главное, конечно, это то, что арго
расположено в недрах некой 'геологической' памяти. В 'Отверженных' Гюго
возвращается к арго в основном в контексте геологической метафорики.
'Арго
- язык пребывающих во мраке. Это загадочное наречие <...> волнует мысль в
самых ее темных глубинах...' (2, 308) 'Перед тем, кто изучает язык, как следует
его изучать, то есть как геолог изучает землю, арго возникает напластованием'
(2, 399). 'Раскопки в арго - это открытие на каждом шагу' (2,316) и т. д.
Арго
существует в самом глубоком подземелье, там, где человек (по 'закону
регрессии', действующему при погружении в глубины) почти опускается до уровня
животного:
'Можно
расслышать, хотя и не понимая его смысла, отвратительный говор, звучащий почти
по-человечески, но более близкий к лаю, чем к речи. Это - арго. Слова его
уродливы и отмечены некой фантастической животностью. Кажется, что слышишь
говорящих гидр. Это - непонятное в сокрытом мглою' (2, 306).
Таким
образом, арго оказывается почти эквивалентом доисторических монстров Мери. Сами
его слова - это уродливые и фантастические животные. В арго еще не произошло
расслоение между означающим и означаемым, вернее, неким телом, с которым
означающее соотнесено. Слово существует почти как двойник тела. Отсюда возникает
характерный мотив образности арго, его приравнивание рисованию, при этом
особому - некому тератологическому рисованию, производству монстров:
'Во-первых,
прямое словотворчество. Вот где тайна созидания языка. Умение рисовать при
помощи слов, которые неведомо как и почему таят в себе образ. Они простейшая
основа всякого человеческого языка- то, что можно было бы назвать его
строительным гранитом. Арго кишит словами такого рода, словами стихийными,
стоящими особняком, варварскими, иногда отвратительными, но обладающими
странной силой выразительности и живыми' (2,310).
Связь
арго с лабиринтом обнаруживается почти самым прямым образом. Движение по
лабиринту часто описывается как следование
94
линии,
письмо11. Но это смещенное,
детерриториализированное письмо в потемках чужой памяти. Знаки, образуемые
таким письмом, - это смещенные, фантастические, уродливые знаки. Арго не просто
возникает как смещенный, маргинальный язык, оно предстает как тератологическое
рисование. Это рисунок, производимый телом в лабиринте, рисунок движения самого
лабиринтного тела. Рисунок, производимый им, - его двойник, его силуэт, тень,
копия лабиринта как пространства письма.
При
этом лабиринт понимается и как письмена Бога (ср. классическое сравнение мира с
лабиринтом), в которые помещен бредущий в нем. Письмена Бога оказываются
одновременно абрисом тератологического двойника. Персонаж, идущий по лабиринту,
подобен перу, пишущему неведомые ему письмена внутри другого текста,
написанного Богом. Можно сказать, что арго с его почти визуальной образной
природой - это одна из форм анамнезиса тел в темноте подземелья. Само движение
персонажа, интимно с ним связанное, - другая форма того же анамнезиса.
Деррида
заметил, что рисование в принципе находится по ту сторону видимого. Острие карандаша,
движущегося по бумаге, подавляет зрение, разрушает дистанцию между рукой и
бумагой, дистанцию видения (Деррида 1993: 45). Рисование в этом смысле всегда
лабиринтно, оно всегда происходит в темноте и потому непосредственно не связано
с мимесисом. Движение руки прежде всего выражает моторику тела, диаграмму
памяти как постоянного соскальзывания от себя к другому (составляющую суть
'чужого' лабиринта), от художника к модели, от модели к художнику.
Мери
описывает обнаружение письмен в парижских подземельях:
'Стены
все еще хранили несколько надписей, многие из которых походили на иероглифы
подземных храмов Исиды. Это навело археолога Русселена на размышления или
своего рода теорию: <.. > Письмо родилось в крипте, - сказал он себе; -
этот факт не вызывает сомнения' (Мери 1862: 167)
Письмо
рождается в крипте отчасти потому, что здесь подавлено зрение, что здесь царят
память и слепота. Память традиционно связывается с письмом. Трактат по
мнемотехнике Псевдо-Цицерона 'Ad Herrenium', например, проводит прямую параллель
между установлением мнемотехнических loci, 'мест' памяти с техникой письма:
'Места
очень похожи на восковые дощечки или папирусы, образы на буквы, расположение и
аранжировка об-
____________
11 Ср, например, у Вальтера
Беньямина, у которого блуждание по городскому лабиринту 'осуществило мечту, чьи
первые следы - это лабиринты на промокашках моих тетрадей' (Беиьямин 1972- 29)
95
разов
на рукопись, а устное изложение на чтение...' (цит. по: Крелль 1990:55)
Движение
внутри лабиринта поэтому может пониматься как повторение некой невидимой
(божественной) прописи, существующей внутри мнемонических loci чужой памяти.
Это по существу вписывание в моторику движущегося тела невидимого письменного
текста чужой памяти.
В
пределе блуждание героя во тьме подземелий - это и воспроизведение истории
письма как истории человечества. Не случайно, например, мнемоническая техника
древних кодексов предполагала превращение рукописных титулов в монстров,
фантастических животных, в так называемые droleries, в то время как бестиарии
использовались в мнемотехнике (Карразерс 1990: 126-127, 245). Допотопные
животные парижских подземелий относятся к сфере мнемонического письма в той же
степени, что и droleries средневековых манускриптов.
Жан
Вальжан, сам того не зная, движется в сложной орнаменталистике пророческих
текстов, наслоившихся один на другой:
'Вы
получите более правильное представление об этом необычном геометрическом плане,
если вообразите себе перепутанные и густо разбросанные на темном фоне
затейливые письмена некоего восточного алфавита12,
связанные одно с другим в кажущемся беспорядке, то углами, то концами, словно
наугад <...>. Кишащая червями сточная яма Бенареса вызывает такое же
головокружение, как львиный ров Вавилона. Гетлат-Фаласар, как повествуют книги
раввинов, клялся свалками Ниневии. Из клоаки Мюнстера вызывал Иоганн Лейденский
свою ложную луну, а его восточный двойник, загадочный хора-санский пророк
Моканна, вызывал ложное солнце из сточного колодца в Кекшебе. В истории клоак
рождается история человечества' (2, 588-589).
Таким
образом, подземелья парижской клоаки - это священный текст, но текст, который
может обнаружить лишь рука Бога, сдергивающая с него земной покров, или автор,
наделенный способностью возносить свой всевидящий глаз высоко над поверхностью
земли.
В
этом контексте противопоставление незнания Жаном Вальжаном его подземного
маршрута и знания автора приобретает символическое значение. Автор, пишущий
книгу, пишет ее блужданиями своего героя, путь которого ведом только поэту. Эта
сюжетная ситуация отражает характерную для Гюго концепцию социальной роли поэта
в обществе, многократно выраженную им в стихах в форме
___________
12 Существует во всяком случае один
вид восточного письма - геометрическое куфическое арабское письмо, чей внешний
вид для европейца почти не отличим от классических изображений лабиринта
96
одной
и той же повторяющейся метафоры. Гюго неизменно воспроизводит один и тот же
образ- человечества, бредущего во тьме, путь которому освещает поэт-пророк13. Это движение человечества в 'Отверженных'
сравнивается с блужданиями 'огромного слепого крота - прошедшего' (2,598). Поэт
постигает смысл истории через дешифровку загадочных письмен и первоязыков.
Но
эта дешифровка требует как бы двойного видения. С одной стороны, поэт как бы
проходит лабиринт со своим героем, который подобен стилю, перу, ведомому им по
подземным прописям. Глаз автора прикован к фигуре бредущего так плотно, что
между ними не остается расстояния. Речь идет все о том же бахтинском
'бесперспективном видении', практически эквивалентном слепоте. Эта слепота
необходима автору для того, чтобы трансцендировать слой видимого и проникнуть
вслед за персонажем в сферу невидимого, которую можно назвать памятью.
Анамнезис поэта целиком зависит от моторики и передвижений его пера, то есть
персонажа, играющего роль этого пера.
Но
это слепое движение дублируется сверхвидением, созерцанием письмен со
сверхчеловеческой, божественной высоты. Позиция бесперспективного неведения
дублируется позицией знания. Автор располагается между этими двумя позициями,
создающими не просто напряжение, но некое наслоение диаграмм.
Слово
(знание) является в темном лабиринте как луч света, энергией сияния
пронизывающий темноту, оно внедряется в лабиринт и возникает из него в
результате приложения сил и деформаций. В стихотворении 'Тысяча путей, единая
цель' это слово определяется следующим образом:
'Это слово, из которого другие слова / Выходят, как из
грубого ствола, / И которое своими ветвями пронизывает / Все языки земли' (Гюго
б.г.: 161).
Далее
Гюго объясняет, что на 'небесном языке' это слово означает 'веру' (Foi), а на
человеческом языке - 'любовь'. Слова эти могут служить 'путеводной нитью' и
факелом, освещающим дорогу. Иначе говоря, через подземный лабиринт можно пройти
только при условии их знания. Но они же, как Ариаднина нить, повторяют своим
начертанием контуры лабиринта. 'Любовь' и 'вера' здесь, конечно, условные
абстрактные понятия, только ярлыки для обозначения сверхслова, по своим
характеристикам напоминающие и арго, и лабиринт алфавитной вязи (образ
всепроникающих ветвей проецируется на парижское подземелье, которое Гюго
сравнивал с
_______
13 В 'Созерцаниях' - это, например,
стихотворения 'Слепому поэту', 'Остановка в пути' и др. , в 'Лучах и тенях' -
это 'Функция поэта', 'Тысяча путей, единая цель', в 'Возмездии' - это 'Караван'
и многие другие Уже современники видели один из основных смыслов 'Отверженных'
в противопоставлении людей тьмы людям света См. Вуатюрон 1862 148-149
97
'колоссальным
звездчатым кораллом' - 2, 588). В 'Созерцаниях', однако, содержится текст, где
магическому слову найден более точный эквивалент. Это стихотворение, где Гюго
разворачивает грандиозную метафору мира как книги14.
Все создания мира - деревья, животные, скалы, стихии, причины,
'Все
это темное множество, святая растительность / Складываются, пересекаясь в
огромный шифр: БОГ' (Гюго 1965:163).
Очевидно,
впрочем, что 'вера' и 'любовь' - лишь ипостаси все того же Бога.
Имя
Бога в данном контексте имеет двоякую функцию. С одной стороны, оно помещено в
недра земли как тайное, необнаружимое, невидимое имя. В своей поэме 'Бог' Гюго
уделил значительное место темноте в поисках Бога, его незримости. Первая часть
поэмы была названа им 'Восхождение в темноте'. С другой стороны, Бог был
помещен в сферу памяти. Такой выбор перекликается с известным платоновским
пассажем из 'Исповеди' св. Августина:
'Смотри,
Господи, какое расстояние прошел я в поисках тебя в моей памяти! И я не нашел
тебя вне ее. И я ничего не нашел, связанного с тобой, что бы я уже не хранил в
своей памяти с того момента, когда я впервые узнал тебя' (Августин 1963: 234).
Познание
Бога становится его анамнезисом в лабиринте. Существенно, однако, и то, что
автор, созерцающий письмена Бога сверху, по существу занимает божественную
позицию. Поэтому знание о Боге (сверхзнание) дается одновременно и как
анамнезис, как воспоминание неведающего тела, и как взгляд сверху. Движение
внутри имени Бога в какой-то мере и производит возможность
сверхдистанцированной точки зрения, места всезнания.
Одна
из функций поэта заключается в том, чтобы прочитать мистическое слово в
движениях, перипетиях персонажей, иными словами, придать им провиденциальный
характер. Каким образом Жан Вальжан в своих слепых блужданиях прочерчивает
искомый Гюго шифр? Гюго заимствует свою стратегию у Эдгара По, который
заставляет своего героя Артура Гордона Пима блуждать по подземельям, в плане
образующим мистический текст из эфиопского глагольного корня 'быть темным',
арабского глагольного корня 'быть белым' и древнеегипетского 'область юга' (По
1972, т. 1:
385-386)15. Творение Бога - подземный лабиринт - здесь
говорит восточными письменами, близкими к иероглифическим (эфиопский,
древнеегипетский). Жан Вальжан также постоянно сталкива-
_____________
14 О мире как книге у Гюго см.
Бромберг 1984
15 Соединение черного и белого в
данном фрагменте отражает сложную символику света и тени у По и, вероятно,
отсылает к самому жесту божественного творения, отделяющего свет от тьмы См
Томпсон 1992. 200
98
ется
с письменами (точнее- с алфавитом), образуемыми расположениями улиц и подземных
каналов. Первый раз буква, составленная из улиц, возникает в эпизоде ночной
погони Жавера за Вальжаном в лабиринте квартала Малый Пикпюс:
'Жан
Вальжан дошел до того места, где улица разветвлялась, расходясь вправо и влево.
Перед Жаном Вальжаном лежали как бы две ветви буквы V' (1,521). Я уже цитировал
эпизод, где под Бастилией Вальжан попадает в сеть стоков, образующую букву F.
Наконец, Вальжан достигает того места, где
'лежала
обширная клоака Платриер, настоящая китайская головоломка, простирающая свою
хаотическую путаницу стоков в виде букв Т и Z под почтовым управлением и под
ротондой Хлебного рынка до самой Сены, где она заканчивается в форме буквы Y'
(2,608-609). Гюго задолго до написания 'Отверженных' дал подробный комментарий
к природному мистическому алфавиту. Он содержится в дневнике альпийского
путешествия 1839 года Гюго поднимается на гору Рижи, и открывающийся вид
побуждает его к следующим размышлениям:
'Перед
глазами лежит не просто фрагмент земного шара, но фрагмент истории. Турист
приходит сюда в поисках точки зрения;
мыслитель здесь находит гигантскую книгу, где каждая скала - это буква, каждое
озеро - фраза, каждая деревня - ударение, откуда подобно дыму вперемешку
поднимаются две тысячи лет воспоминаний. Геолог может изучать здесь
формирования горной цепи, философ - формирование одной из тех цепей людей, рас
или идей, которые называются нациями' (Гюго б г а 30-31) 'Одна и та же вершина,
скала имеют на теневой стороне согласные, на освещенной - гласные Формирование
языков в своей обнаженной форме проявляется в Альпах ' (Гюго б.г. а.: 34)
Несколькими
днями позже Гюго на склонах Юры обнаруживает начертанную высохшими потоками
букву Y, в которой он видит множество символических значений, в том числе и
знак человека, воздевающего к небу руки в молитве
В
принципе Гюго здесь вписывается в определенную традицию, идущую вплоть до XX
века Гора не случайно становится местом формирования божественных знаков Так же
как подземный лабиринт соотнесен с невидимым, так и гора соотнесена со сверхзрением
Знаки здесь образуются в неком пространстве специфически 'аномального' видения
'Открытие' Гюго предвосхищает, например, распространение в США мифа о Горе
Святого креста. Это гора в Колорадо, на склоне которой прочитываются очертания
креста Она была сфотографирована в 1872 году Уильямом Генри Джексо-
99
ном,
чья фотография в тысячах экземплярах разошлась по миру (Брюне 1989: 15).
Любопытно, что знак креста в горах обнаруживал и иной 'последователь' Гюго -
Антонен Арто. В стране индейцев тараумарас он находит священную 'гору знаков',
покрытую загадочными природными письменами. Арто дает любопытное объяснение,
почему именно горы формируют природные иероглифы:
'..
Природа хотела мыслить человеком. Так же как она привела к эволюции человека, она создала эволюцию
гор' (Арто 1971:42).
Эволюция
же понимается Арто как деформация Знаки появляются в результате вытягиваний,
сплющиваний, искажений. Сам по себе мистический знак является диаграммой
приложения к земле неких сил. 'Возможно, я родился с исковерканным, искаженным
телом, как огромная гора', - замечает о себе Арто (Арто 1971: 42). Отсюда
навязчивое прозревание антропоморфных форм в абрисах скал: то это голый
человек, выглядывающий в окно, то женская грудь и т д.
Жак
Гарелли заметил, что этот примитивный антропоморфизм отражает
'включение
тела индейца тараумара в мир; удивительный способ, каким тот проживает и мыслит
'здесь' (1а) своего 'здесь-бытия' (etre-la) через расширение своего контура'
(Гарелли 1982 93).
Индеец
как бы проецирует свое тело во внешний мир, удваиваясь, шизофренически
разрываясь между 'собой' и своим внешним 'двойником' Арто отмечал, что такое
раздвоение сознания и умение переживать самые интимные эмоции как чувства
другого характерны для состояний одурманивания пейотлем (peyotl), распространенным
среди тараумарас. Человек таким образом проецируется в природные формы,
обживает их, отчуждаясь в них. Сами же природные формы оказываются лишь
зеркалом телесности и местом проекции
Этот отделяющийся от тела и проецируемый двойник, этот Я-Другой и принимает
форму Бога.
Любопытно,
что Бог Ветхого Завета проявляет себя первоначально как Бог, связанный с местом, вписанный в него. Узнавание Бога
увязывается с местом почти как с
мнемотехническим 'локусом'. Мартин Бубер так определяет процедуру первого узнавания
Бога пророками:
'Бог,
принесенный с собой и сопровождающий человека, идентифицируется с тем, которого
ранее обнаруживали на этом месте он узнается через него' (Бубер 1958-44-45).
И
лишь постепенно, как замечает Бубер, Бог иудеев отделяется от места и заявляет
о себе как везде и постоянно присутствующий, как Бог, чье 'здесь-бытие'
сопровождает человека повсюду. Его
100
идентификация
отныне не предполагает 'возвращения' к месту первичной манифестации.
Образ
человека, воздевающего к небу руки, у Гюго, с одной стороны, указывает на
высшую точку зрения (небо), а с другой стороны, как бы дает диаграмму
напряжения, движения вверх, знакообразующей деформации. Деформации порождают
алфавиты как абстракции неких деформированных пиктограмм, как иероглифы, все еще
хранящие память о вытесняемой деформацией (эволюцией) иконичности16. Речь идет о некой манифестации Другого
(Бога), проецирующего свое присутствие в знаки письма. В итоге Гюго заявляет:
'Иероглиф-
необходимая основа буквы. Все буквы первоначально были знаками, а все знаки -
образами.
Человеческое
общество, мир, весь человек находятся в алфавите. Искусство каменной кладки,
астрономия, философия, все науки имеют отправную точку в алфавите, незаметную,
но реальную; так и должно быть. Алфавит - источник' (Гюго б.г. а: 50).
И
далее Гюго дает иероглифическую расшифровку всех букв алфавита. Выберем из
этого глоссария лишь те буквы, которые начертаны подземным лабиринтом клоаки.
Помимо Y, это Т - молот, превращающийся в язык колокола, Z - 'молния, Бог'. F -
это развилка, виселица, но и первая буква 'скрытого слова' 'вера' (Foi), V,
прочитывающаяся в очертаниях улиц Малого Пикпюса, - это чаша. Существенно, что
интерпретация букв от А к Z обладает некоторой внутренней логикой. А - это
крыша дома, ковчега, D - спина человека, и т. д. Гюго комментирует:
'Итак,
сначала человеческий дом, его архитектура, затем человеческое тело, его
структура и уродство, затем правосудие, музыка, церковь; война, жатва,
геометрия; гора; кочевая жизнь, жизнь в изоляции; астрономия; труд и отдых;
лошадь и змея; молоток и урна, которые при соединении образуют колокол;
деревья, реки, пути (все эти знаки заключены в букве Y,- М. Я.), наконец, судьба и Бог - вот что заключает алфавит' (Гюго
б.г. а: 51). Этот комментарий интересен тем, что он преобразует алфавит как
классическое воплощение парадигмы в синтагму, заключающую в себе историю человечества. Парадигма алфавита
читается Гюго как некий маршрут от человеческого жилища, через формирование
цивилизации к Богу. 'Эволюция', используя термин Арто, вписана в само движение
алфавита от его начала к концу. Но по существу именно так и читается
символический, инициационный маршрут человека в подземном лабиринте от смерти и
тьмы - к
________
16 Ср. использование так называемых
'визуальных алфавитов' (часто антропоморфных) в старых мнемотехниках: Йейтс
1969: 124-125.
101
свету
и Богу. Гюго вводит в роман следующий эпизод, связанный с Вальжаном:
'Выходя
из воды, он споткнулся о камень и упал на колени. Приняв это за указание свыше,
он так и остался коленопреклоненным, от всей души вознося безмолвную молитву
богу' (2,628).
В
тот момент, когда Жан Вальжан падает, воздевая руки в молитве, он собственным
телом воспроизводит букву Y, которую он миновал в своем путешествии. Подземный
алфавит не только дублирует смысл подземного странствия, он маркирует смысловые
узлы движения Жана Вальжана, подчеркивая его принадлежность уровню мистического
письма.
Особое
значение в этом алфавите имеют несколько букв - V, Y, Z. Буква V среди них
занимает особое положение, потому что одновременно является цифрой - римской 5,
в ней нумерическое встречается с алфавитом. Английский эссеист XVII века сэр
Томас Браун в своем эссе 'Сад Кира' ('The Garden of Cyrus' - 1658) попытался
доказать, что расположение деревьев в райском саду следовало схеме,
составленной из ромбов, состоящих из двух букв V. Ромбовидная сеть, по мнению
Брауна, - это некий идеальный божественный орнамент. Отраженная в зеркале,
симметрично удвоенная буква V превращается в Х - также букву и цифру. Но
одновременно Х является знаком акустического удвоения - эха и схемой
распространения оптических лучей. Более того, анатомическая схема зрения, в
которой нервы, идущие от двух глаз, соединяются в мозгу, также повторяет форму
буквы V (Браун 1968: 202-203). Эссе Брауна было использовано Эдгаром По в его
'Артуре Гордоне Пиме' для описания некоего божественного орнамента (Ирвин
1992).
'Сад
Кира' демонстрирует, до какой степени алфавит может быть подвержен
насильственной трансформации в акустическую или нумерическую материю, до какой
степени он поддается двойственной интерпретации, одновременно и как схема
оптики и как схема акустики. В таком своем качестве он может пониматься именно
как диаграмматическое письмо, исключающее непротиворечивое прочтение и несущее
на себе следы межсемиотической перекодировки. У Гюго, с его идеей алфавита как
универсального первоистока, мы наблюдаем нечто сходное.
Но
алфавит, вычерчиваемый телом персонажа или подземным хитросплетением ходов и
прочитываемый как текст, соединяет в себе также и две 'противоположные' точки
зрения (автора, следующего за героем во тьме, и автора, рассматривающего его
маршрут с божественной высоты). Такая раздвоенность точек зрения ставит целый
ряд проблем, далеко не тривиальных для литературной техники XIX века. Прежде
всего, речь идет об освоении глобализующего взгляда на город с высоты птичьего
полета.
102
В
изобразительном искусстве первые попытки панорамного изображения города с
высоты восходят к 1480-м годам (см. Либман 1988). Интерес к панорамному
изображению городов постоянно нарастает, достигая своей кульминации в первой
половине XIX века (см. Хайд 1988). Аналогичный процесс происходит и в
литературе, правда, с большим запаздыванием. Пика популярности панорам-^ ные
описания Парижа с высоты достигают между 1830 и 1861 годами. Пьер Ситрон
насчитал за этот период 75 подобных описаний Парижа.
'В
4 случаях поэты царят над городом, 30 раз наблюдатель находится на сооружении
внутри города (без точного указания в 3 случаях); 34 распределяются между тремя
точками зрения: Нотр-Дам в 12 случаях (все до 1842 года), Пер-Лашез в 10
случаях (из которых 8 до 1846 года), Монмартр в 12 случаях...' (Ситрон 1961, т.
1:389).
Первые
три архетипических описания принадлежат Гюго - это глава 'Париж с птичьего
полета' в 'Соборе Парижской богоматери', Виньи - поэма 'Париж', и Барбье -
поэма 'Чаша'. Все они датируются 1831-м годом. У всех трех описаний есть одна
общая черта, кардинально отличающая их от живописных панорам. Все три автора,
формально описывая синхронный, пространственный облик Парижа, по существу дают
его историческое описание. По
наблюдению Ситрона,
'кажется,
будто Виньи стремился смешать здесь множество городов: феодальный город с его
башнями, замками и укреплениями <... > восточный город с его беседками,
минаретами, обелисками, куполами, классический город с его дворцами, садами,
парками, колоннадами' (Ситрон 1961, т. 1:269).
Барбье
описывает город как 'адскую чашу', 'грязную дыру', гигантский 'каменный ров', в
котором погребена история цивилизации и где 'святые памятники сохраняются / Только
чтобы сказать:
"Когда-то
существовал Бог"' (Барбье 1859: 66). 'Чаша' тесно связана с поэмой
'Добыча' (1830), где Париж сравнивается с клоакой в категориях, позже
использованных Гюго.
Но
самое необычное описание принадлежит Гюго. Известно, что, работая над романом,
писатель каждый вечер взбирался на башни собора Парижской богоматери, превратив
это восхождение в торжественный ритуал (Беньямин 1989: 778)17. Ритуал этот, при всей его претенциозности,
имел чисто литературный характер. Писатель ежедневно помещал свое тело в некую
привилегированную точку, откуда 'авторская инстанция' должна была осуществлять
______________
17 Ту же процедуру Гюго повторял и
позже, будучи на Гернси и ежедневно взбираясь на 'скалу изгнанников'
103
наррацию.
Ритуал Гюго - это странное соединение повседневного поведения с чисто
литературной 'технологией'. Задача Гюго, однако была им сознательно осложнена.
С башен собора он созерцал Париж, стремясь открыть в нем черты города XV века:
'Когда
после долгого восхождения ощупью по темной спирали лестницы, вертикально
пронзающей массивные стены колоколен, вы внезапно вырывались на одну из
высоких, полных воздуха и света террас, перед вами развертывалась со всех
сторон великолепная панорама. То было зрелище sui generis, о котором могут составить
себе понятие лишь те из читателей, кому посчастливилось видеть какой-нибудь из
еще сохранившихся кое-где готических городов во всей его целостности,
завершенности и сохранности...' (Гюго 1953:116)
Гюго
предлагает читателям его глазами взглянуть на Париж 1482 года, но он
практически не в состоянии дать никакого описания, сейчас же заменяя его
историческим экскурсом ('Как известно, Париж возник на древнем острове Ситэ...'
[Гюго 1953:117]).
Это
постоянное соскальзывание топографии в историю характерно для всех описаний
Гюго, в том числе и относящихся к парижской клоаке в 'Отверженных'. В тех же
пассажах, где Гюго пытается дать некий обобщенный образ, он видит лишь 'густую
сеть причудливо перепутанных улиц' (Гюго 1953: 121). В конце описания, советуя
читателю, как лучше вообразить себе искомую картину, он пишет:
'...Заставьте
в зимнем тумане, цепляющемся за бесчисленные трубы, колыхаться его (Парижа. - М. Я.) контуры; погрузите город в
глубокий ночной мрак и полюбуйтесь прихотливой игрой теней и света в этом
мрачном лабиринте улиц' (Гюго 1953: 139).
Иными
словами, это 'зрелище sui generis' - погруженный во мрак лабиринт, практически
непроницаемый для взгляда. Вид с высоты, с точки зрения 'всезнания'
парадоксальным образом мало чем отличается от незнания 'слепого крота',
запертого в темный лабиринт. В обоих случаях мы имеем дело с 'чужим' текстом,
который невозможно читать. Коды от обоих текстов в конечном счете находятся в
чужой памяти.
Только
анамнезис в любой его форме может что-то прояснить в лабиринте улиц. Только
история может осветить их смысл. Современный Гюго читатель, вооруженный
историческим знанием (то есть знанием par excellence для XIX века), может
неожиданно упорядочить для себя парижский лабиринт. Но для этого Париж должен
предстать перед ним не в своем современном, но историческом облике, не как
'восприятие', а как воспоминание. Вот как воображает себе Гюго современного
читателя, бросающего взгляд с высоты на средневековый Париж:
104
'Его
взгляд долго блуждал бы, проникая в различные глубины этого лабиринта, где все
было отмечено своеобразием, гениальностью, целесообразностью и красотой' (Гюго
1953:122).
Возникновение
в лабиринте 'целесообразности' и 'красоты' связано с проступанием в анамнезисе
неких букв, тайных письмен (Гюго говорит об 'иероглифах'), начертанных Богом в
процессе движения истории. Текст города становится внятным, когда он начинает
прочитываться как письмо, вернее как 'анамнестическое' письмо, как движение
слепой руки, ведомой памятью. Иначе говоря, город приобретает смысл, когда он
становится двойником авторского текста. Гюго ведет свою руку по манускрипту, и
движение его слепой руки оказывается синхронным движению воспоминания об ином
письме - письме Бога в городских иероглифах. Этим удвоением письменного текста
и объясняется слепота взгляда сверху:
ведь
восприятие в таком взгляде абсолютно господствует над воспоминанием.
Чтение
в таком случае - также анамнезис, поэтому читать можно только 'старый' текст,
исчезнувший, материально не существующий, но магически возникающий сквозь
моторику письма и памяти. Исчезнувший, призрачный Париж прошлого - это
идеальный текст памяти:
'Он
был в те времена не только прекрасным городом, но и городом-монолитом,
произведением искусства и истории средних веков, каменной летописью. Это был
город, архитектура которого сложилась лишь из двух слоев- слоя романского и
слоя готического, ибо римский слой давно исчез, исключая лишь термы Юлиана, где
он еще пробивался сквозь толстую кору средневековья. Что касается кельтского
слоя, то его образцов уже не находили даже при рытье колодцев' (Гюго 1953:136).
Зато 'сегодняшний' Париж не представляет интереса: '...у Парижа наших дней нет
определенного лица' (Гюго 1953: 137). Лицо, как в физиогномических трактатах,
это конструкция, состоящая из многих слоев (структура черепа, подвижные
мимические структуры). Город, из которого исчезает лабиринт, теряет историю, он
перестает быть 'текстом', в нем больше нечего читать. Письмена Бога стерты.
Джудит Векслер заметила, что в реконструированном Париже эпохи Османа исчезает
'демоническое, алчное, вуаеристское или научное наслаждение от открытия скрытых структур, подобных тем, что
производит Природа' (Векслер 1982: 39). Природа производит эти структуры, как
говорил Арто, эволюционно, медленно и напряженно изменяя, деформируя формы,
прикладывая к ним силы. Прямизна линий снимает этот аспект диаграмматического
напряжения. Уже в конце XIX века эти темы обыгрываются в литературе, например,
в романе Гюисманса 'Там, внизу'. В романе фигурирует
105
отец
Жильбер, живущий в здании Собора Парижской богоматери и коллекционирующий планы
старого Парижа. Эта коллекция приобретает весь свой смысл потому, что
сегодняшний Париж лишен интереса:
'Париж
с птичьего полета- это было интересно в средние века, но не сейчас! Я обнаружу
< ...> вдали цепочки домов, напоминающие поставленные на попа костяшки
домино с черными точками окон' (Гюисманс 1896:336).
Гюго
даже сравнивает новый Париж с шахматной доской (Гюго 1953: 139)18. Впрочем, новый Париж нужен современному
наблюдателю потому, что накладывает на лабиринт исторического Парижа некую
геометрически правильную сетку, подобную сетке меридианов и параллелей на
географических картах. Розалинд Краусс указывает, что сетка играла в
изобразительном искусстве XIX века
двоякую роль. С одной стороны, она часто фигурировала в трактатах о физиологии
зрения для обозначения 'отделения перцептивного экрана от 'реального' мира'
(Краусс 1986: 15). С другой стороны, она размечает не столько репрезентируемое
пространство, сколько пространство репрезентации, например, саму поверхность
живописного холста. В какой-то степени правильная геометрическая сетка - это
проекция самого перцептивного поля (с его предполагаемой гомогенностью) на
объект восприятия.
Геометризированный
рисунок города оказывается такой сеткой, приобретающей весь свой смысл только
потому, что сквозь нее можно что-то
видеть, только потому, что она отделяет перцептивное поле от объекта
восприятия. Геометрически правильный город в таком контексте работает как
своеобразная оптическая машина, которая позволяет увидеть сквозь себя невидимые
деформации исчезнувшего лабиринта. Современный Париж оказывается магической
машиной видения прошлого. Он как бы накладывает перцептивную сетку визуального поля на моторный образ памяти, вписанной в лабиринт.
Но
эта машина работает только при одном условии: если правильная сетка нынешних
улиц накладывается на искривления улиц минувших. Оптическая машина памяти
работает, только если в нее вписаны деформации, разрушения, искажения, одним
словом, диаграммы.
Когда-то
Вальтер Беньямин задумал составить карту своей биографии как размеченную
разными цветами карту центра города (Беньямин 1986: 57). Он, однако, обратил
внимание на то, что не деформированные временем городские структуры ничего не
говорят его памяти:
___________
18 Шахматная доска также может
использоваться как мнемоническая схема См. Карразерс 1990: 144
106
'Правда
то, что бесчисленные городские фасады стоят на тех самых местах, где они стояли
во времена моего детства. Я, тем не менее, не нахожу детства, когда созерцаю
их. С тех пор мой взгляд слишком часто скользил по ним, слишком часто они были декорацией для моих прогулок и забот'
(Беньямин 1986: 26).
Память
Беньямина дает сбои именно там, где город не подвергся деформации, где нет
разночтения между 'перцептивной сеткой' сегодняшнего восприятия и измененной
линией старой карты". Беньямин считал, что город, где прошло детство,
можно описать только в форме воспоминаний. Он как бы выпадает из перцептивного
поля. Чтобы увидеть город вновь, следует вновь превратиться в ребенка. Но,
чтобы понять город, взрослый должен расшифровать память ребенка. Петер Шонди,
комментируя Беньямина, писал, что столкновение с городом состоит из множества
шоков, 'память о которых сохраняет ребенок, покуда взрослый не сможет их
расшифровать' (Шонди 1988: 21). Вот почему книга о городе- это всегда книга
воспоминаний, книга временной растяжки, место встречи двух 'Я' - прошлого и
нынешнего, воспринимающего и вспоминающего, постигающего смысл воспоминаний в
анамнезисе. Город без исторической перспективы не имеет смысла.
Таким
образом, Париж может прочитываться только с помощью умозрительного наложения на
современный город обликов старых городов, а по существу планов старого Парижа,
в которых трансформации читаются как диаграммы. Город начинает пониматься как
исторический палимпсест. Гюго замечает:
'Под
современным Парижем проступают очертания древнего Парижа, подобно тому как
старый текст проступает между строк нового' (Гюго 1956: 413). Речь, однако,
идет о своего рода смене карт и планов города. Странная эта топографическая
игра проявляется в описании блужданий Жана Вальжана в лабиринте квартала Малый
Пикпюс. В начале соответствующей главы Гюго признается, что 'ему же современный
Париж неведом, и он пишет, видя перед собой Париж былых времен' (1, 516). Но далее
он допускает удивительный анахронизм. Поскольку реконструкция города изменила
облик Парижа, он предлагает восстановить его по старому плану. Гюго пишет:
'Малый
Пикпюс, от которого на современных планах не осталось и следа, довольно ясно
обозначен на плане 1727 года, выпущенном в Париже у Дени Тьери на улице
Сен-Жак, что напротив Штукатурной улицы, и в Лионе, у Жана Жирена на Торговой
улице, в Прюданс' (1,523).
__________
19 Сама перцептивная сетка,
накладываясь на историческую органику линии, может порождать диаграмматические
деформации. Так, средневековая скульптура в основном обязана своими
деформациями искажающему императиву абстрактных моделей или архитектурных
конструкций. См: Балтрушайтис 1986: 199-228.
107
Любопытно
это неожиданное соскальзывание наррации более чем на столетие в прошлое. Но не
менее странно, конечно, и подробное указание места изготовления использованной
писателем карты. Речь идет не просто о неком условно 'старом' городе, а о четко
фиксируемом историческом моменте и месте. Речь идет именно об анамнезисе как
самообнаружении забытых и незначительных деталей.
И
далее, в главе с характерным названием 'Смотри план Парижа 1727 года', он
помещает блуждания Вальжана в топографию столетней давности. Именно на плане
1727 года и обнаруживается в начертаниях улиц мистическая буква V. Письмо
возникает от наложения планов, от проекции карты на территорию. Отношения между
языком и денотатами уже описывалось в терминах отношений 'карта/территория'20. Язык в данном случае извлекает из мира
денотатов конфигурацию, подобную карте. В данном случае речь, однако, идет не
просто об отношении означающих и означаемых, но о появлении самого означающего
(графемы) в процессе проекции некой абстракции на 'территорию'.
Гюго
вообще не может смотреть на город иначе как через смену диахронических
проекций. В очерке 'Париж' он предлагает:
'Возьмите
планы Парижа разных эпох его существования. Наложите их один на другой, взяв за
центр Собор богоматери. Рассмотрите XV век по плану Сен-Виктора, шестнадцатый -
по плану, вытканному на гобелене, семнадцатый - по плану Бюлле, восемнадцатый -
по планам Гомбуста, Русселя, Дени Тьери, Лагрива, Брете, Вернике, девятнадцатый
- по современному плану, - впечатление, производимое ростом города, поистине
ужасает.
Вам
кажется, что вы смотрите в подзорную трубу на стремительное приближение
светила, становящегося все больше и больше' (Гюго 1956: 409).
Использование
плана создает иллюзию сверхудаленности, сверхзрения. Склоняясь над листом
бумаги, покрытым графемами, писатель ощущает себя на вершине горы. То
квазикинематографическое зрелище, которое предстает перед ним, имеет
двойственный характер. С одной стороны, стремительно приближающееся светило
просто ослепляет наблюдателя. Высшая точка зрения превращается в точку
исчерпанности видения. Единственное ощущение, остающееся от созерцания быстро
сменяющихся планов города, - это ощущение роста, иными словами, нерасчленимое
ощущение энергети-
___________
20 Современный взгляд на игру карты и
территории изложен в работе: Изер 1993: 247-250.
108
ческого
выбухания, деформации21.
Неподвижность графем сменяется динамикой диаграммы. Рисунок, структура письма
разрушаются этой нарастающей диаграммой. Но это же движение может пониматься и
как движение истории, несущейся к свету, огню как к финальной точке всех
маршрутов Гюго.
В
целом ряде панорамных описаний Париж дается как нерасчленимая картина бушующих
огней, динамизм которой уничтожает всякую возможность чтения. Виньи в поэме
'Париж' описывает это нерасчленимое бурление света:
'Все
кишит и растет, цепляется, поднимаясь, / Скрючивается, сворачивается,
опустошается или вытягивается' (Виньи 1965:83).
Дюма
дает аналогичную картину в сцене прощания графа Монте-Кристо с Парижем:
'...Монте-Кристо
стоял на вершине холма Вильжюиф, на плоской возвышенности, откуда виден весь
Париж, похожий на темное море, в котором, как фосфоресцирующие волны,
переливаются миллионы огней; да, волны, но более бурные, неистовые, изменчивые,
более яростные и алчные, чем волны разгневанного океана, не ведающие покоя,
вечно сталкивающиеся, вечно вскипающие, вечно губительные' (Дюма 1955, т.
2:585).
Но
только Гюго описывает эту энергетическую самодеструкцию городского текста в
терминах смены и напластования множества синхронных срезов.
Карта
постоянно динамизируется Гюго. Смена карт соответствует динамизации изнутри,
осуществляемой непрекращающимся движением Жана Вальжана по лабиринту. Это
движение вперед - аналог линейной по своему характеру наррации, в которую с
неизбежностью переливаются в словесном тексте все пространственные структуры.
Сдвиг топографии в историю является характерной чертой зрения не только Гюго,
но и многих его современников, хотя ни у кого он не достигает такой степени
рефлексивной изощренности. В 1854 году Пьер Заккон (между прочим, автор романа
'Драма катакомб', 1863) посвящает 10 страниц своего романа 'Тайны старого
Парижа' панораме города 1547 года с башни Сен-Жак, явно имитируя 'Собор
Парижской богоматери'. Но особенно типичен сдвиг топографии в историю у Мишле,
который как-то заметил, что фран-
___________
21 В описанной картине интересно
также и то, что множество планов
здесь сливаются в одну картину,
имеющую временную динамику. В картографии известен и другой процесс поглощения
множественности точек зрения неким обобщающим образом, называется он 'гомоморфным
картографированием' и сводится к трансформации множества когнитивных карт в
одну карту, к условному совмещению разных точек зрения в одной (Гулд- Уайт,
1974: 52-53). Этот процесс снимает диаграмматическое напряжение, сохраняющееся
в квазикинематографическом динамическом синтезе.
109
цузское
сознание идентифицирует Францию с историей, но не с географией. План Парижа
систематически рассматривается Мишле как скрытый рассказ об истории:
'Прекрасен
переход от Марсова поля к дому Инвалидов, от Инвалидов к Пантеону (от войны к
триумфальному отдыху, от отдыха к бессмертию)' (Ситрон 1961, т. 1: 259).
Пантеон
у Мишле - место завершения почти всех воображаемых прогулок по городу,
воплощение вечности, конца истории.
Эта
черта культурного сознания отчасти, вероятно, связана со слабым
распространением карт как тотализирующей пространственной модели. Юджин Вебер
отмечает:
'В
начале XIX века карты- особенно карты Франции- все еще были редкостью, а их
чтение требовало особой сноровки <...>. Физический облик Франции и ее контуры
продолжали поражать современников как новинка' (Вебер 1988: 372).
И
подобная ситуация сохранялась до первой мировой войны. Показательно также, что
именно во Франции особое развитие получила историческая картография. Крупнейший
французский картограф XVIII века Жан-Батист Бургиньон д'Анвиль прославился
составлением карт древней Греции и Италии на основе дневников путешественников.
Маршрут, путешествие сохраняют свое первичное значение для французской
картографии дольше, чем где бы то ни было (Брок 1972: 34-38).
Подземный
Парижу Гюго и выступает как материальное воплощение топографического
палимпсеста. Он важен для него потому, что позволяет описывать историю и
маршрут в терминах картографии. Под видимым Парижем обнаруживается еще один,
невидимый, вернее не один, а множество. Ведь рядом с клоакой находятся
катакомбы, образующие
'особое
подземелье, не говоря о запутанных тенетах газопроводов, не считая широко
разветвленной системы труб, подводящих питьевую воду к фонтанам, - водостоки
сами по себе образуют по обоим берегам Сены причудливую, скрытую во мраке
сеть...' (2,588).
Эта
структура взаимоналагающихся лабиринтов имеет исторический характер:
'История
Парижа, если раскапывать ее, как раскапывали бы Геркуланум, заставляет нас
непрерывно возобновлять работу. В ней есть и пласты наносной земли, и ячейки,
подобные могилам, высеченным в скалах, и спирали лабиринта. Докопаться в этих
развалинах до конца кажется невозможным. За расчищенным подземельем открывается
другое - загроможденное. Под первым этажом здания обнаруживается склеп, ниже-
пещера, еще
110
глубже-
место погребения, под ним- бездна' (Гюго 1956: 409)22.
Взаимоналожение
карт оказывается лишь переносом в сферу письма и текстуальности работы тела -
раскапывания, проталкивания, кафкианского проделывания ходов собственным телом.
То, что на первый взгляд кажется простой переборкой листов бумаги, имеет в
подтексте работу измученного тела.
Но
это взаимоналожение слоев действительно действует по квазикинематографическому
принципу, описанному Гюго. Оно блокирует чтение городского палимпсеста.
Проблема ориентации под землей стояла не только перед Вальжаном и Гюго, но и
перед авторами менее знаменитых произведений. Часто задача эта решалась исходя
из представления о зеркальном удвоении надземного Парижа в подземельях. Такое
представление отчасти питалось тем, что часть катакомб служила каменоломнями,
из которых строился город. Еще Мерсье в 'Парижских картинах' соотнес строения с
симметричными пустотами под ними (ведь именно из-под этих зданий брался камень
для их производства):
'Эти
дома стоят над пустотами <...> все эти башни, колокольни, своды соборов
представляют собой как бы символы, говорящие глазам наблюдателя: Того, что вы
видите над собой, - нет у вас под ногами' (Мерсье 1989: 119).
Подземный
негатив позволяет передвигаться в призрачном мире топографических идей, где
каждое материальное тело наверху, каждое здание отражено в 'идеальной' пустоте
под землей. Пьер Лебрен в поэме 1812 года 'Парижские катакомбы' пишет о двойном
городе как о символическом отражении надземного Парижа под землей. Берте в
'Парижских катакомбах' также крайне упрощает реальную картину:
'Большинство
улиц в южной части города имеет под собой соответствующую улицу, на которой
обозначены номера общественных памятников' (Берте 1854, т. 4: 278).
Герои
Берте спускаются в подземелье с планом Парижа и компасом и легко ориентируются
в лабиринте:
'Может
быть, это развалины особняка Вильнев, - предположил Шавиньи. - Нет, нет, -
ответил Филипп, бросая взгляд на план Парижа, который он держал развернутым под
рукой, - это скорее дом на улице Анфер' (Берте 1854, т. 2: 205-206). Идея
зеркальной симметрии, при всей ее символической при-
_____________
22 Эта историческая геология является
своеобразным переносом в литературу возникающих в XVIII веке геологических
карт, проецирующих на плоскость глубинное строение земли Впервые такая карта
была изготовлена англичанином Уильямом Смитом в 1815 году См. Трауэр 1972: 85
111
влекательности,
совершенно не устраивает Гюго23. Он
находит подлинный план парижской клоаки, который сохранился в его архиве, и
помечает на полях: 'Путь Ж. В.' (Бенуа-Леви 1929: 76). Однако словесное
описание этого плана оказывается чрезвычайно сложной задачей именно в силу
отсутствия реальной соотнесенности с известным читателю расположением улиц.
Максим Дюкан, оказавшись перед аналогичной задачей, признается в своей
неспособности передать конфигурацию клоаки словами:
'...Невозможно
описать огромнейшее количество разветвлений, которые ее составляют: нужно
внимательно изучить двадцать один лист 'Общего плана канализации города
Парижа', чтобы представить себе масштабы и хитроумное строение этой бесконечной
сети, чьи ответвления достигают повсюду и подходят в случае нужды к самым
таинственным закоулкам наших домов' (Дюкан 1875, т. 5: 353).
Очертания
клоаки можно передать только графически, но не словесно. Карта входит в ту
область языка, которая граничит с молчанием, словесное здесь окончательно
переходит в иероглифическое, в шифр.
То,
с чем мы сталкиваемся в данном случае, может быть сформулировано в категориях
насилия письма над речью. Деррида показал, что письмо часто описывалось как
некая агрессия, насилие, наложенные извне на речь. Даже у Леви-Стросса он
обнаруживает этот миф насилия письма, которое вторгается в жизнь первобытных
народов, в том числе и в форме дорог, рассекающих лес, в форме насилия над
пространством (Деррида 1976: 106-108). В интересующем меня случае мы имеем дело
с наслоением графем, следов письма, которые создают столь плотную сеть, что
блокируют высказывание. Современный город с его геометрической сеткой ложится
на хитросплетения исторических лабиринтов, как бы насилуя их, создавая
множество микрополей напряжения там, где графемы не совпадают, где между ними
читаются беспрерывно умножающиеся различия.
Но
и сам лабиринт, наложенный как насилующая сеть на тело Вальжана, - также
структура письма, подавляющего речь. Эта структура насильственна в нескольких
аспектах. Она не только навязывает Вальжану пропись чужой памяти. Она
заставляет его тело проникать внутрь букв, возникающих в излучинах путей, и
самому становиться буквой. Движение тела, таким образом, постоянно
дисциплинируется' навязываемым ему алфавитом.
Система
насилия настолько пронизывает текст Гюго, что номи-
_________
23 Никак нельзя
согласиться с Луи Шевалье, считающим, что в 'Отверженных' клоака описана 'как
дубликат города, его точнейший, полнейший и наипростейший отпечаток' (Шевалье
1958: 110).
112
нальное,
словесное постоянно в нем 'репрессируется'. Письмо разрушает систему 'шифтеров'
- личных местоимений и имен собственных, имеющих смысл в устной речи. Если
использовать терминологию Лиотара, деформации подвергается само 'разделение на
знаки' (см. предыдущую главу). 'Я' в устной речи - указатель на тело, эту речь
производящее. 'Я' в письменном тексте- не что иное, как условность, отсылка к
абстрактной инстанции, генерирующей текст. Деррида называет энергетической
сущностью графемы ее способность 'стирать имя собственное' (Деррида 1976: 108).
Мишель де Серто обратил внимание на тот факт, что исчезновение собственного имени
- первый знак 'мистического дискурса' одержимых женщин, устами которых говорит
демон, их негативный двойник. Инквизиция навязывает 'одержимым' номинацию - имя
вселившегося в них демона:
'На
шахматной доске имен собственных они безостановочно скользят от квадрата к
квадрату, но не создают дополнительного квадрата, который был бы их
собственным' (Де Серто 1988: 257).
И
де Серто иллюстрирует свое положение диаграммой - сеткой, в которую помещены
буквы, соединенные между собой прихотливой арабеской. Это линия соскальзывания
между буквами, между графемами, которые могут быть лишь условными заменителями
собственных имен, потому что как элементы письма они разрушают связь слова с
актом высказывания.
Движение
Вальжана между буквами чужого текста во многом аналогично этому
безостановочному соскальзыванию от графемы к графеме, которые, вместо того
чтобы сделать текст читаемым, лишь умножают диаграммы насилия.
В
некоторых случаях Гюго старается соотнести свою диаграм-матическую топографию с
номинацией, но неизбежно терпит поражение. Так, в 'Соборе Парижской богоматери'
после попытки прочитать план города через называние улиц и зданий он вдруг
останавливается и оговаривается:
'Теперь,
если перечисление такого множества зданий, каким бы кратким мы ни старались его
сделать, не раздробило окончательно в сознании читателя общего представления о
старом Париже, по мере того как мы его старались воспроизвести, повторим в
нескольких словах наиболее существенное' (Гюго 1953: 135). Номинация так же
дробит и разрушает речь, как и письмо. Вернее, она уже искажена письмом до
такой степени, что не восстанавливает 'нормального' течения речи. Суммирование,
повторение, как и следовало ожидать, не вносит ясности. И тогда Гюго предлагает
читателю нечто совершенно неожиданное - подняться на возвышенное место, но не
для того, чтобы самому окинуть взглядом город, а чтобы... слушать звон
колоколов парижских колоколен:
113
'Затем,
внезапно, глядите, - ибо кажется, что иногда и ухо обретает зрение, - глядите,
как от каждой звонницы одновременно вздымается как бы колонна звуков, облако
гармонии' (Гюго 1953:140).
Визуальное
вдруг резко переходит в акустическое. И этот переход отмечен странными
энергетическими диаграммами: полубуквами, полуразрядами:
'...Вы
видите, как в эту гармонию вдруг невпопад врывается несколько ясных
стремительных ноток и как, промелькнув тремя-четырьмя ослепительными зигзагами,
они гаснут словно молния' (Гюго 1953:140). Молния, в которую визуализируются
звуки, - это знак перехода из одной семиотической системы в другую, знак непереводимости,
разрешающий напряжение между различными рядами знаков зигзагом (напоминающим
мгновенность зигзагообразной диаграммы Голядкина). Это и
искривленно-лабиринтное движение. Но это, конечно, и призрак мгновенно
исчезающей, почти неуловимой буквы, призрак саморазрушающегося в энергетическом
пароксизме письма. Ведь молния - это та же буква Z, знак Бога (и каллиграмма
Зевса). Иерофания, явление Бога достигается по ту сторону слова и зрения, по ту
сторону первичных языков, арготического или иероглифического, сквозь внезапное
в озарении соединение никак не совмещающихся лабиринтов, через вспышку
блокированного письма, возникающего в звуке, подавленном все тем же письмом.
Диаграмматический разряд здесь дается как результат взрывного разрушения
взаимодеструктивных знаковых систем.
В
принципе буква отличается от звука именно тем, что она непреходяща. Мишель Фуко
обратил внимание на целую мифологию звука, возникающую из 'озвучивания'
алфавитов, фонетизации письма в начале XIX века. Звучащая буква в таком контексте
предстает в виде 'чистой поэтической вспышки, исчезающей без следа и не
оставляющей после себя ничего, кроме на миг повисающей вибрации'. Так понятый
звук противостоит письму, предполагающему 'скрюченное постоянство тайны внутри
видимых лабиринтов' (Фуко 1966: 298). Мгновенная визуализация звука, как это
описано у Гюго, - это неожиданное преобразование искусственного (письма) в
природное (звучание) (об этом см. Киттлер 1990: 3-36). И это преобразование
целиком лежит в диаграмматической сфере напряжений. Диаграмма отмечает путь
буквы к Богу.
Левкипп
и Демокрит утверждали, что атомы рознятся между собой 'строем',
'соприкосновением' и 'поворотом'. И для демонстрации этой доктрины они прибегли
к примеру, почерпнутому из алфавита:
'..."Строй"
- это очертания, "соприкосновение" - порядок, "поворот" -
положение; а именно А отличается от N очертаниями, AN от NA - порядком, Z от N
- положением' (Аристотель 1975: 75, 985Ь, 15-20).
114
Z
отличается от N не только положением, но энергетическим строем своего ритма. В
первом случае абрис буквы строится как зигзагообразное падение, во втором
случае как искривленное движение по горизонтали. Буквы, понятые как атомы, как
природные энергетические единицы, становятся диаграммами. Жан-Франсуа Лиотар
видит главное различие Z от N в изменении точки зрения на них, в организации
пространства чтения (Лиотар 1978: 212-213), то есть, в конечном счете, в
лабиринтной структуре как структуре напряжения.
Диаграмматически
разрешаемое противоречие между синхронностью письма и диахронностью речи
воспроизводится в романе Гюго на другом уровне как противоречие между
повествованием, линейностью, маршрутом и панорамным пространством репрезентации
(видом, планом, картой). Сложность технических проблем, с которыми столкнулся
писатель, связана с невозможностью передать 'вид' с помощью синтагматически
построенного, линеарного словесного текста. Оппозиция карты и маршрута (а карта
исторически рождается как абстрагирование маршрутов) в литературном тексте
выстраивается в иную оппозицию: письма как процесса и письма как существующей
на бумаге графемы, письма как движения и письма как его следа. Писание,
движение пера может быть уподоблено маршруту, исписанный лист - карте. Вальжан
движется как 'маршрут' письма по уже исписанному тексту города.
С
легкой руки Делёза и Гваттари противопоставление карты и маршрута вошло в
арсенал постмодернистского теоретизирования. Делёз - Гваттари категорически
высказываются за карту против маршрута, карта для них- 'ризома', структура,
противостоящая 'закрытоеT подсознания на самого себя', якобы выраженной в
маршруте (Делёз - Гваттари 1987: 12). Вслед за ними американский марксист
Фредерик Джеймисон повторил ту же оппозицию, провозгласив построение карт
(mapping) одной из основных стратегий постмодернистской культуры (Джеймисон
1991: 51-52). Мне, однако, представляется, что прокладывание маршрутов и
картографирование местности практически неотделимы друг от друга.
Мишель
де Серто предложил различать место
как синхронную кристаллическую структуру и пространство
как локус пересечения маршрутов, как 'практикуемое место' (Де Серто 1980:
208-209)24. Мерло-Понти различал
'геометрическое пространство' и 'антропологическое пространство' (Мерло-Понти
1945: 324-344). Казалось бы, литература может воплотить геометрическое
пространство только через его антропоморфизацию - маршрут персонажа, движение
письма. В действительности антропологическое и геометрическое пространство при
всей их нерасторжимой связи между собой едва
__________
24 Об оппозиции 'карта/маршрут' см
также Марен 1973: 257-290
115
ли
пересекаются. Карта невозможна без маршрутов, но никакое множество маршрутов
все-таки не составляет карты.
Гюго
придумывает для объединения синхронного и диахронного срезов свою собственную
эксцентрическую стратегию. Он пускает Вальжана в изменяющееся пространство,
создающееся перелистыванием карт. Само геометрическое пространство
диахронически движется, переставая быть чистой топографией и становясь
историей. При этом история возникает через напряжения несовпадающих линий,
деформированных контуров, через напряжение диаграмм.
Напряжение
это, однако, трудно поддерживать, и у менее экстатических авторов оно постоянно
разрешается в пользу наррации, истории, линейности. Описание вида, карты постоянно переходит в
описание истории города. Историография заменяет географию. Александр Дюма
приглашает читателя посетить катакомбы и вводит его за собой в подземелье:
'И
мы вошли. Я испытываю сильное искушение дать короткий исторический очерк
катакомб, но я предпочитаю показать сначала следствие, а потом причину. Итак,
сначала я дам описание катакомб, такими, как я их увидел' (Дюма б.г., т. 4.
53).
И
что же следует за этим предупреждением? - Подробнейший очерк истории катакомб.
Описание неизбежно сползает в историю
Вспомним
Вальтера Беньямина, мечтавшего начертать собственную био-графию как карту. В
'Берлинской хронике' имеется загадочный фрагмент, связанный с этим намерением:
'...Я
думаю о парижском полдне, в который меня посетило прозрение, подобно вспышке
озарившее мою жизнь <'.> я сидел в кафе Deux Magots в Сен-Жермен-де-Пре и
с необоримой силой был поражен идеей нарисовать диаграмму моей жизни, в тот же
момент я с точностью понял, как она должна быть сделана. Я ставил перед своим
прошлым самые простые вопросы, и ответы записывались, как бы по их собственному
велению, на листе бумаги, который был у меня с собой. Через год или два я
потерял этот лист, я был неутешен С тех пор я так и не был в состоянии
восстановить его в том виде, каким он явился мне тогда, похожий на семейное
древо. Сегодня, однако, мысленно восстанавливая его контуры, хотя и не
набрасывая их непосредственно на бумаге, я бы скорее говорил о лабиринте'
(Беньямин 1986: 30-31). История, биография даются Беньямину не в виде наррации,
но Диаграммы. Диаграмма эта является ему в озарении подобно вспышке, подобно
той молнии, в которой над Парижем вдруг визуализируются перед взором Гюго звуки
колоколов. Эта вспышка видения озаряет пространство существования диаграммы как
особое,
116
трансцендентное
пространство памяти. А ее утеря приравнивается к забыванию. Вид диаграммы
любопытен - это дерево. Дерево - типичная мнемотехническая диаграмма
средневековья. Идеальная, с точки зрения старых риторов, для запоминания фраз,
растущих из корня подобно дереву (Карразерс 1990: 209). Но эта логическая
диаграмма, с одним корнем и постепенным его расслоением, деформируется в
лабиринт, в котором память теряется.
Лабиринт
- это отчуждение читаемой мнемонической схемы. Любопытен механизм превращения
дерева в лабиринт. Беньямин не просто старается вспомнить свою биографическую
диаграмму, он пытается вспомнить ее, постепенно вспоминая место ее явления-
послеполуденный Париж, Сен-Жермен-де-Пре, смешение спешащих мимо фигур и лиц...
Лабиринт возникает от напластования образа города на диаграмму жизни. Лабиринт
возникает как наслоение диаграмм. Он сам может быть обозначен как машина
удвоения, производящая диаграммы. Каждая новая карта Парижа, которую Гюго
наслаивает на предыдущую,- это метаморфический двойник предшествующей карты.
Биография Беньямина строится вокруг главного события его жизни -
биографического откровения в Париже. Но в тот момент, когда биографическая
диаграмма удваивается образом главного жизненного события (а именно явления
биографии), удвоение приводит к метаморфозе схемы в лабиринт.
Лабиринт
производит диаграммы как вспышки, в которых пространство и время объединяются в
смешении карты и маршрута, он производит единственные образования, позволяющие
преодолевать несводимость друг к другу геометрического и антропологического
пространств, 'вида' и 'истории'.
Глава 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ: РАЗЛИЧИЕ И ПОВТОРЕНИЕ
'Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень,
если бы я могла забыть мое прошлое!'
А. П. Чехов. 'Вишневый
сад'
'"То, что было" - так называется камень,
который она не может катить'
Фридрих Ницше. 'Так говорил
Заратустра'
1
Мишель
Фуко заметил, что 'лабиринт связан с метаморфозой' (Фуко 1992: 112). Минотавр,
находящийся в его сердцевине, - воплощение трансформации, тератологического
сдвига. Между тем блуждания Жана Вальжана по подземному лабиринту не вписывают
в его тело какой-то деформации, уродства. С его телом происходит нечто иное.
Оно как бы растворяется в хитросплетениях подземных ходов, которые становятся
его вторым телом, его пространственным двойником. Рильке писал о голландских
поселенцах в Ворпсведе как о людях, у которых кожа растянулась и стала 'велика
лицу словно разношенная перчатка' (Рильке 1971: 67) (см. главу 2). Лабиринт для
Жана Вальжана - эта такая растянутая кожа, в которой потерялось его тело. Все
трансформации происходят с лабиринтом, который накладывается на другие
лабиринты, чертит диаграммы, соединяет разные слои времени. Лабиринт в
'Отверженных' связан с метаморфозой не в том смысле, что он трансформирует
помещенное в него тело, а в том смысле, что он сам есть метаморфическое тело.
Лабиринт
- это пространственное образование. Но потому, что он вытянут и запутан,
потому, что опыт существования в нем - это опыт отчаяния и безысходности, в его
пространство вписывается ощущение времени. Осип Мандельштам как-то сравнил век
с барсучьей норой, в которой человек
'живет
и движется в скупо отмеренном пространстве, лихорадочно стремится расширить
свои владения и больше всего дорожит выходами из подземной норы' (Мандельштам
1991, т. 2: 272).
118
Кафкианская
нора преобразуется у Мандельштама в образ времени.
Движение
по лабиринту дается как долгое
движение, как испытание терпения, способности завершить блуждание. Оно поэтому
двояко с точки зрения опыта времени: с одной стороны, это переживание
длительности, с другой стороны- приостановка времени. Темнота, нарушение
линейности бесконечным рядом разветвлений создают странное сочетание
'длительности' и 'атемпоральности'. И то и другое вписывает трансформацию в
тело. Время изменяет черты лица и осанку, но таким же свойством обладает
временной провал, отсутствие. Поскольку провал дается как 'перерыв' во времени,
как атемпоральность, он может быть репрезентирован только телесной
метаморфозой. Метаморфоза лабиринта, вписанная в диахронию карт и планов
города, может проецироваться на человеческое лицо.
В
своем фильме 'Камень' (1992) Александр Сокуров работает именно на материале
атемпоральности, репрезентированной в деформациях. Атемпоральность в данном
случае задается как смерть главного героя фильма и последующее его оживление.
'Оживленный' герой- Антон Павлович Чехов возвращается из небытия, чтобы
провести ночь в своем ялтинском доме, сбереженном для него музейными
хранителями.
...Ночной
сторож, обходя полутемный музей, обнаруживает некого человека, сидящего в
ванне. Чехов наслаждается омовением, и его возникновение из воды буквально
подменяет собой рождение (сторож в конце концов берет его на руки и выносит из
ванной, как ребенка). Смерть героя делает возможным изображение его возвращения
как рождения. Небытие, разделяющее исчезновение Чехова и его возвращение, тем
самым как будто отрицается. То, что кажется повторением, одновременно является
и началом. То же, что кажется началом (рождением), - не что иное, как
повторение.
Фильм
строится как постепенное обретение призраком своего лица, которого он почти лишен
при рождении. Чехов вначале не похож на самого себя, и лишь постепенно на наших
глазах он начинает 'совпадать' с хорошо знакомым нам по фотографиям обликом.
Сокуров первоначально не сообщает, что перед нами Чехов, и позволяет зрителю
пережить процесс обретения ожившим покойником своего облика как процесс
узнавания. Это второе рождение возвращает Чехова не в какой-то новый мир, а в
мир его минувшей жизни, внутрь дома, в пространство застывших в безвременье
воспоминаний. Речь идет о повторном обретении телом его 'места'. Фильм складывается как два параллельных потока узнавания:
Чехов узнает оставленные им вещи, звуки, ароматы - зритель постепенно узнает
самого Чехова. Зрителю буквально, хотя и через персонаж,
119
предлагается
пережить с героем процесс постепенного обретения identity.
Последняя
черточка, позволяющая уже безошибочно 'опознать' личность Чехова в фильме, -
знаменитое пенсне. Пенсне оказывается не только финальным мнемоническим
штрихом, восстанавливающим портрет писателя в его полной и беспрекословной
узнаваемости, оно не только сцепляет видимое зрителем с образом в его памяти,
но и 'восстанавливает', наконец, зрение самого Чехова. Появление пенсне как
будто придает четкость зрению и зрителей, и персонажа.
Деформация
видимого мира играет в фильме столь важную роль (значительная его часть снята с
помощью специального объектива, искажающего линейную перспективу
фотографического изображения и нашего повседневного видения), что едва ли можно
объяснить ее простой отсылкой к общему смыслу фильма - обретению зрения, теме
призрачности и воспоминаний. Сокуров предлагает здесь особую метафизику
изображения, где искажение принятого перспективного кода каким-то образом
связывается с идеей нового, истинного видения. Чтобы понять смысл этой
визуальной деформации, нужно на время выйти за пределы сюжета фильма.
2
Загадка
деформированного изображения отсылает, на мой взгляд, к другой загадке фильма -
его названию. Камень в фильме по существу не присутствует, если не считать
плиты, сдвинутой с могилы на кладбище (пустая могила Чехова?). Что означает это
лаконичное и 'тяжелое' название?
В
древнееврейском слово 'камень'
состоит из трех букв - алеф, бет и вав.
Первые две буквы складываются в слово 'отец', две вторые - в слово 'сын'. При
этом центральная буква 'бет', входящая в оба слова, означает дом и даже
напоминает дом своими очертаниями. Как замечает Даниэль Сибони, 'отец и сын
связаны актом передачи (transmission) и пространством,
или, вернее, актом его построения - который
также в основе своей есть акт передачи. "Первые" строения, прежде
чем стать храмами (предназначенными для встречи с Другим), были камнями, которые отмечали могилы,
свидетельствовали о смерти, бросали ей вызов, преодолевали ее через передачу памяти' (Сибони 1986:133).
Встреча
Чехова с ночным сторожем в каком-то смысле строится как встреча отца с сыном,
основанная на этом акте 'передачи' памяти и построения 'пространства' памяти,
позволяющего осущест-
120
вить
саму передачу. Однако сама структура этой передачи не совсем обычна.
Семантика
камня отсылает нас и к греческим корням нашей культуры. В древней Греции
существовало несколько обозначений симулякра, заменявшего мертвеца, - bretas,
xoanon, colossos. Колоссоc, как показал Жан-Пьер Вернан, непосредственно связан
с камнем. По существу, это и есть камень, исполнявший роль отсутствующего
покойника:
'Заменяя
собой мертвеца на дне могилы, колоссос не стремится к воспроизведению черт
усопшего, созданию иллюзии физического сходства. Он воплощает и фиксирует в
камне не образ мертвого, но его жизнь в потустороннем мире, противостоящую
жизни живых как мир ночи миру дня. Колоссос - не изображение; он -
"двойник", как сам мертвец есть двойник живого' (Вернан 1971: 67). Он
с очевидностью воплощает качества потусторонней жизни - холод, неподвижность,
сухость. Существенно возможное отсутствие глаз и даже лица у колоссоса (в
'Агамемноне' Эсхила говорится, что он 'с пустыми глазами'). Согласно греческим
представлениям, мертвец в Гадесе не имеет лица, и смерть часто описывается
именно как исчезновение лица, сокрытие его маской или пустотой.
Сам
камень могилы, как заметил Жорж Диди-Юберман, есть в конце концов лишь знак
некой пустоты под ним, в которой навсегда исчезло тело умершего, могильный
камень - это 'подлинный ужас и отрицание пустоты'. В качестве такого отрицания
он всячески подчеркивает свое присутствие (отсюда столь важны его вес и
прочность, его способность противостоять времени). Как воплощение двойного
отрицания (отрицания пустоты), он в конце концов выливается в чистое
утверждение присутствия как такового, тесно связанное с травматическим зиянием
под ним. Это чистое присутствие, вписанное в зияние, может также пониматься как
'место':
'Он
сделал все, чтобы отвергнуть темпоральность объекта, работу времени или
метаморфозу в объекте, работу памяти - или завороженности - во взгляде. То есть
он сделал все, чтобы уничтожить ауру объекта, афишируя своего рода безразличие
по отношению к тому, что спрятано, присутствует, покоится под ним'
(Диди-Юберман 1992:19).
Камень
в таком контексте отрицает саму идею метаморфозы, которая отсылает к
становлению, исчезновению, 'существованию'. Он отрицает саму идею лица как
поверхности метаморфоз. Камень, спроецированный на тело мертвеца, это именно
безликий колоссос. Чистое присутствие, отсылающее к чистому небытию.
В
начале фильма Чехов чем-то подобен греческому колоссосу. Он как бы не имеет
лица. Постепенное обретение им собственных черт не только имитирует открытие
мира ожившим, но и стирает
121
черты
смерти с его облика (стирает безликость). Камень отступает перед иным
присутствием.
Существенно
также и то, что колоссос противостоит имитации, симуляции видимого мира в
изображении. Он отсылает лишь к отрицаемой пустоте. С ним связана идея
антинатуралистического, антиимитативного пространства.
В
некоторых случаях (если камень перестает быть неподвижным, как в случае с
могилой) оно может быть понято и как пространство истинности, в котором
реализуется творчество. Такое понимание характерно для наиболее очевидного
источника сокуровского названия - 'Камня' Осипа Мандельштама.
Символ
камня у Мандельштама
слишком сложен, чтобы претендовать здесь на его сколько-нибудь исчерпывающее
рассмотрение. Вспомним лишь, что камень участвует у Мандельштама в самом
процессе 'пробуждения' поэта:
Как
облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь.
Какая-то
страсть налетела,
Какая-то тяжесть жива;
И
призраки требуют тела,
И плоти причастны слова.
Речь
идет о динамическом проникновении тяжести в плоть и оживлении этой тяжести в
словах, не столько о присутствии как двойном отрицании, сколько о рождении к
присутствию (по выражению Жан-Люка Нанси).
Эта нагруженность, 'присутствие' слов соотносится с общим пафосом акмеистской
поэзии. Но смысл мандельштамовского проекта гораздо шире. Григорий Фрейдин так
формулирует его: 'После того как поэт получает от Бога знак своего призвания,
"тело" ("плоть") начинает антитетически обмениваться
атрибутами с "тяжестью" ("камнем")' (Фрейдин 1987: 42)1.
В
этом процессе участвует небо, которое описывается Мандельштамом как некий каменный
свод:
Я
вижу каменное небо < >
И небо падает, не рушась
Это падение камня возникает не единожды:
Кто
камни нам бросает с высоты,
И камень отрицает иго праха?
_____________
1 Ср. с мандельштамовским
определением русского языка '...русский язык стал именно звучащей и говорящей
плотью' (Мандельштам 1991, т 2 245)
122
Каким
образом падение участвует в творчестве? Один из первых ответов на этот вопрос
дается в ключевом для 'Камня' стихотворении 'Notre Dame'. Здесь готический свод
описывается как 'первый' и соотносится с телом Адама - первоназывателя, творца
языка Эдема. Сама конструкция Notre Dame представляет собою противоборствующее
взаимодействие падения, тяжести и некой силы, им противостоящей:
Здесь
позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила -
И свода дерзкого бездействует таран.
Противоречивая
метафора 'бездействующего тарана' - характерная для Мандельштама конструкция.
Множество образов его поэзии возникает именно на пересечении двух
противоборствующих сил.
В
ранней статье 'Франсуа Виллон' (1910) Мандельштам описывал готику как
'торжество динамики' и одновременно как искусство физиологии. Здесь, как и в
'Notre Dame', готическое здание уподобляется организму. При этом человек,
попадающий в такое здание, оказывается захваченным участвующими в нем силами и
как бы включается в общую конструкцию наподобие камня:
'Средневековый
человек считал себя в мировом здании столь же необходимым и связанным, как
любой камень в готической постройке, с достоинством выносящий давление соседей
и входящий неизбежной ставкой в общую игру сил' (Мандельштам 1991, т. 2: 308).
В 'Утре акмеизма' сравнение готического собора и организма проведено еще более
настойчиво. Таким образом, динамический камень, преображенный в готический
собор, оказывается местом par excellence, так как он с необыкновенной полнотой
включает в себя тело. И тело, включенное во внешний каркас места с его силовыми
опорами, начинает деформироваться.
Этот
процесс деформации тела, включенного в структуру средневекового собора, был
превосходно описан Анри Фосийоном. Фосийон пишет о тираническом насилии рамок
(мы бы сказали, структурных элементов - арок, стрельчатых сводов), оказываемом
на человеческое тело:
'Эти
рамки, включив в себя скульптуру, даровали ей новые страсти, навязали ей
движение, мимику, драму. Чтобы войти в систему камня, человек был вынужден
согнуться вперед, отклониться назад, растянуть или сжать свои члены, стать
гигантом или карликом. Он сохранил свою идентичность только ценой
разбалансированности и деформации; он остался человеком, но человеком из пла-
123
стического
материала, повинующимся не капризу чьей-либо иронии, но требованиям системы, в
которую была включена вся структура' (Фосийон 1963:106)2. Включение в структуру (нахождение 'места')
всегда оказывает деформирующее воздействие3,
которого и жаждет Мандельштам для своего слова, чья соприродная камню материя
жаждет включения в динамический поток сил:
'Камень
как бы возжаждал иного бытия. Он сам обнаружил скрытую в нем потенциально
способность динамики, - как бы попросился в "крестовый свод"
участвовать в радостном взаимодействии себе подобных' (Мандельштам 1991, т. 2:
322).
Уподобление
слова камню имеет и еще одно существенное следствие- слово само начинает
выполнять функцию места. Из речи можно 'уйти', как, например, в стихотворении
'К немецкой речи'. Каждый язык, однако, через уподобление с камнем связывается
с определенным 'местом'. Греческий язык - это 'комья глины в ладонях моря',
армянская речь - это 'речь голодающих кирпичей', в Париже поэту слышится 'язык
булыжника' и т. д. Слово обладает такой силой позитивности, что определяет
присутствие. Через связь с камнем речь стремится обрести или создать место.
Стоит хотя бы указать на функцию имен в языке4.
Понимание
слова как камня, остановленного в падении и включенного в систему
структурообразующих сил, выражается в особом интересе Мандельштама к
динамическому пространству. Наиболее полно проект мандельштамовской поэтики в
ее связи с пространством был развернут позднее, в 'Путешествии в Армению'. Речь
здесь шла о 'теории эмбрионального поля' профессора Гурвича. Согласно этой
теории, в изложении Мандельштама, биологический рост организма и вообще любого
тела искривляет пространство вокруг него, изгибает его вовне:
'Возьмите
любую точку и соедините ее пучком координат с прямой. Затем продолжите эти
координаты, пересекающие прямую под разными углами, на отрезок одинаковой
длины, соедините их между собой, и получится выпуклость' (Мандельштам 1991, т.
2: 154).
_____________
2 Критику фосийоновской концепции
деформации человеческой фигуры под воздействием внешних структур см. Дагонье
1982: 145-155.
3 Эрвин Панофский
показал, что человеческая фигура в готике строится не в соответствии с системой
пропорций, как, например, в Греции, но в соответствии с абстрактной геометрической
схемой, чьи линии 'определяют внешний вид фигуры
только в той мере, в какой их расположение указывает предполагаемое направление
движения членов тела, а точки их пересечения совпадают с определенными
характерными местами (loci) фигуры' (Панофский 1955: 83). Это, однако,
не означает, что средневековые фигуры выражали динамику. Соотношение движения в
членах тела и их закрепленности в определенных точках геометрической схемы
означало только тенденцию к деформации.
4 О связи речи и 'места'
см. Деррида 1989.
124
Теория
эмбрионального поля дает своеобразную геометрическую модель творчества вообще,
модель, отчасти напоминающую пространство анаморфозы (см. главу 6).
Если творчество - это развитие, рост, то пространственно оно выражается в
дугообразном растягивании пространства, его смещении.
'Задача
разрешается не на бумаге и не в камер-обскуре причинности, а в живой
импрессионистической среде, в храме воздуха и света...' (Мандельштам 1991, т.
2:155), - замечает поэт.
Это
противопоставление камеры-обскуры, работающей по Декартовым законам линейной
перспективы, импрессионизму с его распластыванием цветового слоя по
поверхности, чрезвычайно существенно. Линейная перспектива в таком контексте
становится выражением статики, застылости, мертвенности. Творчество
уподобляется распространению, экспансии цвета на поверхности. Моделью
творческого, креативного пространства становится растение и окружающее его
поле. Растение, согласно Мандельштаму, - 'посланник живой грозы, перманентно
бушующей в мироздании, - в одинаковой степени сродни и камню и молнии! Растение
в мире- это событие, происшествие, стрела, а не скучное бородатое развитие'
(Мандельштам 1991, т. 2: 154).
Существенно,
что растение у Мандельштама сродни камню5.
Эта близость задается как раз способностью камня падать и как бы замирать в
падении, создавать падением совершенно специфическое, готическое пространство6
- материализующее дуговую растяжку зрения.
В
'Путешествии в Армению' эта тема развернута с большой полнотой. Мандельштам
пишет о своей любви к 'готическим хвойным шишкам': 'В их скорлупчатой нежности,
в их геометрическом ротозействе я чувствовал начатки архитектуры, демон которой
сопровождал меня всю жизнь'. Растение - не что иное, как эмбрион архитектуры.
Но именно эмбрион архитектуры есть идеальное состояние последней,
предполагающее развитие и растяжку. Отсюда навязчивая для Мандельштама тема
искаженного изображения, свернутого в клубок, как будто отражающегося на
выпуклости глаза. Искаженные, динамические формы, содержащие в своих дефор-
_______________
5 Эта близость камня цветку,
растению- возможно, тема, позаимствованная Мандельштамом у немецких романтиков,
Новалиса и других.
6 В 'Inferno' Стриндберга имеется
образ странных, падающих с неба готических камней, как будто созданных
непосредственно рукой Бога и падением: 'Я взял с собой на память о Дьепе
обломок скалы, род железной руды, напоминающий по форме трилистник готического
окна и отмеченный мальтийским крестом. Мне дал его ребенок, нашедший его на
пляже. Он сказал мне, что эти камни падают с неба и обмываются на берегу
волнами' (Стриндберг 1984: 187). Показательно, что владеет ими невинный ребенок.
125
мациях
некое диаграмматическое начало, соотносятся у Мандельштама с аналогичной
растяжкой зрения. Поэт замечает:
'Я
растягивал зрение, как лайковую перчатку, напяливал ее на колодку - на синий
морской околодок...
Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владения окоема.
Так опускают глаз в налитую всклянь широкую рюмку, чтобы вышла наружу соринка'
(Мандельштам 1991, т. 2:159).
Зрение,
таким образом, вписывается в мир, как лица голландцев у Рильке в их собственную
кожу (характерно это использование метафоры перчатки). Зрение натягивается на
бескрайность моря только для того, чтобы войти в соприкосновение с миром, как
глаз с рюмкой, в которую он опущен.
Речь
отчасти вновь идет о восстановлении 'бесперспективного зрения' (см. главу 1),
когда глаз буквально влит в окружающие его формы. Мандельштам в том же
'Путешествии в Армению' признается в своей любви к Сезанну, который разрабатывал
отчасти сходную стратегию видения. По мнению Мориса Мерло-Понти, Сезанн
старался 'ухватить структуру ландшафта, как
возникающий организм' (Мерло-Понти 1964а: 17), так что в его картинах
фиксируется 'постоянное возрождение существования' (Мерло-Понти 1964а:18)7. Одновременно эта стратегия выражается в
установке на передачу того, как мир 'касается нас'.
Переход
из одного семиотического материала (визуального) в другой (тактильный) часто
принимает форму диаграммы, деформации, отражающей напряжение. У Сезанна
диаграмматичность выражена в использовании так называемой 'перцептивной
перспективы', изгибающей прямые линии. Борис Раушенбах говорит даже о
'сфероидности пространства' у Сезанна (Раушенбах 1980: 229). Сфероидность
создает странную систему стыковки предмета и глаза. Сезанн подчеркивает не
только Сфероидность структурирующих пространство линий (например, горизонта),
но и Сфероидность предметов. Сферы глаза и предметов как будто касаются в некой
привилегированной точке. Сезанн писал в письме Эмилю Бернару:
'Чтобы
совершенствоваться в исполнении, нет ничего лучше, чем природа, глаз
воспитывается на ней. Смотря и работая, он становится сосредоточеннее. Я хочу
сказать, что в апельсине, яблоке, шаре, голове всегда есть выпуклая точка и,
несмотря на сильнейшие воздействия тени, и света, и красочных ощущений, эта
точка ближе всего к нашему глазу...' (Сезанн 1972:119)
___________
7 Мейер Шапиро почти цитирует
Мерло-Понти, когда говорит о 'явлении к бытию' (coming into being) предметов у
Сезанна, чьи формы как бы прямо творятся на полотне. С этим он связывает
деформацию форм у Сезанна. Шапиро 1975:138-139.
126
Близость
к глазу 'выпуклой точки' отмечает
совершенно иную структуру отношений, нежели те, которые задаются перспективой.
Речь идет о комбинации 'бесперспективного зрения', некой парадоксальной
дистанцированной тактильности и сфероидности8.
Сфероидность
также оказывается следствием установки на сохранение континуума живописного
пространства. Раушенбах, например, доказывает, что в живописи 'попытка передавать
все без искажений неизбежно ведет к разрывам изображения, ибо тогда изображение
любой точки картинного пространства перестает быть однозначным и оно
оказывается лежащим одновременно в разных точках картинной плоскости'
(Раушенбах 1980: 217). Сфероидность выражает напряжение, которое прикладывается
к геометрии пространства, чтобы сохранить его целостность и не допустить
разрывов в нем.
Именно
поэтому идеальным оптическим прибором становится выпуклая лупа-глаз, сферическое зеркало. Мандельштам сознательно моделирует
свое видение в этом направлении:
'Конец
улицы, как будто смятый биноклем, сбился в прищуренный комок...' (Мандельштам
1991, т. 2: 162). О бабочке: 'И вдруг я поймал себя на диком желании взглянуть
на природу нарисованными глазами этого чудовища' (Мандельштам 1991, т. 2: 164).
И еще: 'Ламарк выплакал глаза в лупу...' (Мандельштам 1991, т. 2: 164);
'Плакучая
ива свернулась в шар, обтекает и плавает. < ...> Горизонт упразднен. Нет
перспективы' (Мандельштам 1991,т. 2:164).
Я
привел только несколько цитат из 'Путешествия в Армению'. Этот список можно
значительно расширить за счет стихотворений, но я ограничусь одной цитатой, из
'Восьмистиший':
Преодолев
затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон
В земной коре юродствуют породы,
И как руда из груди рвется стон
И
тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, свернутою в рог,
Понять пространства внутренний избыток
И лепестка и купола залог
Творение
начинается в камне, когда в него проникает зрение. В
_________
8 Рильке приводит характерное
суждение Матильды Фолльмеллер о картине Сезанна '"Вот здесь", -
сказала она, показывая на одно место, - "вот
это он знал, и об этом может сказать (указывая точку на яблоке)"'
(Рильке 1971: 226). Эта особая точка отмечена особым знанием, знанием по ту
сторону чистого зрения, знанием соприкосновения Здесь происходит перетекание
зрительного опыта в тактильный, и потому точка эта
оказывается на сфере, на кривой, на пространстве деформации.
127
камне
формируется лабиринт - то есть уже временная, эволюционная структура (дорога,
свернутая в рог). В результате в пространство вводится деформация, зрение
растягивает дугой пространство, существующее по законам статики. Камень
становится подобен эмбриону и начинает разворачивать себя какими-то извитыми
плоскостями, расправляя потенциально заключенный в нем (возможность падения)
избыток пространства. Не случайно одним из вариантов названия 'Камня' было -
'Раковина'.
Это
большое отступление позволяет понять внутренние мотивировки пространственных
искажений у Сокурова. Смерть-рождение (ср. эмбрион, зачаток) связаны с
трансформацией зрения в данном случае именно в кодах мандельштамовской
диаграмматической поэтики. Изображение растягивается по вертикали, как будто
его производит не камера-обскура киноаппарата (или мертвой архитектуры), а
именно падение, падение камня вниз (ср. с деформацией видения у 'падающего'
героя 'Случая на мосту через Совиный ручей' Бирса.
См. об этом во Введении). Искажение пространства строится в фильме таким
образом, чтобы вертикали растянулись, но горизонталь
осталась по существу нетронутой (это отличает
геометрию сокуровского пространства от классических анаморфотных искажений,
воздействующих также и на горизонталь).
В
результате новое видение не подчиняется кодам линейной перспективы и резко
усиливает ощущение плоскостности кадра.
Это ощущение связано с эффектом пространства, создаваемого падением,
прочерчиванием плоскости сверху вниз. Плоскостность
изображения подчеркивается и специальной обработкой пленки. Изображение
выполнено так, чтобы создавать иллюзию какой-то тонкой мембраны, отделяющей нас
от мира повествования. Эта мембрана видима буквально, на ней лежит мелкая сыпь
пятен и прочерков. Пространство кадра как будто прилипает к этой физически
ощутимой поверхности, распластывается на ней.
3
Уплощающая
мембрана имеет особый статус. Изображение как будто существует на какой-то
старой пленке, с которой смыли образы, ее некогда покрывавшие и оставившие на
ней свои едва различимые следы. Новое, рождающееся видение мира реализует себя
поэтому в формах памяти. Изображение в 'Камне' похоже на палимпсест.
Это
противоречивое свойство изображения отсылает нас к едва ли не главной теме
фильма - теме возращения, повторения.
Эта тема вписана в поведение Чехова. Его сладострастное ощупывание знакомых предметов,
опьянение от вновь ощущаемых запахов дают
128
нам
пережить открытие нового именно как возвращение к старому, как что-то
фундаментально связанное с памятью о минувшем, но одновременно и как глубоко
тактильный опыт.
Конечно,
тема возвращения и смерти - едва ли
не центральная в творчестве Сокурова. Она была уже в полную силу заявлена в его
первом игровом фильме- 'Одиноком голосе человека' (см. Ямпольский 1990),
построенном по принципу циклических повторов-возвращений. В документальной
ленте 'Мария' сам Сокуров приезжает на место старых съемок после смерти
героини, строя фильм именно как циклическую фугу возвращения. В 'Скорбном
бесчувствии' эта тема связывается с мотивом буддистского метемпсихоза. В 'Круге
втором' Сокуров разрабатывает тему вечного возвращения (см. Ямпольский 1991),
но, пожалуй, нигде еще эта ницшевская тема не имела такого значения, как в
'Камне'.
Тема
обретения идентичности через установление сходства с собой и с не-собой (образом, идеей себя - фотографией)
принципиальна для фильма. Возвращение героя поэтому систематически трактуется
как возвращение к себе, повтор себя самого, как, в конечном счете, удвоение
себя прошлого.
Один
из лучших эпизодов фильма- тот, где Чехов надевает белье, рубашку, десятилетия
пролежавшие в музейном комоде. Режиссер с поразительным мастерством передает то
чувственное наслаждение, которое испытывает его герой, 'влезая' в свою старую кожу9. Эпизод этот может интерпретироваться как
окончательное обретение тела, поскольку одежда есть прямое продолжение нашей телесности.
Чехов проникает как бы в свою старую кожу, которую он натягивает на себя как
перчатку. Но это также и сцена повторения: возврат к жизни показан здесь как
физическое повторение старых, автоматизированных жестов.
Можно
представить себе эту сцену и иначе, почти в кодах разобранного выше (глава 2)
эпизода из 'Записок Мальте Лауридса Бригге' Рильке.
Там речь шла о преследовании повествователем некоего 'субъекта', с которым
постепенно устанавливались отношения почти полной идентичности и мимикрии Здесь,
у Сокурова, старое, покинутое тело Чехова похоже на идущего впереди субъекта, к
которому сзади пристраивается Чехов, пытается сымитировать его жесты, влезть в
его кожу. Он оказывается по существу в лабиринте своей/чужой памяти, по извивам
которого он должен пройти, чтобы окончательно срастись с собой, чтобы
преодолеть раздвоенность себя прошлого и себя будущего.
Весь
эпизод строится на смаковании старых кож - хрустящем
________
9 Сцена одевания в 'Камне', конечно,
соотносится со сценой одевания в 'Круге втором', где сын беспомощно и долго
одевает труп своего отца Соответствующий эпизод из 'Камня' - своего рода
повтор, смысл которого заключен как раз в принципиальном различии интонаций
129
изломе
крахмального пластрона. Одежда, которой манипулирует Чехов, здесь очень похожа
на некий фетиш. Под фетишем я имею в виду объект, который, будучи средством для
достижения цели, неожиданно сам превращается в объект желания, наделяется
способностью удовлетворять его (см. Питц 1993: 147). Одежда как предмет в этом
эпизоде выходит за рамки чистой функциональности, она становится носителем
своего рода эксцесса, излишества, связанного с проецируемым на нее желанием.
Но
и жесты Чехова в этом эпизоде, хотя они и ищут старой, полузабытой
жестикуляционной схемы, а может быть именно потому, что они эту схему ищут, избыточны, нефункциональны. Пол
Уиллемен заметил, что особенно острые моменты наслаждения кино доставляет
тогда, когда в игре актеров обнаруживается некая избыточность:
'Это
момент удвоения, рефлекса, как сказали бы фотографы, или двойного голоса, как
сказал бы Бахтин. Брандо возникает из-за своего персонажа и делает нечто, что
входит в роль, но что персонажу вовсе не обязательно делать. Это действие не
закодировано, не запрограммировано для персонажа; в итоге возникает момент
колебания' (Уиллемен 1994: 239-240).
Уиллемен
и связывает эту избыточность удвоения с фетишем, как всякий момент колебания -
например, расхождение в привычной схеме жестикуляции и мимизма у персонажа и
актера, который как будто нарушает принятые коды, выглядывая из-за маски сам.
Эта избыточность отчасти похожа на сверхрастянутую кожу лица-перчатки, на
сверхрастянутое зрение, производящее избыточность деформаций.
Избыточность жеста связана с тем, что он не может с полной экономией
вписаться в привычное место. И связано это не только с дезавтоматизацией жеста,
его частичным забвением, но и с трансформацией места. Эдвард Кейси заметил, что отсутствие неизбежно трансформирует не
только отсутствующего, но и место, которое он покинул (Кейси 1993 274). Изменившееся
место в таком контексте выступает как зеркало трансформаций, которым
подверглось тело отсутствующего.
За
одеванием следует сцена ужина, и здесь повторение не удается. Ночной сторож
захватил с собой обычный 'советский' бутерброд с колбасой и не в состоянии
предложить ночному посетителю ничего более существенного Чехов не может
'повторить' той еды, к которой привык, - зато этот нищенский бутерброд и
отвратительное вино (Чехов называет его чернилами), забытое в буфете,
пробуждают его воспоминания. Он вдруг с неподдельным сладострастием начинает
перечислять блюда, которые ему приходилось отведывать в прошлом, вызывая в
своем сознании те ароматы и вкусовые ощущения, которых уже не приносит ему
изменившаяся реальность.
130
Это
эпизод воспоминания. Он также строится вокруг фетиша- вкусового ощущения
- этой надбавки к еде, этой области неопределенности par excellence. Но
движение здесь как будто обращено в иную сторону, чем в предыдущем эпизоде.
Если раньше преследователь как бы пытался проникнуть в
слишком свободную для него оболочку
'идущего впереди' двойника, то здесь герой оборачивается назад и пытается
увидеть собственную, далеко отставшую от него тень.
Первый
эпизод относится к области повторения, второй - воспоминания. Разделяя
повторение и воспоминание, я следую Кьеркегору, который писал:
'Повторение и воспоминание
- это одно и то же движение, но направленное
в противоположные стороны; то, что вспоминается, было в прошлом, оно
повторено в сторону прошлого, в то время как повторение в собственном смысле -
это воспоминание, направленное вперед' (Кьеркегор 1964: 33).
Согласно Кьеркегору, жизнь и есть
повторение. Она одевает наш
предшествующий опыт в новые и вполне реальные одежды бытия. Воспоминание же
целиком обращено к прошлому, а потому не
продуктивно:
'Воспоминание
имеет большое преимущество, так как начинается с потери: вот почему оно не
подвержено опасностям - ему ведь уже нечего терять' (Кьеркегор 1964:39).
Чрезвычайно
показательно, что Сокуров выбирает для воспоминаний именно вкусовые ощущения.
Фрейд в одной из ранних работ, посвященных проблемам памяти, останавливается на
детских воспоминаниях своего пациента, в числе прочего сосредоточенных на
исключительно остром, как пишет Фрейд, почти 'галлюцинаторном' переживании
вкуса сельского хлеба. Фрейд указывает на особую роль воспоминаний, связанных с
'двумя наиболее мощными мотивирующими силами- голодом и любовью' (Фрейд 1963:243).
Однако
в контексте эссе, рассматривающего функции так называемых 'заслоняющих
воспоминаний' (Deckerinnerungen), Фрейда
интересует не столько этот аспект, сколько тот факт, что все воспоминания детства деформированы.
'Наши
детские воспоминания показывают нам наши ранние годы не такими, какими они
были, но так, как они возникли в последующие периоды жизни, когда эти
воспоминания ожили. Воспоминания детства
не всплывают, как люди привыкли
считать, в эти периоды; они формируются
в это самое время' (Фрейд 1963: 249-250). Фрейд устанавливает и момент
формирования воспоминаний о хлебе у своего пациента. Они возникли в возрасте
семнадцати лет,
131
когда
тот впервые вернулся в места, где
прошло его детство, покинутые им в три года.
В
данном случае меня интересуют не столько разобранные Фрейдом причины
формирования специфического воспоминания, сколько сам факт связи их
формирования с возвращением. Формируя воспоминания, возвращение деформирует
прошлое, создавая его по образу настоящего. Но сам процесс этого формирования,
по существу, связан с невозможностью воплотить его в повторении. Парадоксальным
образом физический повтор (возвращение в те самые места, где прошло детство)
формирует образы, делающие повтор невозможным. Именно попытка повторения
создает воспоминания - то есть проекцию настоящего в прошлое, удаление
настоящего из области актуального бытия. Существенно, что воспоминание облекается
в слова, которые никогда не могут адекватно восстановить минувшее, употребление
которых обезличивает и дистанцирует минувшее.
Принципиально
иначе строятся сцены осуществленного повторения, центральная среди которых, как
было сказано, - сцена одевания. Сюда же можно отнести и великолепный эпизод,
где Чехов пробует старое пианино. В отличие
от воспоминаний, имеющих галлюцинаторно-словесный характер, эпизоды повтора
немы и построены на воспроизведении
жестов. Сокуров специально подчеркивает инфантильную сущность Чехова, его
словно бы постепенное взросление10 в
доме, куда он вернулся. Тем самым он обнаруживает связь вновь открываемых,
повторяемых жестов с первичным опытом
Бытия, предшествующим слову. В сцене, где Чехов, стоя на коленях перед
пианино, осторожно пробует клавиши, он не только воспроизводит некогда
привычные жесты, но буквально имитирует детские уроки музыки. Повторение
переживается как 'первый раз', более того - острее, чем в первый раз. Именно в
нем достигается переживание бытия. Очевидно, что в этих сценах Чехов (или его
призрак?) гораздо живее вялого ночного сторожа (чья физическая 'подлинность'
как будто не вызывает сомнений).
Жест на инфантильной стадии тесно связан
с процессом узнавания. Жан Пиаже
замечает:
'...Субъект
узнает свою собственную реакцию до того, как узнает объект как таковой. Если
объект нов и препятствует действию, узнавания не происходит; если объект
слишком хорошо знаком или постоянно присутствует, автоматизм привычки подавляет
всякую возможность сознательного узнавания; но если объект сопротивляется
______________
10 В первой половине фильма Чехов
часто показывается на коленях, на карачках. Он представляется не только как
ребенок, но и как животное. Его распрямление в каком-то смысле воспроизводит
'филогенез' - эволюцию от некоего бестиального состояния к человеческому.
132
действиям,
закрепленным в сенсоримоторной схеме, настолько, чтобы создать кратковременную
дезадаптацию, быстро сменяющуюся успешной адаптацией, тогда его усвоение
сопровождается узнаванием' (Пиаже 1971:4).
Дезавтоматизация жеста, дезадаптация вводят в тело человека то чувство различия, которое необходимо для
узнавания. Узнавание может строиться только через интериоризацию различия.
Хайдеггер
отмечал драматическую тенденцию в
эволюции человека, определенную им как забвение Бытия. Как замечает
комментатор Хайдеггера Д. М. Левайн, 'подлинное
воспоминание- это не 'повторение' в том смысле, в каком оно стремится
повторить опыт прошлого, рабски копируя исторический прецедент, это скорее
'повторение' иного типа - особым образом и при остром сознании своего
собственного времени оно готовит нас к тому, чтобы мы пережили первичный
опыт Бытия...' (Левайн 1985: 77)
Это
доличное чувство Бытия, этот первичный опыт заключен в нашей телесности. Наши
жесты в какой-то мере всегда являются повторением уже осуществленных жестов, но
вместе с тем тело, производя их, не только восстанавливает прошлый опыт, но
смешивает его с опытом актуальной реальности. Жест, движение тела
восстанавливают эту вытесненную память Бытия. Но восстанавливают именно в
терминах различия. Ведь примесь актуального всегда делает повторение прошлого
отчасти мнимым.
Память
позволяет человеку сохранять свою былую идентичность, отличную от его нынешнего
состояния, дает возможность парадоксально сочетать в себе себя прошлого и
настоящего, себя несуществующего и живущего, она задает человеческое 'Я' как
область фундаментального различия. Именно в силу этого Гегель определял
человеческую сущность как 'историчность'. Александр Кожев так формулировал
гегелевское понимание историчности:
'С
помощью воспоминания (Er-innerung) Человек "интериоризирует" свое
прошлое, делая его воистину своим, сохраняя его в себе и включая его в свое
нынешнее существование, одновременно являющееся радикальным, активным и
эффективным отрицанием этого сохраненного прошлого' (Кожев
1968: 504).
Поэтому
жест, с наибольшей полнотой восстанавливающий связь с собой прошлым, все же
несет в себе и черты радикального различия - он активно отрицает прошлое (в
силу своей актуальности), одновременно его проигрывая.
Повторение минувшего опыта в жесте особенно характерно для ребенка. Жест на инфантильной
стадии развития как будто уничтожает память (дети - существа, почти лишенные
памяти), произво-
133
дит
забвение. Теодор Райк заметил - бессмертно лишь то, что не всплыло в
воспоминании, 'прошлое не может увянуть, покуда оно вновь не стало настоящим.
Только то, что стало воспоминанием, подвергается процессу истощения,
характерному для всей органической жизни. Воспоминание - это лучший путь к
забыванию' (Райк 1972: 342).
Вот
еще одна причина, по которой жест отрицает прошлое. Гёльдерлин написал
стихотворение 'Возвращение домой', в котором описывает поэзию как опыт
возвращения к истокам, к себе 'домой'. Но ощущение дома может переживаться
только тем, кто долго в нем не был, только тем, кто в него возвращается. У
остававшихся дома это ощущение стерто, и лишь возврат позволяет создать чувство
первичного опыта. Поэзия, как любой подлинный опыт переживания Бытия, также не
может быть непосредственно соотнесена с первоопытом. Первоопыт дается нам
через возвращение.
Гёльдерлин так описывает первое столкновение с домом:
Там
повстречают меня - голос родины, матери голос! Звук пронзивший меня, и
стародавнее вновь Мне воротивший!
(Гёльдерлин 1969: 142, пер Г. Ратгауза)
Странным
образом возвращение к первоголосу
вовсе не означает у Гёльдерлина вновь обретенной речи. Наоборот, поэт как бы постепенно утрачивает всякую
речь вообще. Сначала он заявляет:
'Речь
несвязна моя', затем появляется тема молчания:
Часто
должны мы молчать, имен не зная священных, Скрытый трепет сердец может ли
выразить речь?
(Гёльдерлин 1969: 143)
Повторение,
таким образом, оказывается отнюдь не повтором. Хорошим комментарием к
гёльдерлиновской игре звучащего материнского слова и молчания может быть
разъяснение Фридриха Киттлера:
'Дискурс, который
производит мать в дискурсивной сети 1800 года, но не может его произнести,
называется Поэзией. Мать Природа молчит так, чтобы за нее и о ней могли
говорить другие. Она существует в единственном числе за множественностью
дискурсов. <...> Материнский дар - это нарождающаяся речь, чистое дыхание
как высшая ценность, из которой развивается артикулированная речь других'
(Киттлер 1990: 26-27). Таким образом, голос матери или родины - это звук,
являющийся потенцией речи (о сверхкоммуникации - с демонами, анге-
134
лами,
- которая блокирует речь, см. главу 5). В
этом смысле возвращение домой означает отказ от слова, его редукцию,
возвращение в сферу потенции как первоопыта, 'пронзившего меня'. Чехов у Сокурова
говорит мало, он погружен в восприятие и внутреннее переживание некой потенции
речи как истинного, 'материнского' первоопыта.
Подчеркнутое
значение жеста в противоположность слову (пронзительный первозвук- это тоже
скорее акустический жест) вновь возвращает нас к проблематике камня. Падение
камня также может быть понято как своеобразный основополагающий жест, который
фиксирован в застывшем и вечном падении готических сводов. Готический собор
словно постоянно воспроизводит первожест, он- как бы непрестанное повторение
собственного порождения. Ришард Пшибыльский так формулирует значение камня и
слова у Мандельштама:
'Материал
архитектора - камень - и материал поэта- слово- являются <...> символами Вечного Теперь11; дело в том, что в здании, как и в языке,
выражена идея победы над временем' (Пшибыльский 1987:105). Но победа эта совсем
иного рода, чем у могильного камня или колоссоса, вообще отрицающих идею
времени. Не случайно, конечно, у Мандельштама Нотр-Дам уподобляется Адаму.
Здание как бы закрепляет в себе первотворение как некую потенцию языка, поэзии.
Показательно, что Мандельштам вводит в свое описание собора образы
проступающего тайного плана и лабиринта
('Но выдает себя снаружи тайный план!', 'Стихийный лабиринт, непостижимый
лес...'), как образы динамические и
диаграмматические по существу.
В
'Феноменологии восприятия' Морис Мерло-Понти помещает выразительный пассаж,
посвященный камню:
'...Камень
этот - белый, твердый, теплый, мир как будто кристаллизуется в нем, кажется,
что для своего существования он не нуждается во времени, что он полностью
разворачивается в мгновении, что всякая прибавка существования будет для него
новым рождением, и в какой-то момент возникает искушение поверить, что мир,
если он чем-то является, должен быть совокупностью вещей, похожих на этот
камень, а время - совокупностью совершенных моментов' (Мерло-Понти 1945: 383).
Однако вечное настоящее, настоящее, лишенное будущего,- это и есть определение
смерти,
_________
11 Ср. с определением Заратустры как
камня мудрости, духа тяжести, который парит, застыл в воздухе, но должен
упасть: 'О, Заратустра, ты камень мудрости, ты камень, пущенный пращою, ты
сокрушитель звезд! Как высоко вознесся ты - но каждый брошенный камень
должен-упасть!' (Ницше 1990: 111)
135
'живое настоящее разрывается между прошедшим, которое оно
подхватывает, и будущим, которое оно проектирует' (Мерло-Понти 1945: 384).
Камень потому и становится могильным
камнем, что идеально выражает идею вечного настоящего - смерти. 'Живое
настоящее' (по выражению Мерло-Понти) возможно, только если камень преодолевает свою замкнутость в мгновении, только если в
его существование введено различие между настоящим, прошлым и будущим - то есть если камню приписывается жест.
Возвращение и повторение всегда
основываются на различии, на
невозможности повторить буквально. Время вписывает это различие в повторение
как деформацию - деформацию жеста, деформацию линии, деформацию зрения. Чтобы увидеть 'впервые', то есть повторить первоопыт зрения, телам
придается сфероидность, они искажаются. Происходит то, что можно назвать 'диаграмматизацией' тел, вписыванием в
них диаграмм. В этом смысле готический собор может прочитываться как 'диаграмматизированный' камень. Но,
пожалуй, наиболее интересен случай 'диаграмматизации'
человеческого тела и лица.
4
Я
хотел бы вернуться к вопросу обретения Чеховым его внешности, как бы
постепенного нахождения им самого себя. Чехов возвращается в свой дом иным, чем
его покинул, и лишь постепенно обретает свой прежний облик. Изменения в его
внешности нельзя в данном случае приписать просто старению. Он приходит в свой
дом нисколько не старше, чем он был тогда, когда навсегда его покинул.
Трансформация внешности в данном случае определяется не столько течением
времени, сколько, наоборот, его остановкой - явлением столь невообразимым, что
след его может быть представлен только в
виде диаграммы - Деформации лица.
Диаграмма возникает в данном случае и как знак повторения, возвращения в состояние 'до
внешности', возвращения в дом как мир
потенциальностей. Исчезновение Чехова, его смерть в таком контексте
представляется не чем иным, как отлучением от себя самого, странным деформирующим дистанцированием.
Жиль
Делёз заметил12, что циклические
конструкции (особенно в трагическом варианте) связаны с моментом метаморфозы героя.
И момент этот отмечается цезурой, которая часто принимает форму путешествия, в
том числе путешествия через море. Метаморфоза-цезура-путешествие оказываются
принципиальными момента-
__________
12 Делёз ссылается на наблюдение
Гарольда Розенберга (Harold Rosenberg).
136
ми
в историях Эдипа или Гамлета
(Делёз 1968: 123-124). Любопытно, что и возвращение домой Гёльдерлина связано с
переездом через озеро, да и
Заратустра открывает закон вечного возвращения после плавания по морю. В 'Камне' путешествие через море заменено (хотя
море и присутствует в фильме) еще более драматическим путешествием-цезурой - смертью. Возвращение несет в себе
важный элемент трансформации, в случае с сокуровским Чеховым- буквально
телесной. Путешествие подобно временному и пространственному разрыву. Оно
буквально отделяет человека от того его образа, который мистически связан с
местом его прошлой жизни. Сколько историй (подлинных - Мартен Герр [Дэвис
1990], и мнимых - Энох Арден) построено на неузнавании вернувшегося, на его
несовпадении с образом прошлого.
Возвращение
завершается, обретает полный смысл в той мере, в какой Чехову удается вернуться
в себя самого, преодолеть эту метаморфозу цезуры. Существенно, однако, что он
возвращается к тому облику, который зафиксирован на самых расхожих его
фотографиях и давно растиражирован. Собственно, он вновь обретает
хрестоматийный образ великого писателя, чеховское imago, так сказать. Гарольд
Розенберг заметил, что действующие лица истории могут творить лишь в той мере,
в какой они идентифицируются с фигурами прошлого (отчасти это верно и для
литератора). В этом смысле история - это театр, в котором герои современности играют роли героев прошлого (Делёз 1968:123).
Возвращение
Чехова - человека, тесно связанного с театром, - также приобретает подчеркнуто
театральные черты. Чехов примеряет перед зеркалом свои старые шляпы и одежду
так, как будто готовится выйти на подмостки в образе Чехова. Сокуров заставляет
своего героя вести себя так, как если бы он находился в театральной гримерной.
Возвращение к самому себе приобретает совершенно отчетливые черты идентификации
с собой как с персонажем. Чехов
словно бы разыгрывает себя, вписанного в иной текст, сочиненного анонимным
автором иной культуры. Чехов приближается к своей новой метаморфозе - собственно,
не к себе самому, а к образу себя, увиденному другими.
Эта
раздвоенность бытия и воспоминания очень существенна для понимания смысла
сокуровского фильма и той игры, которую нам предлагает режиссер, игры, по
существу, выходящей далеко за рамки проблематики 'Камня'.
Первоначально
Чехов возвращается в состояние, которое я назвал 'до внешности'. Это
состояние фундаментального различия, в котором мы не
обнаруживаем никакого сходства. Это состояние можно определить и как
состояние чистой потенциальности по ту сторону зрения. Эмманюэль Левинас
утверждает, что лицо как чистое различие вообще не может быть увидено, что оно
трансцендиру-
137
ет
видимое и функционирует в сфере этики и чистого присутствия, настоятельно
требующего от меня морального ответа: 'Предъявление лица ставит меня в
отношение к бытию' (Левинас 1990: 233). Даже если принять во внимание
радикализм утверждения Левинаса13, мы
все же можем признать связь неоформленного 'протолица' Чехова с первичным опытом бытия. Сущность проступает в
таком лице лишь в той мере, в какой его как бы не существует. Джозеф Лео Корнер
даже говорит об 'отрицании лица' в
наиболее психологически совершенных портретах Рембрандта (Корнер 1986). Это
отсутствие лица сближает библейских персонажей Рембрандта с монстрами, чьи черты
лица не поддаются описанию, с Минотавром, подстерегающим Тесея в темном
лабиринте метаморфоз.
Поэтому
обретение Чеховым знакомой зрителю внешности, его самоотчуждение в себе как в
другом отчасти равнозначно потере Лица.
Любопытно, что финальная черточка, окончательно устанавливающая идентичность
Чехова, - знаменитое пенсне. Пенсне подчеркивает значение глаз как наиболее
неуловимого физиогномического элемента, действительно отсылающего к области
левинасовского чистого присутствия. Вместе
с тем пенсне берет глаза в рамку, изолирует их на лице и таким образом вносит в
систему тотального различия момент сходства. Психологические исследования
показали, что идентификация лиц чаще всего радикально нарушается, если глаза на
лице скрыты маской (Брайен-Балл 1978: 80). В случае же с Чеховым его лицо
идентифицируется как чеховское только в момент исключения из него (изоляции)
элементов, непосредственно связывающих лицо с присутствием, бытием.
Установление сходства в таком контексте всегда связано с ощущением дистанцированной
'чужести' лица, с раздвоением лица на
свое (чистое различие) и чужое (сходство).
Происходит
нечто подобное тому, что Фрейд заметил по поводу детских воспоминаний:
'В
большинстве значимых и в остальном не вызывающих сомнения детских сцен субъект
в воспоминаниях видит самого себя как ребенка и при этом знает, что этот
ребенок ~ он сам; он видит этого ребенка так, как бы увидел его наблюдатель со
стороны. <... > Очевидно, что такая картина не может быть точным
повторением исходного впечатления. Ведь субъект находился тогда внутри
ситуации, и внимание его было обращено не на него самого, а на внешний мир'
(Фрейд 1963: 248). По-видимому, сходную, хотя и инвертированную структуру
воспоминаний представлял Кьеркегор, который описывал 'несчастное сознание' как
такое сознание, которое не обнаруживает себя в прошлом ('...он постоянно
отсутствует в себе в прошлом...' [Кьеркегор
__________
13 Обсуждение этой точки зрения
Левинаса дано в работе: Дэвис 1993.
138
1971а:
221]). Кьеркегор предлагает вообразить человека, который 'не имел детства', но
по прошествии времени неожиданно обнаружил красоту, прелесть детства, - он
хочет его вспомнить, устремляет взгляд в свое прошлое и не видит там ничего
(Кьеркегор 1971а:222) 14.
Когда
в процессе психоанализа, пишет Фрейд, врач пытается восстановить воспоминания
детства пациента, механизм вытеснения заменяет
воспоминания повторением, актуальным разыгрыванием
прошлого, по существу некой постановкой театральной пьесы, в которой врачу
отводится роль персонажа-симулякра. Это явление Фрейд определил как трансфер. В ситуации трансфера врач
ведет 'постоянную борьбу с пациентом, ради того чтобы удержать в рамках его
психики все те импульсы, которые тот хочет преобразить в действие, и, если
возможно, превратить в работу вспоминания любой импульс, который пациент хочет
разрядить в действии' (Фрейд 1963а: 163). Однако это неудержимое желание
повторить, вытесняющее собой воспоминание, является все же не чем иным, как
странным полуигровым образованием, промежуточным состоянием между миром болезни
(или травматических и вытесненных воспоминаний) и реальности. Отметим, однако,
и то, что сами по себе воспоминания также имеют черты своеобразного театра, в
котором вспоминающий выступает и в качестве персонажа, и в качестве зрителя.
Игра
повторений и воспоминаний представляется поэтому более чем парадоксальной. Если воспоминание - это нечто первичное, если оно является источником повторения, то
в каком-то смысле оно более реально, более подлинно, чем восстанавливающая его
игра симулякров. Вместе с тем повторение обладает видимостью реальности, оно
производится сейчас и здесь. Повторение,
как я уже говорил, вообще является чем-то более
подлинным, чем воспоминание, потому что только в нем первичное
восстанавливается с той полнотой, которой оно не имело в реальности.
Вместе
с тем повтор, как явствует из опыта трансфера, может быть лишь симуляцией,
маскирующей воспоминание. Вальтер Беньямин, например, считал, что механизированная повторность
современного труда рассекает поток времени, изолирует его фрагменты и гасит
память. Повтор в такой перспективе оказывается действительно проявлением
ложного, предельно фальшивого бытия (см. Бак-Морсс
1992:17).
Дело,
однако, усложняется тем, что повторение может быть именно имитацией 'чужой'
памяти, памяти того странного, фиктивного стороннего наблюдателя, в которого
превращается субъект. Метаморфоза Чехова, постепенно превращающегося в его
собственную расхожую фотографию, как раз и обнаруживает повторение
________
14 См. комментарий по этому поводу:
Беньямин 1989: 356.
139
внешней,
чужой памяти. Важно также и то, что действие фильма происходит не просто в доме
Чехова, но в музее Чехова. Дом, превращаясь в музей, как бы преобразует обитель
памяти его обитателя в место памяти для других. Сокуров однажды (только
однажды, но этот кадр полон глубокого значения) показывает нам хрестоматийную
фотографию Чехова, висящую на стене. Эта фотография куда естественней для
музея, чем для подлинного жилища. Возвращение Чехова как бы происходит в
пространстве его памяти, но преображенной в пространство чужой памяти о нем,
где сам он фигурирует как 'ребенок со стороны' - персонаж фрейдовского анализа.
'Место'
памяти органически принимает форму дома. Рассказ Генри Джеймса, пронизанный
отчетливым автобиографическим подтекстом, 'Веселый уголок' (The Jolly Corner,
1909), демонстрирует, каким образом старый дом, 'место' памяти действует как
удваивающая и искажающая машина. Речь идет о неком Спенсере Брайдоне, уехавшем
из Нью-Йорка, когда ему было 23 года, и спустя 23 года вернувшемся назад в свой
дом. Брайдон поддается 'соблазну еще раз повидать свой старый дом на углу, этот
"веселый уголок", как он обычно и очень ласково его называл, - дом,
где он впервые увидел свет, где жили и умерли многие члены его семьи...'
(Джеймс 1974: 392, пер. О. Холмской).
Дом оказывается совсем чужим и пустым. Но царящая в нем 'абсолютная пустота' начинает гипнотизировать Брайдона, который читает само пространство дома как некую конфигурацию памяти, хранящую в себе прошлое:
'Да
и правда, собственно, нечего было видеть в этой огромной мрачной раковине дома,
и однако самое расположение комнат и соразмерное тому распределение
пространства, весь этот стиль, говоривший о другой эпохе, когда люди более
щедро отмеряли себе место для жизни, все это для хозяина было как бы голосом
дома...' (Джеймс 1974:397).
Брайдон
постепенно осваивает дом, стараясь обнаружить вписанное в него прошлое. Он
отмечает одушевленную необычность эхо,
вживается в звуки шагов, как будто определяемые формой комнат. В конце концов
им овладевает желание вызвать призрак, живущий в доме, но не просто призрак
одного из своих предков, а собственного двойника, некое астральное тело,
которое должно было сохраниться в этом месте и жить, старея и изменяясь вместе
с ним, в то время как сам Брайдон был вдали. Двойник должен возникнуть из самой
конфигурации места. Приятельница Брайдона Алиса Ставертон как будто разделяет
странную манию Брайдона. Призрак
буквально уплотняется из формы 'места':
'Даже
в ту минуту, когда она глядела вдаль, в ту прекрасную большую комнату, она,
может быть, представля-
140
ла
себе, как там что-то густело и
уплотнялось. Упрощенное, как посмертная маска, снятая с красивого лица, оно
производило на мисс Ставертон странное впечатление - как если бы на этом
гипсовом слепке, в навеки неподвижных чертах, шевельнулось вдруг какое-то выражение' (Джеймс
1974:400).
Двойник возникает именно как гипсовый слепок с
пространства, маска с места. Его выражение- это просто негатив физиономии дома,
той 'абстрактной машины лицеобразования', которая заключена в каждом строении.
Джеймс описывает дом как вогнутую чашу, как деформирующее вогнутое зеркало,
концентрирующее в себе память (см. о связи вогнутого зеркала, чаши и маски в главе 6):
'...Он
<...> отдавался ощущению дома как огромной хрустальной чаши - огромного
вогнутого кристалла, который полнится тихим гулом, если провести мокрым пальцем
по его краю. В этом вогнутом кристалле был, так сказать, заключен весь тот
мистический другой мир, и для настороженного слуха Брайдона тончайший гул его краев
был вздохом, пришедшим оттуда, едва слышным горестным плачем отринутых,
несбывшихся возможностей' (Джеймс 1974: 407).
Заклинание
двойника в рассказе Джеймса целиком зависит от освоения пространства дома.
Брайдон учится ориентироваться в нем без света, бесконечно измеряя его шагами,
интериоризируя его нескончаемым кружением по его лабиринтам. И это понятно.
Если дом строится как некий оптический прибор, как машина заклинания духов, как
вогнутая чаша, как сложная пространственная конфигурация, то привести его в
действие можно, только найдя единственно точный маршрут в этом изощренном
'чужом' пространстве, только войдя в колею, проложенную в нем прошлым. Джеймс
придает необыкновенно большое значение расположению дверей, окон и лестниц в
доме, звукам и освещению.
Брайдон
ощущает, что двойника ему легче застигнуть в задних комнатах:
'...Помещения
в тылу дома манили его к себе, как те самые джунгли, в которых укрывалась
намеченная жертва. Здесь подразделения были гораздо мельче; в частности,
большая пристройка, вмещавшая в себя множество маленьких комнат для слуг,
изобиловала сверх того углами и закоулками, чуланами и переходами...' (Джеймс
1974:410).
Эти уплотнения пространства действуют как генератор некоего призрака прошлого, потому что они почти 'облегают' лабиринтом тело идущего, вписывают его в себя с большей энергией. Тесный проход - это первичный проход всякого тела - призрак первого че-
141
ловеческого
жилища - материнского тела. Фрейд заметил по поводу тревожного чувства,
вызываемого у мужчин видом женских гениталий:
'Это
unheimlich место тем не менее
является входом в бывший heim [дом]
всех человеческих существ, в то место, где всякий когда-то, в начале пребывал'
(Фрейд 1963б:51).
Проход
по комнатам к тому же может быть соотнесен с архаическими представлениями об
анатомии мозга. Согласно разработанным еще Галеном представлениям, в мозге
существуют три камеры, в первой из которых локализована фантазия, во второй -
воображение, а в третьей - память. Фантазия, по мнению Авиценны, например,
чисто пассивна, воображение может само производить образы, но не может их
сохранять. Чтобы образы сохранились, они должны быть переданы в самую
последнюю, 'дальнюю' камеру мозга, комнату памяти. Воспоминание, таким образом,
оказывается локализованным в конце этого воображаемого маршрута по 'комнатам'
мозга (см. Агамбен 1993: 78-79).
Брат
Генри Джеймса, знаменитый психолог Уильям Джемс писал о путях [paths] памяти в
мозге, по которым должны пройти образы. Пути эти буквально проложены в мозговых
тканях подобно коридорам. Воспоминание поэтому отчасти представляется
'телесным' процессом психофизического 'движения' (Джемс
1969:298-299). При этом Джеме замечает, что 'пути', прокладываемые самим
событием, отличаются от путей, создаваемых воспоминанием. Чистое воспоминание о
событии будет, по мнению Джемса, не отличимо от актуального события.
Воспоминание отличается от него тем, что оно всплывает в связке с неким местом,
которое отлично от места нахождения вспоминающего субъекта. Несовпадение мест и
делает возможным различение воспоминания от актуального опыта:
'Например,
я вхожу в комнату друга и вижу на стене картину. Сначала у меня странное,
блуждающее сознание, "Несомненно я видел ее раньше", - но где и
когда, остается неясным. К живописи лишь пристало облако знакоместо - и вдруг я
восклицаю: "Я вспомнил. Это копия части одной из картин Фра Анжелико во
Флорентийской Академии- я ее помню там". Только когда возникает образ
Академии, картина оказывается вспомненной, а не только увиденной' (Джемc 1969: 299).
Воспоминание,
таким образом, вписано в некие 'пути', проложенные в определенном пространстве.
Воспоминание зависит от несовпадения пространств. Совпадение же пространств
приводит к смешению воспоминания и актуального опыта. Согласно Джемсу,
достаточно поместить себя внутрь Флорентийской Академии напро-
142
тив
картины Фра Анжелико, чтобы воспоминание о ней стало неотличимо от настоящего
его созерцания. По такому рецепту и действует Брайдон в 'Веселом уголке'.
Наконец
встреча происходит. Она целиком задается именно конфигурацией дома. Брайдон
отправляется в верхнюю анфиладу комнат, которая, по его мнению, является
идеальным пространством встречи с 'демоном'. Анфилада эта состоит из четырех
комнат, три из которых связаны друг с другом и с коридором, а четвертая
представляет собой тупик. Брайдон придает большое значение открытости 'лабиринтного пространства' этих верхних комнат. Однако
чья-то воля вносит в его план неожиданную поправку. Дверь последней, тупиковой
комнаты оказывается закрытой:
'...Это
было бы, можно сказать, против всей его системы, сутью которой было сохранить
свободными все далекие перспективы, какие имелись в доме. Брайдону с самого
начала мерещилась одна и та же картина (он сам это прекрасно сознавал): в
дальнем конце одной из этих длинных прямых дорожек странное появление его
сбитой с толку жертвы <...>. Самый дом весьма благоприятствовал именно
таким представлениям; Брайдон мог только дивиться вкусу и архитектурной моде
того давнего времени, столь пристрастной к умножению дверей и в этом прямо
противоположной теперешней тенденции чуть ли не вовсе их упразднить; во всяком
случае, такая архитектурная особенность в какой-то мере, возможно, даже и
породила это наваждение- уверенность, что он увидит то, что искал, как в
подзорную трубу, где его можно будет сфокусировать и изучать в этой
уменьшающейся перспективе с полным удобством и даже с опорой для локтя' (Джеймс
1974: 416).
Дом,
таким образом, действительно функционирует как оптический прибор. Он
сравнивается с подзорной трубой, хотя на самом деле он похож скорее на некую
многоярусную камеру-обскуру, где в один проем вписан другой, а в другой -
третий и т д. Вся эта система ярусных проемов похожа на перспективно
уменьшающуюся анфиладу сцен. Пространство брайдоновского дома не случайно,
конечно, расчленено этими полутеатральными сценами памяти, каждая из которых
вписана в иную. Их вытянутость вдоль оси зрения 'фокусирует' все устройство в
некой умозрительной точке схода перспективы. Дом через систему сцен и анфилад
фокусирует пространство, уплотняя живущие в нем тени почти в телесный слепок
дома. В данном же случае из-за того, что последняя дверь оказывается закрытой,
в фокус попадает не финальная ячейка пространства, а сама дверь перед ней. И
дверь эта начинает деформироваться:
'Плоское
лицо двери <... > пялилось на него, таращилось, бросало вызов' (Джеймс
1974: 417).
143
Дом
начинает материализовать тело, вписанное в его машину. С дома как будто
снимается маска, отделяющаяся от него и обретающая плоть.
'Он
увидел, как эта срединная неясность стала мало-помалу сжиматься в своем широком
сером мерцающем обрамлении, и почувствовал, что она стремится принять ту самую
форму, которую вот уже сколько дней жаждало узреть его ненасытное любопытство.
Она маячила, темная и угрюмая, она угрожала - это было что-то, это был кто-то,
чудо личного присутствия' (Джеймс 1974: 423). Возникший двойник отличается
некой странной неорганичностью - он неподвижен, его 'фактура' как будто создана
не жизнью, а резцом скульптора, он 'весь был подвергнут какой-то утонченной
обработке, каждая его черточка, каждая тень и каждый рельеф' (Джеймс 1974:
424). Но самое существенное то, что Брайдон не обнаруживает в лице своего
двойника ни малейшего сходства с самим собой:
'Этот
облик, который он сейчас видел, не совпадал с его собственным ни в единой
точке; тождество с ним было бы чудовищным.
Да, тысячу раз да- он видел это ясно, когда лицо
приблизилось, - это было лицо совсем чужого человека. Оно надвинулось на него
еще ближе, точь-в-точь как те расширяющиеся фантастические изображения,
проецируемые волшебным фонарем его детства...' (Джеймс 1974:425).
Волшебный
фонарь - оптический прибор фантасмагорий и одновременно прибор памяти, из
которого возникает это чужое тело, чужое лицо - продукт деформаций. Это то
лицо, которым обладал бы сам Брайдон, останься он в своем доме, впишись он в
причудливые извивы его пространства. Деформации лица 'демона' у Джеймса - это
след воздействия 'места' на тело. Чехов у Сокурова, попадая в дом, начинает
подвергаться давлению его стен и постепенно приобретает тот хрестоматийный
облик, который вписан в это музейное пространство отчужденной памяти культуры.
Чехов задается как собственное искаженное удвоение.
Повторение
удваивает тело и придает ему странный, деформированный облик. Жак Деррида даже
утверждает, что за всяким повторением кроется призрак демонического,
дьявольского:
'Все
происходит, все протекает так, как если бы дьявол 'собственной персоной'
вернулся, чтобы удвоить своего двойника. Таким образом, удваивая удвоением
своего двойника, дьявол переливается через край своего двойника в тот самый
момент, когда он - не что иное, как собственный двойник, двойник двойника,
производящий впечатление "unheimlich"' (Деррида 1987: 270).
144
Демон
Сократа (о котором речь шла в первой
главе)
в такой перспективе может пониматься как удвоение самого Сократа, как его
демонический повтор. Тот факт, что двойник опознается не как чистое повторение,
но как демон, как другой, конечно, связан с ситуацией забывания, вытеснения.
Фрейд отмечал, что das Unheimliche -
непривычное, тревожащее - 'в действительности не имеет в себе ничего нового или
чужого, но лишь знакомое и давно устоявшееся в уме, только очужденное процессом
вытеснения' (Фрейд 19636:47).
Процесс
вытеснения в данном случае не просто забывание, но именно 'очуждение', деформация.
Демоническое - это диаграмматический след вытеснения, стирающий сходство
двойников, производящий их как пугающие и различные.
То,
что Деррида называет 'переливанием через край' своего двойника, является
одновременно эксцессом удвоения, его излишеством. Избыточность удвоения, как
уже указывалось, ведет к образованию фетиша, так или иначе проступающего сквозь
демоническую диаграмматичность неузнанных двойников.
Фрейд дал анализ этого
явления в своем исследовании 'Градивы' Вильгельма Иенсена. Речь в повести
Иенсена идет об археологе Норберте Ханольде (Norbert Hanold), завороженном
римским рельефом идущей женщины (Градивы). Маниакальная страсть к Градиве
объясняется необычностью ее походки, почти вертикальным положением стопы при
ходьбе. Странная походка Градивы пробуждает у Ханольда своего рода фетишизм-
навязчивый интерес к женским ногам. Но этот фетишизм оказывается не чем иным,
как результатом удвоения:
'Норберт Ханольд не помнил,
глядя на барельеф, что он уже видел сходное положение ноги у своей подруги
детства; он ни о чем не помнил, и вместе с тем все впечатление, производимое
барельефом, порождалось связью с впечатлением, полученным в детстве. Детское
впечатление, таким образом, пробуждается и становится активным до такой
степени, что оно начинает оказывать воздействие, но оно не достигает сознания,
оно остается "бессознательным"...' (Фрейд 1986: 189).
Фетишизм
ноги, таким образом, возникает в результате избыточности удвоения, его
'перехлестывания' через край, то есть деформации самого процесса удвоения.
В
результате 'смешения' воспоминания с восприятием рельефа у Ханольда возникают
фантазии о том, что будто бы Градива жива и теперь. Античное изваяние
переносится в настоящее. Любопытно, однако, что этот процесс смешения копии с
оригиналом (Градива, будучи копией, выступает в качестве 'древнего' оригинала)
приво-
145
дит
к переносу интереса с живых женщин на каменные изваяния. Камень своей тяжестью,
'избыточностью' воплощает в данном случае фетишистскую прибавку к неузнаваемой
копии.
По
наблюдению Эрвина Панофского, с появлением линейной перспективы и все более
натуралистической передачей облика видимого мира начался процесс 'одевания
символов в одежды реальных вещей' (Панофский 1971: 141). Панофский обнаруживает
первые следы такого 'переодевания' в 'Танце Саломеи' Джотто, где на крыше
дворца Ирода появляются статуи античных богов. Панофский приводит примеры
множества картин, преобразующих символические фигуры в каменных идолов.
Превращаясь в статуи, античные боги или аллегорические фигуры как бы дублируют самих
себя и одновременно отчуждаются от себя самих. Они отчасти перестают быть
чистыми символами, превращаясь в материальные фетиши. Камень оказывается в
таком контексте избытком материи, в котором не нуждается аллегория.
Удвоение
в данном случае вписано в сами фигуры (символы и предметы одновременно) и
производит их в ранг фетишей и демонических подобий, демонических хотя бы
потому, что, становясь камнем, они перестают быть символами. Камень деформирует
их суть, их raison d'etre, до неузнаваемости. Символы возвращаются в 'перспективный'
мир, где им нет места, приходят назад как тела, как каменные статуи, как
телесная, пластическая имитация самих себя, выполненная скульптором.
5
Таким
образом, возвращение приобретает все черты имитации себя самого (автомимесиса),
увиденного другими. Чехов переживает возвращение как акт симуляции, который
восстанавливает его бытие.
Театральность
(взгляд на себя со стороны, разыгрывание себя как персонажа) возвращения
усложняется и той специфической перспективой, которую задает ему Чехов. Связь
этой темы именно с Чеховым настолько существенна, что потребует особого
отступления.
...В первом действии 'Чайки' (1895) Нина Заречная разыгрывает пьесу, написанную
Треплевым. Пьеса эта обыкновенно понимается как пародия на декадентский театр,
например на театр Лентовского в Москве (см. Сенелик 1985: 79). Но за пародией
на декадентский театр просвечивает иная пародия - на определенный тип западного
философствования от Гегеля и Шопенгауэра до Ницше. Время действия пьесы - конец
времен:
146
'Люди,
львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие
в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, - словом, все
жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли... < ...> Тела живых
существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в
облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа - это я... я... Во
мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней
пиявки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню все,
все, все и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь. <... > каждое
мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов и вы меняетесь
непрерывно. Во вселенной остается постоянным и неизменным один лишь дух.
<...> материя и дух сольются в гармонии прекрасной и наступит царство
мировой воли. Но это будет, лишь когда мало-помалу, через длинный, длинный ряд
тысячелетий, и луна и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль... А до тех пор
ужас, ужас...' (Чехов 1963, т. 9:435-436).
В
этом монологе прежде всего бросаются в глаза гегелевские темы - абсолютное
познание мира, соединение материи с мировой душой становятся возможными лишь
после конца истории. Конец истории, согласно Гегелю, знаменовался приходом
Наполеона. Упоминание в монологе в ряду других великих Наполеона, возможно,
пародийно отсылает к этой гегелевской теме, которую Александр Кожев
формулировал следующим образом:
'Абсолютное
Знание - объективно - стало возможным
потому, что в Наполеоне и через него реальный
процесс исторической эволюции, в течение которого человек создал новые Миры и преобразил себя, создавая их, пришел к
концу' (Кожев 1968:164).
Получаемое
в конце Истории Абсолютное Знание принадлежит мудрецу, обладающему, согласно
Гегелю, 'циклическим знанием'. Кожев так формулирует это положение
Гегеля:
'...В
своем существовании Мудрец остается идентичен
самому себе, потому что он проходит через всех других, он заключен в самого себя лишь постольку, поскольку он заключает в себе всех других' (Кожев 1968: 288). Точно
так же абсолютное знание в пьесе Треплева проходит через идентификацию со всем
и всеми - Цезарем, Шекспиром, Наполеоном и т. д. Существенно в этом, однако,
то, что идентичность Мудреца складывается через отказ от собственной
идентичности, через парадоксальное отождествление со всеобщностью бытия и
опыта. Мудрец знает все потому, что, в конечном счете, не является самим собой.
Далее мы увидим, что эта тема пародируется Чеховым в метаморфозах его героев.
147
Для
меня, однако, важнее ницшевские темы этого монолога15. Они, мне кажется, принадлежат к числу наиболее ядовито
спародированных и большей частью относятся к главе 'Выздоравливающий' из 'Так
говорил Заратустра', где впервые излагается
доктрина вечного возвращения. Перечисление животных в начале монолога
Заречной отсылает, вероятно, к 'зверям Заратустры'16.
'Ужас, ужас...' - пародия на ницшевское 'Ах, отвращение, отвращение,
отвращение!...' (Ницше 1990; 160). 'Во мне душа <...> последней пиявки'
отсылает к главе 'Пиявка' из 'Заратустры': 'Но если что знаю я прекрасно и
досконально, так это мозг пиявки -
это мой мир' (Ницше 1990: 180). Но,
конечно, главное содержание пародии на Ницше - это мотив круга времен и возвращения в воспоминании: '...я помню
все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь'.
Каков
смысл этой философской пародии в начале 'Чайки'? Он проясняется в последнем,
четвертом действии пьесы, когда персонажи возвращаются два года спустя в то же
самое место - в усадьбу Сорина. В конце этого действия Нина Заречная вновь
цитирует свой монолог из декадентской пьесы Треплева, тем самым подчеркивая
значение этого пародийного текста. Возвращение героев тесно связано с
театральным представлением пьесы о конце времен и переживанием прошлого в
воспоминании. В самом начале действия Медведенко говорит:
'В
саду темно. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр. Стоит голый,
безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Когда я вчера вечером
проходил мимо, то мне показалось, будто кто в нем плакал' (Чехов 1963, т. 9:
465).
В
заброшенном театре словно продолжает мистически разыгрываться все та же пьеса.
Тригорин прямо объясняет Треплеву, что его возвращение связано именно с театром
в саду:
'Кстати,
надо осмотреть сад и то место, где - помните? - играли вашу пьесу. У меня
созрел мотив, надо только возобновить в памяти место действия' (Чехов 1963,
т.9: 472). Нина, несколькими страницами позже:
_____________
15 Русский перевод 'Так говорил
Заратустра' появился в 1898 году, то есть тремя годами позже 'Чайки' Я думаю,
что этот факт не отменяет возможности знакомства Чехова с произведением Ницше в
зарубежном издании Хотя все же нельзя исключить и возможности, что тема вечного
возвращения в пьесе Треплева черпает в большей степени из Гегеля, чем из Ницше.
Ниже я, однако, приведу некоторые текстуальные параллели между Чеховым и Ницше,
которые могут интерпретироваться как свидетельства знакомства русского писателя
с 'Заратустрой'.
16 Ср. почти пародийный
фрагмент у Ницше ' ...звери его, испуганные, прибежали к нему, и из всех нор и
щелей, соседних с пещерой Заратустры, все животные разбежались, улетая, уползая
и прыгая, - какие кому даны были ноги и крылья' (Ницше 1990: 156)
148
'Вчера
поздно вечером я пошла посмотреть в саду, цел ли наш театр. А он до сих пор
стоит. Я заплакала в первый раз после двух лет...' (Чехов 1963, т. 9: 477) Это
возвращение в театр сопровождается забвением. Герои как будто поражены
амнезией.
'Ш а м р а е в. Как-то Константин Гаврилыч застрелил
чайку, и вы приказали мне заказать из нее чучело.
Т р и г о р и н. Не помню. (Раздумывая.) Не помню!' (Чехов 1963, т. 9: 475).
Возвращение
описывается как попытка вспомнить, воспоминания же привязаны к театру в саду.
Театр сам по себе есть место повторения, разыгрывания, возвращения17. Но повторяются, возвращаются в треплевском театре-
этом локусе памяти в чеховской
'Чайке' - конец, безвременье. Заречная, ставшая провинциальной актрисой, играет
'грубо, безвкусно, с завываниями', и единственное, что удается ей, - это сцены
умирания 'Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала,
но это были только моменты' (Чехов 1963,т 9: 470).
Эти
удачи в сценах умирания, возможно, объясняются идентификацией Нины с убитой
чайкой. Только смерть, конец повтора поддаются талантливому повторению. Сама же
ситуация постоянного возвращения к прошлому переживается, вполне в ницшевском
ключе, как некая дурная бесконечность, непреодолимая и компрометирующая сам
смысл жизни. Смерть становится единственной точкой в циклическом движении
времени, которая может быть талантливо разыграна. Смерть уничтожает память и
таким образом полностью стирает различие между собой нынешним и прошлым. Вот
почему эпизоды умирания могут быть единственными удачно сыгранными. Вне смерти
различие между собой нынешним и прошлым сохраняется и не может быть преодолено
- стало быть, и возвращение никогда не разыгрывается полно, до конца. Театр
возвращения и воспоминания всегда оказывается поэтому 'плохим' театром, театром
деформаций. Не случайно, конечно, Чехов подчеркивает дилетантско-претенциозную
сторону этого зрелища. Сооруженные в саду подмостки, на которых разыгрывается
возвращение, - это сцена плохого театра. Заречная, превращающая сцену
возвращения в стержень своего репертуара, - плохая актриса.
Делёз
провел различие между двумя типами
повторений. Первый он обозначил как обмен, когда все покоится на сходстве
объектов, которые могут быть обменены.
_________
17 О традиции понимания театра как
'места памяти', мнемонического устройства см. Йейтс 1969 310-354
149
'Подлинное
повторение, напротив, возникает как особое поведение по отношению к тому, что
не может быть обменено, заменено, замещено: таково стихотворение, которое
повторяется в той мере, в какой в нем нельзя заменить ни слова. <...>
Подлинное повторение обращено к чему-то уникальному, необмениваемому и различному,
без 'идентичности'. Вместо того чтобы обменивать сходное и идентифицировать
Тождественное, оно утверждает подлинность различного (different)' (Делёз
1969:387).
'Подлинное
повторение' в этом смысле противостоит театру, который по определению выступает
как дурное повторение существующего текста, отрепетированных мизансцен и
жестов. Антонен Арто восставал именно против такого театра дурных повторений,
когда стремился изгнать со сцены слово. Деррида обозначил попытки театральной
реформы Арто как стремление выйти за рамки репрезентации, как желание создать
пространство 'нерепрезентации', которое в конечном счете и может быть связано с
аутентичностью смерти. Сцена в таком нерепрезентативном театре 'больше не будет
повторять настоящее (un present), репрезентировать (re-presenter)
настоящее, которое находилось бы вне и до нее, чья полнота была бы старше, чем
ее, отсутствовала бы на самой сцене и могла бы по праву без нее обойтись...'
(Деррида 1967- 348)
Таким
образом, возможность 'подлинного повторения' в принципе лежит по ту сторону
проблематики сходства, 'хорошей' театральной игры, которая неизбежно будет
'плохой'. 'Подлинное повторение' лежит целиком в области различия, которое
может проявлять себя как в аутентичности жеста, так и в деформациях, выражающих
'подлинность' действующих на тело сил.
Пьер Клоссовски дал
убедительный анализ значения забвения и воспоминания для тематики вечного
возвращения у Ницше. Возможность вечного возвращения покоится на забвении. Она
открывается Заратустре в виде воспоминания, анамнезиса.
Однако для того, чтобы вечное возвращение состоялось, а следовательно, чтобы
повторялся и этот момент обнаружения, воспоминания, я должен забывать себя
знающего, себя вспоминающего, я постоянно должен 'дезактуализировать себя
настоящего' (Клоссовски 1969: 94) Эта диалектика себя-помнящего и
себя-непомнящего вводит в проблематику вечного возвращения внутреннее различие
'Я' постоянно задается как не совпадающее с самим собой. Мне представляется,
что это внутреннее различение 'Я-помнящего' и 'Я-непомнящего' как раз и
позволяет связать вечное возвращение с театром - местом постоянного обнаружения
несовпадения актера и персонажа, разли-
150
чия
внутри самого актера, который одновременно является и не является самим собой18.
Проблематика
памяти и возвращения, заявленная в 'Чайке', проходит через все последующие
пьесы Чехова. В 'Дяде Ване' Астров представляет Елене 'картограмму' (а по сути,
диахроническую карту), сопровождая ее рассказом, явно пародирующим декадентскую
пьесу Треплева. Астров описывает постепенное вырождение природы в 'нашем
уезде'. Пятьдесят лет назад 'там водились лоси, козы...<...> На этом
озере жили лебеди, гуси и утки <...> Теперь посмотрим ниже. То, что было
двадцать пять лет назад. <...> Коз уже нет, но лоси есть. <... >
Переходим к третьей части: картина уезда в настоящем. < ...> исчезли и
лоси, и лебеди, и глухари... <...> В общем, картина постепенного и
несомненного вырождения, которому, по-видимому, остается еще каких-нибудь
десять-пятнадцать лет, чтобы стать полным' (Чехов 1963, т. 9: 512).
(В
пьесе Треплева конец времен отнесен очень далеко - 'через двести тысяч лет'.) В
'Трех сестрах' Тузенбах вновь возвращается к той же теме, на сей раз декларируя
полную неизменность природы 'не то что через двести или триста, но и через миллион
лет' (Чехов 1963, т. 9: 560). Природа, традиционно понимаемая как воплощение
совершенной цикличности и неизменности, как сила, трансцендирующая человеческое
время (см. декларации Тузенбаха), у Астрова становится локусом изменений,
деградации.
За
год до смерти, в 1903 году, Чехов пишет свою последнюю пьесу - 'Вишневый сад'. Место действия
пьесы отчасти, вероятно, навеяно ялтинским пристанищем писателя, в котором
именно сад играл особую роль. Ольга Книппер вспоминала в связи со
строительством дома в Ялте:
'Антон
Павлович любил ходить и показывать и рассказывать, чего еще нет и что должно
быть со временем; и главное, занимал его сад, фруктовые посадки...'
(Книппер-Чехова 1960: 694).
Этот
будущий сад превращается в пьесе в старый вишневый сад - место возвращения
Раневской. По существу, вся пьеса Чехова построена вокруг мотива возвращения и памяти. Поражает, например, с какой настойчивостью проигрывается в ней тема узнавания после
всего лишь пятилетнего отсутствия хозяйки:
'Л о п а х и н: Узнает ли она меня? Пять лет не
виделись' (Чехов 1963, т. 9: 610);
'Любовь
Андреевна глядит с недоумением.
В
а р я (сквозь слезы).Это Петя
Трофимов...
__________
18 Согласно точному наблюдению Ги
Розолато, 'актер тем в большей степени является самим собой, чем более полно он
растворяется в своем персонаже' (Розолато 1985: 20).
151
Трофимов.
Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши... Неужели я так изменился?' (Чехов
1963, т. 9: 620);
'Л
ю б о в ь А н д р е е в н а. И Дуняшу я узнала...' (Чехов 1963,т.9: 610);
'Д
у н я ш а. И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей.
Я
ш а. Гм... А вы кто?' (Чехов 1963, т. 9: 613), и т. д. Эта навязчивая тема
забвения-воспоминания разворачивается Чеховым в ключе, который затем использует
и Сокуров. Возвращение Раневской переживается
ею как странная регрессия в детство19. Пять лет отсутствия оказываются той
необходимой цезурой, которая как бы позволяет героине вернуться не на пять лет
назад, а в гораздо более ранние времена. Этот стремительный скачок в далекое
прошлое, вероятно, и объясняет поразившую тут всех амнезию. Приведу несколько
примеров:
'Л
ю б о в ь А н д р е е в н а. Детская,
милая моя, прекрасная комната... Я тут спала, когда была маленькой... (Плачет.) И теперь я как маленькая...'
(Чехов 1963, т. 9:610).
'Л
ю б о в ь А н д р е е в н а.. Я не могу
усидеть, не в состоянии... (Вскакивает и
ходит в сильном волнении.) Я не переживу этой радости... Смейтесь надо
мной, я глупая... Шкафик мой родной... (Целует
шкаф.) Столик мой' (Чехов 1963, т. 9: 615).
Но
самое любопытное то, что инфантилизация героини, ее возвращение в детство
сопровождаются своего рода раздвоением ее сознания. Она словно бы начинает
видеть себя со стороны. Тело нынешнее отделяется от тела прошлого.
'Л
ю б о в ь А н д р е е в н а. Неужели это я сижу? (Смеется.) Мне хочется прыгать, размахивать руками' (Чехов 1963, т.
9: 615).
Эта
психологическая раздвоенность Раневской усиливается и еще одним явлением. В ее
дочери Ане обнаруживаются черты сходства с матерью, которые ранее были
незаметны. Раневская буквально становится иным телом, телом дочери, как будто
осуществляя регрессию в другого человека - в собственного ребенка.
'Г
а е в. Как ты похожа на свою мать! (Сестре.)
Ты, Люба, в ее годы была точно такая' (Чехов 1963, т. 9: 614). Это обнаружение
сходства предшествует странному явлению призрака матери Раневской и придает ему
особый смысл:
___________
19 У Ницше в главе 'О видении и
загадке' в 'Заратустре' прозрение вечного возвращения связано с воем собаки,
которая возвращает Заратустру в далекое прошлое, 'когда я был ребенком, в самом
раннем детстве' (Ницше 1990- 113) Воспоминание, предшествующее прозрению,
прежде всего воссоздает повтор, связанный с детскими впечатлениями.
152
'Любовь
Андреевна. Посмотрите, покойная мама идет по саду... в белом платье! (Смеется от радости.) Это она. Гаев.
Где? Варя. Господь с вами, мамочка. Любовь Андреевна. Никого нет, мне
показалось. Направо, на повороте к беседке, белое деревце склонилось, похоже на
женщину...' (Чехов 1963, т. 9: 620). Видение матери - в своем роде крайняя
степень раздвоения самой Раневской, оно зеркально отражает ситуацию сходства
между ней и ее собственной дочерью. Характерно, что это видение создается садом
- мистическим местом памяти и возвращения. Оно совпадает с фрейдовским
описанием das Unheimliche. Наиболее полным выражением das Unheimliche Фрейд
считал возвращающегося мертвеца, призрака. Он связывал его появление с
пробивающимися в сознание подавленными комплексами, например чувством вины.
'Переживание
тревожащего возникает <....> в тот момент, когда подавленные инфантильные
комплексы оживают под воздействием некого впечатления...' (Фрейд 19636:55)20.
Во
всяком случае, призрак матери может пониматься именно как результат
воспоминаний, вызванных садом и проецирующих на образ умершего былые
переживания вспоминающего (в данном случае, возможно, эпизоды смерти мужа и
сына Раневской), он как бы 'смешивает' живого и мертвого.
Героям
Чехова присуща еще одна важная черта. Они постоянно стремятся вспомнить свое
прошлое и тем самым установить свою 'идентичность'. Но воспоминания их
искусственны, пошлы и явно отдают вымыслом. Натужное восстановление прошлого
поэтому часто выглядит фикцией. Своего рода двойник Раневской, ее 'демон' -
Шарлотта - также может быть названа дурной актрисой, отдаленной пародией на
Нину Заречную. В отличие от Раневской, Шарлотта - человек без прошлого,
'ничего' о себе не знающий. Она объясняет Фирсу (также воплощающему тему
утраченной памяти):
'У
меня, дедушка, нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне
кажется, что я молоденькая... < ...> А откуда я и кто я-не знаю... Кто
мои родители? Может, они не венчались... не знаю... <...> Ничего не знаю'
(Чехов 1963, т. 9: 704).
Шарлотта
- настоящий персонаж драматургической фантазии Чехова - создание, возникшее из
небытия, порожденное воображением писателя. Но такие же призрачные существа -
любые теат-
__________
20 Фрейд связывает тревожащее также с
манией повторения
153
ральные
персонажи. Различие лишь в том, что они силятся на сцене вспомнить
несуществующее прошлое21.
Чего
ради? Ответ кажется очевидным - чтобы, подобно пиранделловским 'персонажам в
поисках автора', обрести видимость бытия. Но если описать эту ситуацию в иных
терминах - для того, чтобы ввести в себя 'различие'.
Различие само по себе подменяет исток, происхождение, оно задает ложную
перспективу, фикцию предшествования.
Тело,
строящее свою идентичность на постулировании чистого различия, может быть
определено как симулякр. Симулякр имитирует
сходство и различие при отсутствии модели, предшествующего ему образа, он-
область 'ложного' par excellence. Делёз, отметивший принципиальность этой
проблематики для ницшевского вечного возвращения, так определяет сущность
симулякра:
'...Он переворачивает репрезентацию, он разрушает иконы: он не предполагает Одинакового и Сходного, но, напротив, конституирует единственного Одинакового, несущего различие, единственное сходство непохожего' (Делёз 1969:360).
Иными
словами, симулякр 'придумывает' свое сходство с несуществующей моделью, чтобы
реализоваться в качестве копии. Он придумывает себя прошлого, он изобретает
себе подобных. Ницшевское 'вечное возвращение' находится в теснейшей связи с
'волей к власти', то есть желанием быть, существовать (Хайдеггер 1979: 18-24).
'Вечное возвращение'- это прежде всего утверждение в бытии. Жиль Делёз, например,
считает, что 'вечное возвращение' антинигилистично по своей природе и связано с
радостью самоутверждения22. Казалось
бы, странные реакции Раневской - 'Посмотрите, покойная мама идет по саду... в
белом платье! (Смеется от радости)' -
вписываются в эту радость достигаемого через повторение бытия.
У
Чехова конструирование симулякров принимает форму фальшивых воспоминаний и
идентификации с несуществующими предками, с несуществующими другими. Имитируя
самих себя, герои вводят внутрь себя (интериоризируют, по выражению Делёза)
раз-
_____________
21 Петер Шонди считал ностальгическую
обращенность персонажей Чехова в прошлое наиболее парадоксальной чертой его
театра 'Вопрос, таким образом, в том, как этот тематический отказ от настоящего
в пользу памяти и мечтаний, этот неустанный анализ своей собственной судьбы
соответствует драматической форме, в которой некогда выкристаллизовалась
ренессансная жажда "здесь и
теперь", жажда межличностного
[общения]' (Шонди 1987:19). Я думаю, что воспоминание о прошлом не обязательно
отменяет жажду 'здесь и теперь' Наличие прошлого подтверждает, что театральные
персонажи не возникли из пустоты, что они причастны 'существованию'.
22 Об отношениях
отрицания и утверждения в 'вечном возвращении' см. Делёз 1983:71-72.
154
личие,
постоянно сочиняя сходство и обнаруживая это сходство с другими. Самоимитация
поэтому принимает форму фальшивого воспоминания.
'Реальная'
жизнь чеховских персонажей постоянно описывается как ложная, мнимая, они как бы
видят возможность подлинного существования только в ее дублировании. Характерно
в этом смысле известное высказывание Вершинина из 'Трех сестер':
'Я
часто думаю, что если бы начать жить снова, притом сознательно? Если бы одна
жизнь, которая уже прожита, была бы, как говорится, начерно, а другая - начисто!
Тогда каждый из нас, я думаю, постарался бы прежде всего не повторять самого
себя...' (Чехов 1963, т. 9: 546) Главное - не повторить себя, ввести в себя
различие. Эта тема до Чехова была разработана Ибсеном, особенно в его 'Привидениях' (1881). Когда удаленный в детстве из
дома Освальд возвращается назад в родительский дом, борьба за его identity,
кончающаяся его сумасшествием, разворачивается вокруг детской памяти. Освальд
обнаруживает в кабинете отца его курительную трубку и закуривает ее, тем самым
обнаруживая в себе пугающее сходство с господином Альвингом (сходство в том
числе и физиогномическое - например, в выражении 'уголков рта'). Госпожа
Альвинг пытается остановить Освальда:
'Г-ж
а Альвинг. Положи трубку, милый мой мальчик. Я не позволяю здесь курить.
Освальд
(кладет трубку). Хорошо, я только
хотел попробовать, потому что я однажды курил ее, когда был ребенком.
Г-ж
а Альвинг. Ты?
Освальд.
Да, это было, когда я был совсем маленьким. И я помню, как я однажды вечером
поднялся в комнату к отцу, когда тот был в отличном настроении.
Г-ж
а А л ь в и н г. О, ты ничего не можешь помнить о тех днях.
Освальд.
Нет, я хорошо помню, как он посадил меня на колени и дал мне покурить его
трубку. "Кури, мой мальчик, - сказал он, - затянись как следует,
малыш;" <...>
М
а н д е р с. Очень странное поведение. Г-ж а Альвинг. Дорогой господин Мандерс,
Освальду это только привиделось...' (Ибсен 1958: 85). Дом раскрывает скрытую
сущность Освальда через предметы, наделенные памятью места. Вся стратегия
поведения госпожи Альвинг направлена на спасение identity сына через
трансформацию места и деформацию памяти. В финале пьесы 'окончательное'
познание дома обозначается низвержением Освальда в стихию безумия и поражением
его матери в борьбе с домом как локусом памяти.
155
Сохранение
сознания и целостного ego для
Освальда равнозначно сохранению ложной памяти, превращению себя в симулякра.
Обретение же себя 'подлинного' оказывается эквивалентным отказу от себя самого,
идентификации с отцом и в результате - безумием как метафорой смерти.
Эта
тема была заявлена Чеховым еще в рассказе 'В родном углу' (1897), где
проигрывались некоторые мотивы будущего 'Вишневого сада'. Героиня рассказа Вера
Ивановна Кардина возвращается в свою родовую усадьбу, где она не была с
детства, вот уже лет десять. Вера испытывает необыкновенную радость от
возвращения домой. По пути со станции она проезжает мимо оврага, вид которого
впервые пробуждает воспоминания: 'Вера вспомнила, что когда-то к этому оврагу
ходили по вечерам гулять; значит, уже усадьба близко!' (Чехов 1959, т. 3: 423).
Но, конечно, привилегированным местом памяти является сад:
'Сад
старый, некрасивый, без дорожек, расположенный неудобно по скату, был
совершенно заброшен: должно быть, считался лишним в хозяйстве' (Чехов 1959, т.
3:425).
Эта
обыкновенная для Чехова заброшенность сада отсылает к теме прошлого, память
материализуется в формах загадочных и темных хитросплетений. Местоположение
сада необычно. Вокруг него лежит степь, как-то таинственно связанная со смертью23:
'И
в то же время нескончаемая равнина, однообразная, без живой души, пугала ее, и
минутами было ясно, что это спокойное зеленое чудовище поглотит ее жизнь,
обратит в ничто' (Чехов 1959, т. 3: 425).
Вера
кончила институт, знает европейские языки и испытывает ужас, столкнувшись с
крепостническими нравами своей родни:
'Не
в духе твой дедушка, - шептала тетя Даша. - Ну, да теперь ничего, а прежде не
дай бог: "Двадцать пять горячих! Розог!"' (Чехов 1959, т. 3: 426)
Жизнь
в усадьбе, однако, постепенно производит в Вере странную метаморфозу: она
регрессирует, словно бы превращаясь в своего предка. Без особой причины она
вдруг набрасывается на горничную Алену:
'Вон
отсюда! - кричала Вера не своим голосом, вскакивая и дрожа всем телом. - Гоните
ее вон, она меня замучила! - продолжала она, быстро идя за Аленой по коридору и
топоча ногами. - Вон! Розг! Бейте ее!
И
потом вдруг опомнилась и опрометью <... > бросилась вон из дому. Она
добежала до знакомого оврага и
___________
23 Образ степи как места забвения и
смерти восходит, вероятно, к платоновскому 'Государству', а точнее, к мифу об
Эре, возвращающемся из загробного мира. Именно тут описывается Долина Забвения,
'лишенная деревьев и всего растущего на земле' (Rep, 621А).
156
спряталась
там в терновнике, <...> случилось то, чего нельзя забыть...' (Чехов 1959,
т. 3:432)
По
существу, Вера превращается в собственного деда, и это превращение,
представляющееся мистическим возвращением в недра некой генетической памяти
рода, завершается в том самом овраге, где память 'места' впервые пришла к ней,
где мнемонические структуры якобы сохраняются без коррозии, - 'случилось то,
чего нельзя забыть'. Это восстановление родовой протопамяти, предшествующей
детству, рождению, жизни,24 -
одновременно и погружение в небытие, метафорическое умирание. Идентифицируясь с
предком, Вера одновременно обнаруживает собственную эфемерность. Метафорическая
смерть совпадает с обретением сходства. В конце рассказа Чехов однозначно
высказывается по этому поводу:
'...Свое прошлое она будет считать своей настоящей жизнью <...>. Надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность...' (Чехов 1959, т. 3: 433)
Жизнь
полностью сливается с прошлым. Возвращение в память, в прошлое, в сад
оказывается равнозначным небытию, смерти. Жизнь настолько состоит из прошлого,
что смерть оказывается единственным моментом подлинного повторения.
Связь
возвращения со смертью получает особое значение в контексте биографии самого
Чехова. В начале июня 1904 года состояние здоровья вынуждает Чехова уехать на
лечение за границу, в Баденвейлер, где сначала он, казалось бы, идет на
поправку, но затем наступает ухудшение, завершающееся смертью. В последних
письмах из Баденвейлера Чехов настойчиво обсуждает вопрос о возвращении домой.
Эта тема возникает буквально сразу после приезда на курорт. 12 июня он пишет
Марии Павловне Чеховой:
'Впечатление
- кругом большой сад, за садом горы, покрытые лесом <... >, уход за садом
и цветами великолепный, но сегодня вдруг ни с того ни с сего пошел дождь, я
сижу безвыходно в комнате, и уже начинает казаться, что дня через три я начну
подумывать о том, как бы удрать' (Чехов 1951: 298).
В
последнем письме тому же адресату Чехов настойчиво обсуждает варианты
возвращения - пароходом от Триеста до Одессы или по железной дороге. Смерть
отменяет возвращение. Хотя и сам отъ-
_________
24 Набоков в своих мемуарах
утверждает, что первое его воспоминание связано с образом отца в униформе
конной гвардии. Писатель с точностью описывает даже блеск отцовской кирасы.
После этого он добавляет: 'Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность
задолго до моего рождения, отец в тот знаменательный день, вероятно, надел свои
полковые регалии ради праздничной шутки' (Набоков 1991:455). Набоков, хотя и
пытается неловко объяснить странность своего воспоминания отцовской шуткой, по
существу, воспроизводит тот же мотив воспоминания, возвращающего ко времени до
рождения.
157
езд,
по-видимому, уже понимался Чеховым как путь в никуда, как умирание. И. Бунин
вспоминал:
'Сам
он Телешову сказал: "Еду умирать". Значит, понимал свое положение. У
меня иногда мелькает мысль, что, может быть, он не хотел, чтобы его семья
присутствовала при его смерти...' (Бунин 1955:102).
6
Сокуров,
по существу, осуществляет то, чего не удалось его герою. Он возвращает его в
дом, куда тот так и не сумел приехать, но делает это по законам, описанным в
пьесах и рассказах самого Чехова. Возвращение домой поэтому становится
возвращением в собственный текст, внутрь своего же театра. 'Театр повтора' в
саду из 'Чайки' окрашивает весь текст, накладывает печать театральности на
любую ситуацию возвращения. Сад из 'Чайки' проникает в 'Вишневый сад'.
'Вишневый сад' перерастает в ялтинский. И это наслоение садов воплощает идею
дублирования в возвращении, взаимоналожения воображаемого и реального.
Любопытно
само по себе это наложение топосов театра, сцены и сада. Казалось бы, театр
задается как пространство искусственности, игры, сад - как пространство
природы. Однако уже со времен Ренессанса театр оказывается моделью для
построения сада. Так, например, типичная итальянская садовая архитектура с
ярусами террас, полукругом спускающимися вниз, изначально имитировала
театральное пространство (Марчи 1981). Помимо прочих причин, сближавших театр и
сад в ренессансном и постренессансном сознании, существенной была та, что оба
места понимались как места 'памяти', как мнемотехнические 'loci' (Фаджиоло 1980). И мнемонический театр и сад выступали как
'тотальные' модели мира. Один из авторов проекта такого мнемотехнического
театра Джулио Камилло (Giulio Camillo) воображал зрителя помещенным на сцене:
'Здесь
нет зрителей, сидящих на своих местах и наблюдающих за пьесой на сцене.
Одинокий "зритель" Театра стоит там, где положено быть сцене, и
смотрит в зрительный зал, разглядывая картинки на семикратно повторенных семи
входах семи поднимающихся вверх ярусов' (Йейтс 1969:141).
Джон
Диксон Хант приводит сведения об использовании модели театра Камилло,
действительно как бы выворачивающей театральное пространство наизнанку, в
садовой архитектуре. Сама ярусная конструкция садовых террас, имитирующая
зрительный зал, становится зрелищем для наблюдателя, помещенного на место сцены
(Хант 1986: 68-69).
Такая
театрализация сада, его превращение в искусственно
158
аранжированное место памяти придает саду характер 'универсальной модели' только за счет его изоляции от окружающей среды, его капсулирования в себе самом.
В
чеховском взаимоналожении сада и театра есть нечто сходное с выворачиванием
театра у Камилло. То, что в 'Чайке' сцена буквально вынесена в сад, особенно
значимо. Пьеса строится так, как будто сцена в ней некой силой переносится в
какое-то особое, неорганичное для нее пространство, особенно отчетливо
подчеркивающее ее искусственность, ее изолированность, ее неуместность. Сцена в
конечном счете оказывается местом созерцания сада, приобретающего
театральность.
Октав
Маннони заметил, что принцип реальности стремится изолировать наши фантазмы,
строя для них некую особую 'другую' сцену, сцену видений, галлюцинаций, как
будто отделенную от реального мира нашего существования:
'Как
если бы во внешнем мире открывалось иное пространство, сравнимое с театральной
сценой, площадкой для игр или поверхностью литературного произведения...'
(Маннони 1969: 97).
В
фильме Сокурова представлены разные пространства - берег моря, Ялта, лесное
кладбище и сад. Все они по-своему - воображаемые сцены, которые посещает актер
и зритель Чехов. Все они связаны с деформацией зрения, с мотивом камня. Сад же
имеет особое символическое значение, о нем говорится и в немногочисленных
репликах фильма (Чехов буквально цитирует собственную пьесу:
('Как
разросся сад...').
Театрализация
сада как 'другой сцены', на мой взгляд, связана с тем, что сад является
по-своему идеальной моделью автомимесиса. Сад или парк всегда были уменьшенной
моделью природы. Когда природе приписывались черты геометрической регулярности,
создавались регулярные парки. Когда же природа стала пониматься как место
разнообразия и асимметрии (в XVIII веке), возникли английские нерегулярные
парки, имитирующие живописность дикого ландшафта. С семиотической точки зрения,
парк представляет собой очень странное явление - это произведение искусства,
имитирующее природу с помощью составляющих самой природы. Подлинное парковое
дерево здесь имитирует настоящее, дикое дерево, ручей имитирует реку, газон -
поляну, камень - скалу, тропинка - дорогу и т.д.
Иезуит
отец Бенуа (Benoist) так описывал китайские сады, послужившие прототипом для
английских парков:
'Неровные
берега каналов и озер снабжены парапетами, но, в противоположность европейской
традиции в подобных случаях, парапеты делаются из по видимости естественных
скал. "Если рабочий и тратит много времени на их обработку, то лишь для
того, чтобы усилить их не-
159
ровности
и придать им еще более природную форму"' (Лавджой 1960:116).
Естественная
имитация природы в некоторых случаях достигает такого парадоксального
совершенства, что, по замечанию Уильяма Чемберса (William Chambers), 'человек
со стороны часто теряется и не знает, идет ли он по обычному лугу или по месту
наслаждений, созданному и содержащемуся на очень большие деньги...' (Лавджой
1960:125).
Природа
имитирует саму себя едва ли не до полной потери различия между имитацией и
образцом. Мимесис в саду в пределе тяготеет к неразличимости копии и
подлинника, хотя различие и не может быть преодолено полностью. Ситуация эта
осложняется тем, что исходным материалом для создания копии является собственно
образец (ср. с чучелом чайки в пьесе Чехова).
Правда,
само создание таких копий опять предполагает наличие некоего взгляда со
стороны. Часто имитируется не сама природа, а то, как она была увидена глазами
Другого. Известно, что образцами для создания парков были пейзажи Клода
Лоррена, Сальватора Розы, Рейсдаля. Отличие 'китайской' модели от французской
регулярной заключалось в том, что парк здесь организовывался по типу сцен, в
которых точка зрения фиксировалась беседкой или скамейкой. Такая диспозиция
вообще придавала парковым картинам черты театра или живописи, хотя, конечно, и
менее очевидные, чем в ярусных структурах.
Нетрудно
заметить, что сад или парк функционируют в культуре сходно с тем, как ведет
себя Чехов у Сокурова. Они осуществляют автомимесис на основе видения Другого,
чужой памяти.
При
этом автомимесис
сада - это одновременно и
трансформация 'места', в которое как будто вписывается отсутствие или
возвращение. В 'Новой
Элоизе' Руссо Сен-Пре описывает сад Юлии, 'Элизий', в который он
возвращается после длинного перерыва (Юлия говорит ему: '...это тот самый сад,
где вы прогуливались когда-то и где вы сражались с моей кузиной лопатками'
[Руссо 1961:404]). Сен-Пре обнаруживает большие изменения в самой физиономии
сада, но изменения эти носят как будто естественный характер. Сен-Пре так
передает Юлии свои впечатления от сада:
'"Уголок,
разумеется, очаровательный, но запущенный и дикий, нигде не видно следов
человеческого труда. Вы заперли калитку: каким-то образом притекла сюда вода,
все остальное совершила сама природа; с ее делами вам никогда не удалось бы
сравняться". - "Это верно, - промолвила Юлия, - все сделала природа,
но под моим руководством, - ни в чем решительно я не давала ей
своевольничать"' (Руссо 1961: 404).
Автомимесис
как бы контролируется человеком и принимает формы, отражающие человеческое
присутствие, хотя и подчиняется
160
целиком
естественным природным законам. Юлия так определяет свою роль как садовницы:
'...тут нужно скорее придавать определенный изгиб ветвям растений, чем копать и
вспахивать землю' (Руссо 1961: 417). При этом такой природный миметический
процесс, включающий в себя и человека, приводит к 'естественному' образованию
своего рода театрального декора. Дикая природа в саду Юлии создает над головами
людей 'нечто вроде драпировок', 'пышные зеленые балдахины' (Руссо 1961: 405).
Театр в саду оказывается своего рода знаком антропоморфной метаморфозы самой
природы и знаком ее 'театрального' удвоения. При этом сад, в котором сделано
все, чтобы даже на его дорожках не оставалось человеческих следов, весь
оказывается как бы удвоением Юлии. Сен-Пре бродит по саду, как по ее
мистическому отпечатку.
Театр,
возникающий из зарослей 'Элизия', - это знак воспоминаний, вписываемых в пейзаж
как 'иная', далекая 'сцена'. Луи Марен замечает по поводу этого возникновения
театра в саду, что 'воспоминания детства вновь возникают здесь на расстоянии в
иной сцене, присутствующей тут же сейчас' (Марен 1992: 69).
Увлечение
Сокурова удвоениями и умножениями очевидно и во многих предшествующих его
фильмах. В 'Скорбном бесчувствии' Бернард Шоу дублируется его маской. В 'Спаси
и сохрани' у Эммы тоже есть маска-двойник. Но этот прием постоянно сопровождается
еще более эксцентрическим удвоением- дупликацией пейзажей. Известна особая
страсть режиссера к макетам, воспроизводящим целые города ('Дни затмения',
'Круг второй'). В 'Спаси и сохрани' большая декорация Ионвиля дополнена
совершенно идентичным ее макетом.
Эти
двойники действуют во многом по модели паркового мимесиса. Один из европейских
миссионеров так описывал парк китайского императора:
'...Это
еще и вселенная в уменьшенном виде, где даже воспроизведен целый город с
храмами, рынками и лавками, окруженный стеной с воротами, обращенными к четырем
сторонам света.
"Все,
что в столице Императора существует в натуре, воспроизведено здесь в
уменьшенном виде". Таким образом, суверен мог "всегда, когда бы он
того ни пожелал, созерцать в уменьшении суету большого города"'
(Балтрушайтис 1957:110).
Искусственность
парка проявляет себя в уменьшенности копии. Именно перепад размеров позволяет
отличать естественное от рукотворного25.
Эта китайская модель была широко использована в европейских парках XVIII века с
их изобилием маленьких храмов,
___________
25 О семиотических изменениях,
сопровождающих изменения в масштабах на примере так называемой 'уменьшенной
модели', см. Леви-Стросс 1962: 36
161
пирамид,
скал, водопадов и т.д. Сокуров любит включать в свои фильмы взгляд с высоты на
город, напоминающий свою уменьшенную модель. Подобный кадр есть и в 'Камне'.
Вытянутый силуэт Чехова возвышается здесь над лежащим внизу, под ним,
уменьшенным перспективой городом.
Возвращение
к себе, обнаружение себя в двойнике, увиденном другим, получает метафорическое
развитие в различных формах автомимесиса. Сцена из 'Вишневого сада', где белое
деревце имитирует облик матери Раневской (а по существу, ее собственный),
построена по тому же типу зеркального автомимесиса, в структуру которого
включен сад26 как мимикрирующая
природа. Чехов возвращается в свой мир как в сад, он приходит в некую
микромодель универсума, уже подверженную искусственному и отчуждающему процессу
автомимесиса.
Любопытно,
что в Ялте Чехов создает свой сад, так сказать, по типу уменьшенной
миметической модели мира. О. Л. Книппер пишет:
'С
помощью сестры Марии Павловны Антон Павлович сам рисует план сада, намечает,
где будет какое дерево, где скамеечка, выписывает со всех концов России
деревья, кустарники, фруктовые деревья, устраивает груши и яблони шпалерами
<...>. С большой любовью растил он березку, напоминавшую ему нашу
северную природу, ухаживал за штамбовыми розами и гордился ими, за посаженным
эвкалиптом около его любимой скамеечки, который, однако, недолго жил, так же
как березка. < ...> Были и японские деревца, развесистая слива с красными
листьями, крупнейших размеров смородина, были и виноград, и миндаль, и
пирамидальный тополь - все это принималось и росло с удивительной быстротой...'
(Книппер-Чехова 1960: 694).
Сад
Чехова - как раз такая искусственная модель природы, которая насаждается
писателем вопреки климату. Сад Чехова подражает образу сада.
Природа
насыщена автомиметическими процессами, среди которых, может быть, наиболее
зрелищный - мимикрия среди насекомых, когда насекомое начинает без всякой
видимой причины подражать внешнему облику иного насекомого или растения. Роже
Кайуа заметил:
____________
26 Сад является классическим местом
манифестации душ умерших. Еще в 'Песни о Роланде' жена короля Бана имеет
видение, что ее умершие сын и племянники находятся в прекрасном саду.
Показательно также, что при поминовении усопших во время католической мессы
говорится, что души в раю помещаются в 'прохладное место, полное света и покоя'
(in locum refrigerii, lucis et pacis). См. Ариec 1981: 7, 25-26. Зимний сад у
Сокурова перекликается с холодом райского сада.
162
'...В
мире живых существ существует закон чистого перевоплощения: склонность выдавать
себя за что-то или кого-то другого. Закон этот очевиден, неопровержим и ни в
коем случае не может быть объяснен биологической необходимостью, связанной с
борьбой за существование и естественным отбором' (Кайуа 1964: 75). В каком-то
смысле закон этот указывает на пути обретения собственной идентичности через
другого27. Другой тут задается как
Я-сам. Я-сам подвергается трансформации.
Жак
Лакан описал рассмотренную Кайуа ситуацию мимикрии (особенно в моменты соития и
борьбы со смертью) следующим образом:
'...Существо необыкновенным образом раскалывается на себя самого
и его видимость <...>, существо выдает из себя или получает от другого
что-то подобное маске, двойнику, обертке, скинутой с себя шкуре...' (Лакан 1990:122).
Эти
маски вступают в ситуацию обмена, в которую они включают травестию.
Может
быть, нечто сходное, но еще более изощренное, и происходит в возврате к себе,
увиденном извне. В метаморфозе Чехова мы имеем как раз мимикрию под себя
самого, пропущенную через собственное видение (собственный текст: пьесу). Чехов
как бы раздваивается на 'себя' и 'маску'. Ситуация здесь, хотя и в иных формах,
напоминает ту, с которой мы сталкивались у Гюго (см. главу 3). В 'Отверженных' происходило раздвоение
авторской инстанции, которая одновременно контролировала поведение персонажей
'сверху' и неотступно следила за ними, следуя по пятам. Персонаж в такой
перспективе становится как бы маской повествователя, одновременно видимой с
большого расстояния.
7
Мимикрия
вписана в чеховское тело как деформация; в большинстве кадров его тело несет на
себе печать оптического искажения. Оно вытянуто, ему придан вид готической
арабески. В сцене прогулки эта деформация приобретает особенно отчетливый
характер, так как вписывается черным графическим силуэтом в белизну сада,
припорошенного снегом.
_________
27 Нетрудно увидеть, что мимикрия
тесно связана с проблематикой вечного возвращения, поскольку через нее жизнь
постоянно имитирует себя, возвращается на круги своя, в терминах Делёза
осуществляет 'неподлинное повторение'. Отсюда в значительной степени и резко
отрицательное отношение Ницше к любого рода мимикрии. Мимикрия для Ницше - это
форма приспособления слабого, закон выживания, на котором основывается упадок
общества. См. главу 'Дарвин, Ницше, Кафка и проблема мимесиса' в работе: Норрис
1985: 53-72.
163
Снег
в саду - и фигура на его фоне, подобная росчерку каллиграфа. Как и у Гюго, тело
вдруг приобретает очертания буквы. Но если у Гюго буквы эти обнаруживались на
горе или в подземных лабиринтах, то в 'Камне' они возникают в саду. В принципе,
сад как устойчивая мифологическая модель универсума соотнесен мотивом мирового
древа с верхним миром (гора, небесный сад) и подземным миром (сады Адониса,
подземные сады, сады мертвых) (Цивьян 1983:146-147). То, что письмена возникают
именно в саду, - лишь свидетельство сакральности сада и его традиционной
соотнесенности с памятью.
Сад
к тому же традиционно считался выражением некоего 'гения места', который лишь
отражал наличие иного, более мощного духовного начала, стоящего за природой как
неким целым. Вергилий в 'Энеиде' писал о духе, создающем некое антропоморфное
единство природы:
Землю,
небесную твердь и просторы водной равнины,
Лунный блистающий шар, и Титана светоч, и звезды, -
Все питает душа, и дух, по членам разлитый...
(Вергилий 1971: 237; VI, 724-726)
Шефтсбери,
процитировавший это место из Вергилия, привел развернутое доказательство
соотнесенности природы с неким Гением, чье присутствие как будто сквозит через
саму структуру 'органо-морфности'. Доказательство Шефтсбери любопытно,
поскольку строится на основании воображаемой копии, симулякра: '...Если воск
или какое-нибудь другое вещество заключить в точную форму дерева и придать ему
те же краски и довести по возможности до той же плотности, будет ли здесь
настоящее дерево того же вида и рода? <... > Но если бы вы продолжали
должным образом расспрашивать меня и хотели бы, чтобы я удовлетворил ваше
желание узнать, что, как я думаю, составляет эту единость дерева и это
то-же-самое в нем или любом другом растении или чем отличается оно от восковой
фигуры или от любой другой фигуры, произведенной случаем, например, в облаках
или из песка на морском берегу, - то я бы сказал вам, что ни воск, ни песок, ни
облака, составленные в фигуру нашими руками или нашей фантазией, не имеют
никаких действительных соотношений внутри себя и не имеют никакой природы,
посредством которой у них при этом близком друг к другу расположении частей
возникала бы некая связь, превышающая ту, что существует между ними, когда эти
части просто разбросаны во все стороны' (Шефтсбери 1975:178-179). Эта соотнесенность
с органическим единством (вергилиевским 'духом, по членам разлитым') и есть
соотнесенность с Гением, ко-
164
торый
придает саду 'физиогномию' так же, как это делала Юлия у Руссо. Таким образом,
настоящей копией природы, то есть копией, сохраняющей связь с Гением, может
быть только органическая ее копия- сад, имеющая перед природой то преимущество,
что 'близкое расположение частей' здесь более очевидно, органика выявлена с
большей отчетливостью. Но эта миниатюризация природы в саде связывает ее не просто
с неким единым сверх-гением, но и с неким локальным 'гением места'. Шефтсбери
замечает: '..живой гений населяет всякое место <...>, и любой гений
непременно подчинен одному благому Гению...' (Шефтсбери 1975:179).
Цитированные
мной 'Моралисты' Шефтсбери были опубликованы в 1709 году, а в 1731 Александр
Поп в своем влиятельном 'Послании Лорду Барлингтону' (An Epistle to Lord
Burlington) советует при разбивке сада строго следовать наставлениям 'Гения
Места'28. Гений Места как бы ведет
рукой архитектора, разбивающего сад. Он вписывает в сад некое присутствие,
которое делает его не просто копией природы, но и копией духа, неким
'демоническим' местом встречи человека с природой, где природа при посредстве
Гения превращается в двойника человека.
Гений
места рисует природу в саду в соответствии с неким художественным замыслом, преобразуя природу в текст. Сад связан
с темой письма, потому что он 'нарисован', 'написан' в ландшафте. Но не только.
Мифической моделью сада является рай29.
Рай предполагает такую степень единства между человеком и природой, которая
делает язык ненужным. Рай исписан иконическими пиктограммами самого Бога30. Населяющие
его твари суть знаки божественной речи - знаки творения. Мишель де Серто
заметил:
'Не
есть ли изгнание из этого рая условие для дискурса? Чтобы сделать из него
текст, нужно было его потерять. Артикулируя его в речи, мы непрестанно
доказываем, что больше в нем не существуем' (Де
Серто 1982: 73).
_______________
28 'In all, let Nature never be forgot.
Consult the Genius of the Place in all,
That tells the Waters or to rise, or fall,
Or helps th' ambitious Hill the Heav'ns to scale,
Or scoops in circling Theatres the Vale,
Calls in the Country, catches opening Glades,
Joins willing Woods, and varies Shades from Shades,
Now breaks, or now directs, th' intending Lines;
Paints as you plant, and as you work,
Designs'
(Хант- Уиллис 1988: 212).
Отмечу,
между прочим, появление театра в этой подчиненной Гению Места копии природы.
29 В античной традиции
сад описывается как locus amoenus - место услады, которое начиная со
средних веков устойчиво связывается с раем. См. Курциус 1986, т. 1:317-322.
30 Бог может
аллегорически изображаться в виде садовника, ухаживающего за садом (см. Цивьян
1983: 147), и в виде все того же Гения Места.
165
Изгнание
и возвращение в райский сад становятся поэтому условием речи. Удвоение, как
важнейший механизм построения дискурса, связано с повторением этого
мифологического опыта. Сад потому вожделенное место, что он метафорически
воссоздает ситуацию обретения райского состояния бессловесности, дословесности,
хайдеггеровского 'первичного опыта'. Сад наслаждений- hortus voluptatis - весь
основан на повторе того опыта, который не был пережит и существует лишь в
смутных 'воспоминаниях'. Дискурс парадоксально возникает не просто в результате
изгнания из рая, но и вследствие этого таинственного возвращения к
додискурсивному. В этом и заключено райское наслаждение 'дискурсивного
возвращения'. Более того, само это 'возвращение' уже вписывает в сад некую
театральную сцену, подобно тому как воспоминания буквально гальванизируют театр
в 'Элизии' Юлии у Руссо. Рай вписан в сад как его 'иная' сцена, он уже есть письмо31.
Рай
в европейской традиции тесно связан с тематикой путешествия, паломничества,
движения. Как показал М. X. Абрамс, неоплатонические идеи о неком первичном
единстве, нарушенном человеком, легли в основу европейской мифологии
возвращения к этому первоначальному единству, к истоку. Этот неоплатонический
миф был спроецирован на целый ряд текстов, в том числе и таких древних, как
библейская притча о блудном сыне или 'Одиссея', где возвращение героя уподоблялось
обретению 'единого'32. Человек после
грехопадения описывался как изгнанник, бредущий в поисках утерянного рая
паломник (Абраме 1973: 143-168). Рай всегда был местом истока и вожделенного
возвращения.
В
фильме Сокурова нам неожиданно предстает заснеженный сад. Снег лежит на листьях
пальм, скрывая собой 'райскую' расти-
___________
31 О саде как месте письма см. Марен
1992: 71. Марен ссылается на описание сада в 'Поле и Виргинии' Бернардена де
Сен-Пьера, которое заслуживает пространной цитаты: 'Ничто так не приятно, как
имена, даваемые большинству очаровательных уголков этого лабиринта. Та скала, о
которой я только что вам рассказал, откуда издалека было видно мое приближение,
называлась открытие Дружбы. Во время
игр Поль и Виргиния посадили там бамбук <...>. Мне пришла в голову идея
выгравировать надпись на стволе этого тростника. Какое бы удовольствие я ни
получал во время своих путешествий от вида статуи или античного памятника, еще
большее удовольствие я получал от чтения хорошо сделанной надписи: тогда мне
казалось, что человеческий голос раздается из камня и слышится через века и,
обращаясь к человеку посреди пустыни, говорит ему, что он не один, что иные
люди в тех же местах чувствовали, мыслили и страдали как и он...' (Бернарден де
Сен-Пьер 1959: 60-61). Надпись как бы вписывает иное тело в то место, где
находится читающий ее человек.
32 В контексте
интересующей нас темы существенны два момента - неузнавание Одиссея, те
фундаментальные изменения во внешности, которые он претерпел во время своего,
по выражению Абрамса, 'кругового путешествия', а также то, что блудный сын
описывается как умерший и оживший (Лука, XV, 24).
166
тельность
юга. Эта зима в южном саду, конечно, отмечена всеми признаками ненастоящести,
мнимости. Времена года симулировались в классических парках XVIII века, где,
скажем, специально создавались зимние ландшафты, составленные из сосен, елей,
кедров и т.д. (Балтрушайтис 1957: 112)33.
У Сокурова снег в ялтинском парке также относится к репертуару симулякров.
Его
белизна вновь отсылает нас к 'Вишневому саду', где сад описывается как
совершенно белый, то есть в том состоянии, которое предшествует всякому опыту,
и ассоциируется с детством как временем до
воспоминаний:
'Любовь
Андреевна (глядит в окно на сад). О
мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад,
счастье просыпалось вместе со мной каждое утро, и тогда он был точно таким,
ничто не изменилось. (Смеется от
радости.) Весь, весь белый! О сад мой! <... > Если бы снять с груди и
с плеч моих тяжелый камень, если бы я
могла забыть мое прошлое!' (Чехов 1963, т. 9: 620)34.
Сад
в чеховской пьесе, будучи главным местом воспоминаний, симулирует отсутствие
памяти. Белизна - странное автомиметическое преобразование сада, скрывающее под
своей незапятнанностью все следы. Камень в реплике Раневской (чрезвычайно
существенно, конечно, использование этого ключевого для Сокурова слова)
символизирует память, возвращение, повторение, снимаемые призрачной белизной
симулякра. Белизна сада - симуляция образа Эдема в мифологии памяти - райского
места до опыта, до дискурса35.
_______________
33 Идея имитации времен года в садах
была также позаимствована Европой у фантастических китайских прототипов. Китай
в данном случае выступает такой же формой удвоения, отчуждения природы, как и
пейзажи Лоррена или Розы. Любопытно, что и Сокуров в своей игре симулякров как
будто отсылает к Китаю, включая в фильм некоторые кадры, почти имитирующие
китайские пейзажи с туманами. Цапля, кажется, тоже относится к этому
репертуару.
34 Сбрасывание камня -
само по себе является ритуальной очистительной процедурой, освобождением
памяти. Набрасывание камней на могилу, например, в целом ряде архаических
культур, по-видимому, обозначало 'освобождение' от оскверняющего присутствия
мертвеца, магическое очищение памяти. Джеймс Фрэзер так описывает смысл
бросания камней для представителя архаической культуры: '...Он воображает, что
он может избавиться от тревожащего, отдирая его от кожи или вырывая из тела и
передавая его некой материальной субстанции, либо палке, камню, либо чему-либо
иному, что он может отбросить от себя и таким образом освободиться от своей
ноши, с легким сердцем уйти прочь от пугающего места. Вот почему бросание палок
или камней может быть формой церемониального очищения...' (Фрэзер 1964: 593)
35 Симпликий так
характеризовал греческие симулякры сада- 'сады Адониса': 'Существуют сады,
которые предстают глазам глупца в буйстве цветения, но уже через несколько дней
от них ничего не остается'. Марсель Детьен прибавляет к этому комментарию: 'Их
зелень, цветущая видимость скрывают за собой лишь смерть и запустение: они сады
из камня' (Детьен 1977: 104).
167
Снег скрывает собой
сад, набрасывает на него вуаль. Он покрывает его белым слоем, с очевидностью
отсылающим и к белизне бумаги. Несколько раньше режиссер показывал Чехова за
столом, пробующим бумагу, но так и не рискующим нанести на нее знаки письма. В
зимнем саду же сам он, его черный силуэт, превращается в иероглиф на белом фоне
снега. Возвращение реализуется не в формах литературного письма (дискурса), но
в формах письма телесного, когда фигура самого писателя преображается в
письменный значок первоначального, райского, но утерянного и с трудом
вспоминаемого текста. Оптическая деформация изображения - это и след
превращения самой фигуры Чехова в своего рода кинематографическую каллиграмму.
Вернемся
еще раз к проблематике камня и пространства. Тот факт, что пространство фильма
не кристаллизуется в камере-обскуре, а создается падением, вписывает в него
некое динамическое различие. Такое пространство заключает в себе
предшествование. Траектория движения камня строится из точек его бывшего
местоположения. Каждая новая точка, новая локализация имеют смысл лишь
постольку, поскольку они маркируют последующее положение тела как отличное от
предыдущего. Траектория - это, по существу, память падения. Пространство,
динамически разворачивающееся в движении, будучи, как я отмечал,
антимиметическим, строится именно на различии внутри себя самого, на
интериоризации различия. Это пространство автомимесиса.
Поскольку
плоскость, прочерченная падением, принадлежит к сфере различия, письмо,
возникающее на этой плоскости, - также особого рода. Описывая странные
вытянутые фигуры в 'Саде наслаждений' Босха, де Серто замечает, что они
являются 'прекрасным,
но нечитаемым письмом. Они пишут, но не
"говорят". <...> это не слова, не смыслы, но молчаливые графы,
прямые, наклоненные, переворачиваемые и движимые, пишущие самих себя, хоть
никто и не знает, что именно они пишут. Потерянные в себе самих, они скорее
вычерчивают музыкальность форм - глоссографию и каллиграфию' (Де Серто 1982: 97).
'Нечитаемость',
'потерянность в себе самих' - знаки автомиметического процесса, в основном
протекающего в сфере различий. Язык этого процесса принадлежит сфере
деформаций, области диаграмматизма. Он отрицает мир копий, мир внешнего
дублирования и репрезентации. Вот почему фигуры Босха молчаливы - они
существуют вне дублирования изображения словом, они относятся к сфере письма -
графем, следов, диаграмм. Как и фигура Чехова в 'Камне', они молчат, они
восстанавливают антирепрезентативную бессловесность, о которой говорил Деррида
в связи с театром Арто, они несут на себе знак воспоминания, повтора,
переживания досло-
168
весного
бытия. Повтор реализуется тут именно как письмо, заумная каллиграфия. Повтор
придает бытию форму письма.
Сокуров
не позволяет писателю вернуться в качестве писателя, то есть пишущего, но дает
ему вернуться в виде знака телесного письма, иероглифической каллиграммы,
диаграммы, искаженной и нанесенной на эфемерную вуаль удвоения.
Белизна
снега, страницы - знаки чистоты, отсутствия прошлого. Тело вписывает себя в эту
белизну. Белизна отрицает повторение. Память стерта. Белое лицо мима, как пишет
Жак Деррида, также отрицает повторение: 'Здесь нет имитации. Мим ничего не
имитирует. <... > Ничто не существует до письма его жестов' (Деррида
1972: 239). Белизна обозначает амнезию, отсутствие предшествующего текста. Но
именно они и создают условия для самоподражания, для подражания как такового,
только и возможного благодаря этой белизне, этому зиянию пустоты, которая,
стирая прошлое, воспоминание, оставляет место для чистого различия между собой
и... собой.
Белизна
- это вуаль, скрывающая то, что предшествовало, она создает идеальные условия
для письма как автомимесиса и в этом смысле она подобна зеркалу, в котором
чистое удвоение, повторение, самоимитация реализуют себя вне воспоминаний, вне
прошлого. Уплощение пространства в сокуровском фильме, та иллюзия пленки,
мембраны, о которой я уже говорил, также создают своеобразную вуаль перед
изображением. Она соотносится с ощущением зеркальной амальгамы, воспроизводящей
повтор без прошлого, несмотря на ее видимую соотнесенность с воспоминаниями.
Прогулка
Чехова в зимнем саду позволяет иначе интерпретировать мотив утерянной памяти,
разработанный в сценах внутри дома. Долгий кадр, где Чехов сидит на лавке
запорошенного снегом сада и будто сам постепенно исчезает под слоем падающего
снега, может быть интерпретирован именно как эпизод амнезии, забвения. Сад
хорошо знаком его бывшему владельцу, но слой снега скрыл сад, сделал его
неузнаваемым, стер память.
Исчезновение
прошлого, воцарение белизны, согласно Деррида, концентрируют семантику в
'складке' - то есть в чисто диаграмматической форме нарушения (изменения)
темпоральности, про-странственности, в чистой форме различия и т. д.
Мы
оказываемся перед лицом странной симулятивной мимо-драмы, как раз внутри того
антимиметического пространства, о котором я упоминал в связи с камнем.
Показательно, что именно в зимнем саду у Чехова практически 'исчезает' лицо -
локус всех предшествующих метаморфоз. Режиссер надевает на голову своего героя
шляпу с широкими полями, скрывающими лицо в тени. Сквозь живое тело человека
проступает каменный колоссос:
имитация исчезает за чисто качественными характеристиками простран-
169
ства
- холодом, неподвижностью, которые одновременно являются и атрибутами смерти и
атрибутами камня.
Я
описывал камень в контексте деформирующего, растягивающего, динамического
зрения, камень, создающий в падении поверхность. Речь здесь также идет о некой
диаграмматической процедуре, смысл которой в искажающей деформации
пространства, маркирующей рождение зрения, его незамутненность, отсутствие
прошлого. Падение камня как пространственная и смысловая метафора находится в
прямой связи с белизной амнезического сада, на незапятнанном листе которого
иероглифическая фигура Чехова - только складка.
Вальтер
Беньямин цитирует следующий фрагмент из 'Дневника соблазнителя' Кьеркегора:
'Середина
и рамка оказывают на нас большое влияние; они - именно то, что врезается,
укореняется в памяти или, вернее, во всей душе и чего нельзя забыть. Как бы
долго я ни прожил, я всегда буду представлять Корделию лишь в этой маленькой
комнате' (Беньямин 1989: 237). Память связана с оптической конструкцией,
которая покоится на стабильном центре и неподвижной рамке (вспомним
мандельштамовскую 'камеру-обскуру' или анфиладу комнат у Генри Джеймса).
Память, как уже говорилось, вписана в театральное пространство, в некую 'другую
сцену'. Динамическое пространство, парадоксально разворачиваемое падением или
создающееся 'складкой', противостоит памяти. Это пространство без прошлого,
ценное как раз тем, что оно отделяет автомимесис от воспоминания. Это
пространство диаграммы как чистого различия с самим собой.
'Референт
уничтожается, но референция остается: остается лишь письмо сновидений, вымысел,
не относящийся к воображению, копирование без подражания, без правдоподобия,
без истинности и лживости, копирование видимости без скрытой реальности мира за
ней, а потому и без видимости: "ложная
видимость... " Остаются лишь следы, предвосхищения и воспоминания,
предвосхищения и следствия, за которыми не следует и которым не предшествует
настоящее и которые не могут быть выстроены в линию вокруг точки, следы тут
предшествуют, там напоминают, они относятся к будущему и прошедшему в ложном обличий настоящего' (Деррида
1972:260).
Складка-
загадочное явление, всегда связанное с оборотной стороной ткани, оборотной
стороной бытия. Жиль Делёз пишет:
'Идеальная
складка, таким образом, является Zwiefalt, складкой, которая дифференцирует и
самодифференцируется. Когда Хайдеггер ссылается на Zwiefalt как на
дифференциатора различия, он прежде всего имеет в виду,
170
что
эта дифференциация отсылает не к недифференцируемому истоку, но к Различию,
которое непрерывно разглаживает и сминает обе стороны и которое, разглаживая
одну сторону, непременно сминает другую в неразделимом раскрытии и сокрытии
Бытия, присутствия и исчезновения бытия' (Делёз 1988а:40)36.
Белизна
(знак небытия и первоистока, начала), как и складка, материализует идею
взаимозависимости присутствия и отсутствия, амнезии (забвения) и рождения (еще
не начатого). Она по-своему снимает противоречие между повторением как
обретением истока и воспоминанием. Складка соединяет внутреннее и внешнее - дом
и сад, память и мимикрию, бытие и небытие. Но ее функционирование целиком
зависит от некоего деформирующего жеста - 'непрерывно разглаживающего и
сминающего'. Автомимесис выражает себя в этой диаграмматической деформации
пространства и тела, которое в него помещено.
______________
36 Хайдеггер
разработал понятие 'складки' под влиянием Парменида и его понимания складки как
метафоры взаимосвязанности бытия и небытия. - Хайдеггер 1984:89-101.
Глава 5. ЧУЖОЙ ГОЛОС, ЧУЖОЕ ЛИЦО
В
предыдущей главе речь шла о диаграммах автомимесиса, о деформациях, отражавших
несовпадение самого себя с самим собой, о следах внутреннего различия,
вводимого в 'Я' отсутствием, смертью, некой фундаментальной цезурой в непрерывности
существования.
В
этой главе речь пойдет об иной форме деформации - различиях, вносимых в
телесность несовпадением 'Я' визуального с 'Я' акустическим. Этот вид
деформаций я определяю как 'химеричность телесности'. Материалом вновь послужит
кинематограф, но в данном случае не некий конкретный фильм, а такое хорошо
знакомое явление, как дубляж - подкладывание голоса одного актера под
изображение другого. Вернее, два текста о дубляже, написанные в начале
тридцатых годов. Один из них был написан Антоненом Арто, второй - Хорхе Луисом Борхесом1.
1. Поедание/говорение: Арто
Статья
Арто 'Страдания
"dubbing'a"' была,
вероятно, написана в 1933 году, при жизни автора не публиковалась и была
обнаружена вскоре после его смерти в 1948 году. На первый взгляд она
представляется незамысловатым заступничеством за тех французских актеров,
которые за бесценок продавали свои голоса американским фирмам, занявшимся
дубляжом своей кинопродукции. Внимательное знакомство с текстом позволяет
увидеть в ней более широкий комплекс проблем.
19
апреля 1929 года Арто сообщает в письме Ивонн Аланди о том, что он кончает
работу над сценарием фильма 'Диббук', который заключает в себе 'звуковые
фрагменты':
'Я
решил вводить во все мои сценарии звуковые и даже говорящие части, так как
возникло такое стремление к говорящему
кино, что через год-два никто больше
не захочет немых фильмов' (Арто 1978:151), - пишет он. Сценарий 'Диббука' не
сохранился, но само его название красноречиво. Диббук - персонаж еврейского
фольклора, дух умершего,
________
1 Тексты Арто и Борхеса см. в
Приложении.
172
поселившийся
в теле живого и говорящий его устами. Дух мертвеца мучает живого, заставляет
его корчиться и кричать, вынуждает его уста богохульствовать помимо его воли.
Диббук является своеобразной разновидностью 'демона', оказывающего силовое
воздействие на тело своего двойника совсем в духе разобранного выше (глава 2) эпизода
из романа Рильке. Нетрудно понять, что этот фольклорный персонаж по-своему
перекликается с проблематикой дубляжа, хотя и представляет ее в 'перевернутом'
виде: в дубляже экранная звезда, видимая на экране, отнимает голос у живого
актера, который старается вписать движения своего рта в чужую, 'готовую'
артикуляцию. В диббуке голос мертвеца поселяется в живом теле и заставляет губы
двигаться как бы вслед за звуком. И все же в основе своей ситуация и тут и там
сходная: голос живет в чужом теле. Можно предположить, что Арто с его любовью к
анаграммам2 вообще идентифицировал
одно с другим, не случайно сохраняя иностранное, английское написание слова
'дубляж': dubbing-dibbouk. Характерен и явно сатанинский подтекст статьи о
дубляже, где речь идет о чем-то 'совершенно дьявольском' - похищении личности,
души.
Вопрос
о взаимной чужеродности голоса и тела был для Арто отнюдь не академическим, он
касался самой сути тех проблем, которые стояли перед ним, мучали его и в конце
концов привели к безумию. Для Арто характерно недоверие к звучащему слову,
связанное с тем, что слово существовало до высказывающегося, его происхождение
неясно, оно как бы подсказывается, говорится другим, предшественником, демоном,
в нем говорящий теряет свою идентичность. Слово - всегда 'неподлинное'
повторение, оно никогда не возникает из самого тела говорящего. Отсюда
стремление Арто укоренить слово в теле, в дыхании, в жесте, восстановить
телесность и индивидуальность его истока. Речь идет о том, чтобы не допустить
'кражи слова'. Жак Деррида так описывает дилемму Арто:
'Если
мое слово - не мое дыхание, если моя буква - не мое слово, то это значит, что
мое дыхание больше не было моим телом, мое тело - моим жестом, мой жест - моей
жизнью. В театре следует восстановить целостность моей разорванной всеми этими
различиями плоти' (Деррида 1967: 267).
Но
установка на снятие различий между словом и жестом, голосом и плотью,
формирующая поэтику Арто, в дубляже сталкивается со своей противоположностью ~
сознательным разъятием голоса и тела, с повтором как принципом, согласно
которому слова переводятся с языка на язык (перестают быть иллюзорно своими) и
заученно воспроизводятся. Снятие различий, о котором говорит Деррида, формирует
особую 'речь-аффект', непосредственно возника-
_________
2 О связи звукового и визуального в
кинематографических опытах Арто см. Ямпольский 1993: 43-53.
173
ющую
из тела и с наибольшей полнотой воплощенную в крике, вопле, стенании.
В
этом смысле стон, конвульсии, крики тела, полоненного диббуком, как бы
восстанавливают единство тела и голоса, хотя это восстановление и проходит в
режиме предельного расслоения на 'меня' и 'другого'. В диббуке крик и
конвульсии - это диаграмматический шов, восстанавливающий насильственно
нарушенное единство. Крик и судороги одержимого здесь- это знаки единства, в
принципе созданные первоначальным раздвоением. Речь идет о задаче, так
сформулированной Делёзом:
'...Превратить
слово в действие, сделав его неразложимым, не поддающимся дезинтеграции: речью без членений' (Делёз 1969:267).
Речь-аффект
- в значительной степени утопия, как утопией является мираж некоего
фундаментального единства тела и звука, 'Я' и тела. Дубляж же, осуждаемый Арто,
изначально блокирует ее проявление. И это объясняется не только отсутствием
видимого тела говорящего, но и своеобразной техникой дубляжа, всецело
ориентированной на максимально полную имитацию речевой артикуляции. Дублирующий
артист не просто имитирует речь на экране, он как бы следует за говорящим в
каждом его артикуляционном жесте. Арто уделяет особое внимание артикуляционной
технике синхронизаторов - игре 'лицевых мышц актеров', одновременному открытию
рта, 'аналогичному трепету лица'.
На
первый взгляд, эта мышечная техника, этот культ произношения увязывают речь с
телом, физикой актера. Однако Арто прежде всего видит в них методику членения
речи, гипертрофию артикуляционного момента. В 1931 году он публикует рецензию
на фильм Жана Клемма 'Польский еврей' (1931) с участием известного актера Арри
Бора. В ней он подвергает жесткой критике детализированную мимическую игру
протагониста:
'Нужно
видеть, как эта голова вдруг и как будто по воле случая подвергается
чудовищному обвалу мускульных движений, как если бы посреди морального
выражения страдания, угрызений, наваждений, страха возникла лишь игра мускулов,
сорвавшихся с места подобно лошадям. <┘> Жизнь звучит, когда она
достигает определенного градуса трагической выразительности, это звук самого
дикого неистовства, отнюдь не безмятежный и неизменно направленный вовне.
Подлинная драматическая игра - это не калейдоскоп выражений, демонстрируемых то
одним, то другим мускулом, или грубо разделенными отдельными криками' (Арто
1978:80).
'Телесное'
для Арто начинается там, где кончается дифференциация, членение. Само тело в
силу этого становится в той же мере нечленимым, как и речь. Делёз определяет
такую телесность как
174
шизофреническую3. Моделью ее является тело без членов, тело без
органов. Такое тело противопоставляет любой расчлененности поток жидкости,
любой членораздельной речи - недифференцированное мычание или крик. Арто с его
навязчивым стремлением восстановить некое первичное единство безусловно
относится к такому шизофреническому типу телесности. Для него характерен призыв
сформулированный в романе 'Гелиогабал, или Коронованный анархист':
'Обладать
чувством глубокого единства вещей означает обладать чувством анархии - и
предпринимать усилия по редуцированию вещей, сводя их к единству. Тот, кто
обладает чувством единства, тот обладает и чувством множественности вещей, всей
той пыли аспектов, через которые нужно пройти, чтобы их редуцировать и
разрушить' (Арто 1979: 45).
Чувство
единства, о котором говорит Арто, проходит через чувство множественности,
многоликости аспектов, через чувство постоянно редуцируемого удвоения.
Множественность у Арто - это жидкая, текучая неустойчивость, множественность,
через которую проходит Единое в своем становлении. Делёз и Гваттари отмечают
странность Единого у Арто, с неизбежностью проходящего через множественность
(Делёз - Гваттари 1987:158).
Десять
лет спустя после написания статьи о дубляже, уже будучи в психиатрической
лечебнице в Родезе, Арто в письме доктору Фердьеру (29 марта 1943 г.) изложил
теорию о роли демонов и двойников (множественности) в творчестве (достижении
единого). Арто пишет о том, что каждый настоящий поэт одержим демонами, которых
он разделяет на две категории - демонов (demons) и дэймонов (daimons). Демоны
посылаются некими силами,
'среди
которых они перемешаны с дэймонами -
вызревающими силами в процессе превращения в существа. Это значит, что демоны -
не что иное, как ложные дэймоны, а следовательно и ложные силы...' (Арто 1977:
33). Двойники у Арто смешаны друг с другом, они слиты как некие силы,
находящиеся в процессе метаморфозы. Одно лицо здесь выглядывает из-за другого в
некой текучей нераздельности. Отсюда и неприятие в игре Бора каких-либо
разделов, границ. Тело актера должно быть объединено с телом персонажа, как
система проваливающихся один в другой 'атмосферических', текучих демонов или
сил, как система эластических трансформаций.
Арто
в равной мере не приемлет ни раздельности, расчлененности звуков (криков), ни
разделенноеT мускулов лица. Отрицание поверхности проявляется и в еще одном
существенном замечании:
__________
3 Об отношении Арто к шизофреническим
телесности и сознанию см Делёз-Гваттари 1983 15
175
'звук
жизни', согласно Арто, не направляется вовне, он как бы поглощается телом,
заглатывается им. Делёз так описывает 'шизофренический' телесный язык в
понимании Арто:
'Первое
свидетельство шизофрении заключается в том, что поверхность продырявлена. Нет
больше границы между вещами и предложениями, ее нет именно потому, что больше
нет поверхности тел. Первый облик шизофренического тела - это тело-сито: Фрейд
подчеркивал способность шизофреника представлять поверхность и кожу как будто
пробитыми бесконечным множеством маленьких дь1р. В результате все тело
оказывается сплошной глубиной, оно уносит, втягивает все вещи в эту зияющую
глубину, выражающую основополагающую инволюцию. Все - тело и телесность. Все -
смешение тел и в теле, заглатывание, проникновение' (Делёз 1969:117). Эта одна
из причин того, что 'звук жизни' не направлен вовне, а лицевой покров лишается
игры поверхностных мускулов. Ужас, испытываемый Арто от одного вида
дублированного фильма, возникает как реакция на фундаментальное противоречие
между внешним, артикуляционным характером синхронизаторской техники,
маниакальным вниманием к микродвижениям рта, угадываемым в речи актеров, и
таким свойством актерского тела, как его способность съедать, проглатывать
голос другого. Эта способность к поеданию голоса, его втягиванию внутрь хорошо
выражена финальной метафорой статьи - образом Молоха, 'поглотившего все'.
Для
текста Арто характерно особое, почти физиологическое внимание к облику и движениям
актерского рта. Действительно, если главным локусом визуального монтажного кода
являются глаза (направление взгляда во многом ответственно за пространственную
ориентацию сцены), то основным локусом кода дубляжа является рот и
синхронизация его движений со звучанием речи. Арто стремится создать образ
некоего рта, отдельного от лица и тела, прибегая при этом к особого рода
эпитетам: 'тяжелый рот Марлен Дитрих', 'мясистый и твердый - Джоан Кроуфорд',
'лошадиный рот Греты Гарбо'. Все эти рты изящных див тяжелы, мясисты, - это рты
каннибалов, не столько приспособленные для речи, сколько - для поедания.
Тяжелая
мясистость ртов на женских лицах призвана создавать ощущение их несоответствия
идеальной красоте звезд, ощущение их плотоядности, изолированности в качестве
неких 'отдельных' органов поглощения. Эпитеты Арто вводят в облик красавиц
странный сдвиг, аналогичный тому, который наблюдается при отсутствии
соответствия звука и артикуляции, когда 'американская звезда вскрикивала и
закрывала рот', а 'в динамиках слышался грохот раскатистого ругательства',
когда 'звезда, покусывая губы, издавала что-то вроде присвиста', а 'слышался
гулкий бас, шепот или бог
176
знает
что'. Несоответствие рта лицу выступает как телесный аналог несоответствия
звука артикуляции. Чужой звук аналогичен чужому рту на лице.
Пьер
Клоссовски в романе 'Отмена Нантского эдикта' рассуждает о солецизме
(синтаксическом несоответствии) жестов в живописи:
'Но
если существует такой солецизм, если фигуры неким жестом выражают нечто противоположное,
то нужно, чтобы они что-то говорили, дабы это противоположное стало ощутимым;
но, будучи нарисованными, они молчат; не следует ли в таком случае зрителю
заговорить за них, чтобы почувствовать противоположность того жеста, который он
у них наблюдает?' (Клоссовски 1972:9-10).
Обнаружение
телесного солецизма (несоответствия, нарушенности, смысловой парадоксальности)
у Клоссовского возникает через своеобразную методику дубляжа, озвучивания
рисованных фигур. При этом неважно, что именно говорит зритель. Существенно
лишь одно - это чужая речь, речь, навязанная извне персонажам полотен.
Чужеродности речи достаточно, чтобы нарушить органику тела, чтобы Грета Гарбо
получила чужой, 'лошадиный рот'.
Солецизм
жеста у Клоссовского основывается на неких формах членения речи, хотя по
существу противостоит им. Делёз заметил, что у Клоссовского (почти как у
Гоголя) речь объединена с телом тем, что и в том и в другом есть членения,
сгибы, 'флексии'.
'Если
тела имитируют речь, то не органами, но сгибами. Существует целая пантомима,
внутренне присущая речи <...>
внутренний рассказ тела. Если жесты и говорят, то потому, что слова имитируют
жесты...' (Делёз 1969:386).
Однако
полного повторения словесной 'артикуляции' в телесной 'артикуляции' добиться
невозможно. Мы имеем здесь дело с недостижимой мимикрией, постоянно срывающейся
в солецизм. Дубляж весь построен на принципе повторения артикуляционного жеста, движения губ, которое должно
произвести иной звук, иные слова. Идеальный дубляж - это такая техника, в
которой абсолютное повторение секвенции телесных 'сгибов', движений губ, будет
соответствовать иной системе словесных 'флексий'. Однако повторение здесь
оказывается невозможным: ни идеальное повторение речевой мимики актера, ни
сочленение этой мимики с флексиями слов. В итоге микрожест здесь как бы
противоречит самому себе и жестикуляционной синтагме всего тела, он реализуется
как отрицание, 'стирание' членения или, вернее, как негативное членение.
Главный
же солецизм рта в дубляже заключается в противоположности его функций. Будучи
органом речи, он выдыхает звук, производит речь вовне. Будучи органом поедания, поглощающим
177
телесным
отверстием, он как бы втягивает звук в себя, съедает голос. Отсюда
двойственность его облика - орган речи предстает как орган поедания - 'тяжелый,
мясистый'. В этой двойственности и заключен его фундаментальный солецизм. Как
иронически заметил Сигизмунд Кржижановский, нескольким смыслам 'тесно в одном
рте'.
В
рассказе Карен Бликсен (Исаака Динезена) 'Эхо' излагается история певицы
Пеллегрины Леони, потерявшей голос и неожиданно нашедшей в глухом горном
городишке мальчика Эмануэле, поющего ее старым, утерянным голосом. Леони
начинает обучать мальчика, который постепенно становится ее alter ego,
'обнаруживая пронзительное с нею сходство'. Эмануэле выступает как своего рода
'экранный образ', озвученный извне Пеллегриной Леони. Он признается: 'Я услышал
свой собственный голос, только он шел извне' (Бликсен 1990: 156). Но эта
квазикинематографическая игра голосов и тел сопровождается странным нарастанием
плотоядных, вам-пирических мотивов. Леони экзаменует тело Эмануэле во время
первой их встречи:
'...Крупный
рот, мягкие, чуткие губы и подвижный язык, в меру длинный и в меру короткий'
(Бликсен 1990:145). Это обследование вызывает у певицы неожиданную реакцию:
'Теперь
он мой, ему от меня не уйти!' По мере развертывания рассказа постепенное
проникновение голоса Леони в плоть Эмануэле, подобное вампирическому овладению
жертвой, приводит к деформации идеально прекрасного детского лица:
'Лицо,
обращенное к ней, было приплюснуто, точно по нему прошлись чем-то тяжелым,
побелевшие, вылинявшие глаза под скошенными бровями - как у слепца. Лицо - с
кулачок, старушечье' (Бликсен 1990: 158). Чужой голос формирует этот солецизм
лица, описанный именно как деформация, как диаграмматическое изменение извне
('по нему прошлись чем-то тяжелым') Но это отяжеление лица возникает как эхо
первоначального явления рта - 'крупный рот'. Чужой голос сначала ложится в
чужой рот, который затем трансформирует всю внешность, делает ее чужой, 'непохожей',
отчужденной от самого себя. Во внешность вводится некая деформирующая цезура, и
внешность изменяется и тяжелеет, каменеет. 'Тяжелый рот' Мар-лен Дитрих у Арто
также возникает в результате поглощения им чужого, 'французского' голоса.
Поглощение
чужого голоса, чужого дыхания равнозначно краже собственного дыхания,
собственной телесности, идентичности и в пределе - жизни.
Ахилл заявляет в 'Илиаде':
178
Душу ж назад возвратить невозможно; души не стяжаешь,
Вновь не уловишь ее, как однажды из уст улетела
(Гомер 1978: 179;
IX, 408-409).
Жан Старобински так комментирует этот пассаж:
'Удерживать
дыхание, помешать ему навсегда пересечь границу зубов: элементарная- но
основополагающая - форма контроля над границами, где разделяются личное
"внутри" и "снаружи"' (Старобински 1974:13). Голос,
уходящий из тела, слышимый извне, уже означает начало трансформации телесности.
Голос, изливаясь из тела, нарушает незыблемость разделения внутреннего и
внешнего, размывает границы человеческой идентичности.
Известно,
что звук в кино функционирует сходно с тем, как работают чревовещатели. Голоса,
поступающие из спрятанных громкоговорителей, приписываются зрителями
шевелящимся губам персонажей на экране (см. Олтмен 1992). Чревовещатель,
оживляя куклу, исполняет несколько операций. С одной стороны, он не разжимает
собственного рта, и вместе с тем направляет звук в нужную ему сторону. Это
свойство направлять голос, заставлять его звучать извне называется на языке
вентрилоков 'полетностью'. Чревовещатель так описывает 'полетность':
'Способность
посылать голос вдаль в определенном направлении, перемещать его в любую точку
основывается на использовании органов-резонаторов: полости рта, глотки, мягкого
неба. Комбинируя их, я не только
усиливаю, регулирую звук, но и посылаю его в нужном направлении, на необходимую
дистанцию' (Донская 1990: 39). Полость рта в данном случае не просто усиливает
звук, производимый голосовыми связками, она как бы имитирует внешний объем -
комнату, например. Ротовая полость создает с помощью специальных манипуляций
вентрилока такую систему акустических отражений, которая имитирует баланс
прямых и отраженных звуковых волн в комнате. И эта звуковая имитация внешнего
внутри тела позволяет создавать иллюзию смещенности источника звука вовне. Весь
процесс здесь строится как мимесис инверсии внутреннего во внешнее.
Герой
готического романа Чарльза Брокдена Брауна 'Виланд, или Превращение' (1798)
'билоквист' Карвин обучается чревовещанию, непосредственно подражая эху в
горах. Он пытается так 'перестроить' свой артикуляционный аппарат, чтобы с его
помощью производить 'реверберацию' и эхо, дистанцируя голос от самого себя.
Такая операция требует уничтожения источника звука, который идентифицируется
Карвином с местом смыкания языка с небом или зубами:
'Участие
зубов, неба и языка могло бы показаться обязательным для формирования речи, и
тем не менее
179
люди
отчетливо говорили без языка, а следовательно и без участия зубов и неба.
Диапазон движений, необходимых для этого, до конца не проявлен и неизвестен
тем, кто обладает этим органом' (Браун 1926: 282). Вибрация источника звука
заменяется вибрацией всего акустического объема. Источник как бы расплывается в
пространстве, а вместе с тем происходит и размывание границы говорящего
индивида. Поскольку звук больше не может быть привязан к некой точке
(источнику), он ассимилирует любые тела, оказавшиеся в звучащем пространстве.
Внешнее пространство оказывается огромным вибрирующим ртом, заглатывающим в
себя любое количество чужеродных тел, вибрирующих с ним в унисон и по существу
уже неотличимых от него.
Кроме
того, процесс деформации как выворачивания накладывается на деформацию некоего речевого проекта. Последняя возникает в
силу того, что чужой голос проявляет себя в микронесоответствиях звука речевой
мимике. Эти несоответствия обозначают сдвиг в звучании по отношению к
производству фонем. Лишь постепенно эти микродеформации как бы прорастают на
лице, подчиняя себе всю его поверхность, уродуя его черты, как бы выворачивая
их наизнанку.
В
дубляже мимика уже изначально искажена по отношению к звучанию, лицо уже
подвергнуто едва зримым деформациям. Все происходит как будто по модели,
описанной кабалистом XIII века Авраамом Абулафиа, утверждавшим, что каждому
звуку речи соответствует определенный телесный орган:
'...Человек
должен быть особенно внимательным, чтобы не сдвинуть согласную или гласную с их
места, так как если он ошибается при чтении буквы, управляющей определенным
органом, этот орган может быть вырван из тела, может поменять свое место или
мгновенно изменить свою природу и приобрести иные очертания, так что в
результате человек может стать калекой' (Шолем 1961: 138).
Согласно
описаниям учеников Абулафиа, речь в некоторьхх случаях сопровождалась
спазматическими деформациями лица. Такая деформирующая речь изначально понимается
как нарушенная, оторванная от схемы собственного тела - чужая. Абулафиа и его
ученики в какой-то степени мыслили так же, как Клоссовски в анализе Делёза.
Слова и тела соединены через изоморфизм сгибов, флексий. Поэтому неправильное
повторение приводит к деформации телесности. Мы имеем дело с интересным
образцом диаграммы, когда неполнота повторения принимает форму прямого
телесного насилия, вырывания органа, калечения. Повторение трансформируется в
телесную агрессию, чужеродное вторжение.
Дубляж
может описываться как вторжение чужеродной акусти-
180
ческой
материи в тело, производящее на поверхности этого тела некие деформации,
которые могут быть определены как 'события' дубляжа. 'События' в данном случае
- это изменения, происходящие на видимой поверхности.
История
психиатрии сохранила пример таких телесных изменений, связанных со звуком. Я
имею в виду прежде всего 'Мемуары невропата' Даниэля Пауля Шребера. Шребер был
убежден, что его тело волей некоего высшего предназначения превращается в
женщину, и это превращение осуществляется параллельно настоящей агрессии
голосов и душ, поселившихся в его теле и стремившихся подчинить себе его волю.
Речь по существу идет все о том же явлении 'демона'. Одна из форм подчинения
'демону' заключалась в насильственном говорении Шребера. Уста больного как
будто подвергались кинематографическому дубляжу, вмешательству диббука, притом
в формах близких тем, что были описаны Арто:
'...Я
громко считал вслух, в частности, по-французски, так как мне неизменно ставился
вопрос, умею ли я говорить на иностранных языках' (Шребер 1985:167). Сама форма
счета, так же как и бессмысленный повтор, проявляющийся в насильственной речи,
воплощают идею чужого слова, на преодоление которого были направлены и телесные
стратегии Арто.
Насильственная
своя речь на чужом языке - только крошечный эпизод в овладении ртом Шребера. В
его голову проникают шумы внешнего мира, вибрирующие в унисон его словам и, по
существу, формирующие его речь. В его тело по формуле диббука проникает 'нижний
бог - Ариман' и произносит речи, 'в каком-то смысле говоримые из моей головы'
(Шребер 1985: 155), и т. д. Это голосовое наваждение достигает кульминации в
'чуде вопля', 'во время которого мои мускулы, отвечающие за механизм дыхания,
приводятся в движение нижним богом (Ариманом) таким образом, что я вынужден
издавать вопли...' (Шребер 1985; 171).
В
истории болезни Шребера есть несколько особенностей. Прежде всего - это связь
голосов с пищей. Ариман, мучащий больного, поселяется где-то в глубинах его
живота. Души, которые попадают в Шребера и говорят в нем, проникают в его тело
через рот, по сути дела поедаются им:
'...Во
множестве случаев я мог принимать души или части душ в рот, и до сих пор я
храню очень четкое воспоминание о том дурном вкусе и запахе, которые оставляют эти
души, когда вторгаются в тело, проникая в него через рот' (Шребер 1985: 80).
Это
поедание душ, этот голосовой каннибализм вызывают у Шребера затруднения при
еде, которые он также приписывал чудесам и козням:
181
'...Я
испытывал большие затруднения при принятии пищи <...>, во время еды мой
рот был мишенью непрестанных чудес; так, меня безостановочно мучил вопрос:
'Почему
вы не говорите об этом (вслух)?..', в то время как совершенно невозможно
говорить с кем-либо вслух с полным ртом. <...> Часто во время еды ко мне
применяли чудо укуса языка. Мои усы с помощью чуда постоянно проникали в мой
рот, когда я ел' (Шребер 1985: 165), и т.д.
Поедание
и звукоизвлечение в случае Шребера тесно связаны друг с другом, но
звукоизвлечение происходит без препятствий и даже без участия органов речи, в
то время как поедание превращается в муку. Шребер же в равной мере борется со
звуком, насильственно исходящим вовне, и за право поглотить субстанцию внутрь.
Блокировка поедания выступает как телесный коррелят насильственного говорения.
И рот оказывается в центре этой борьбы, этого 'фундаментального солецизма'. У
Шребера болезненность этого солецизма объясняется нарциссическим отторжением
контакта с Другим. Шребер не хочет поглощать Другого и не хочет говорить чужим
голосом. Именно поэтому поглощение и изрыгание голоса оказываются в равной мере
драматическими процессами. А на самой 'границе зубов', разделяющей внутреннее и
внешнее, происходят странные 'чудеса' выворачивания тела - усы попадают в рот и
т.д.
Лакан
заметил, что приближение и удаление Бога к Шреберу влияет на словесное
поведение последнего. Чем дальше удаляется Бог в пространстве, тем замедленнее
и бессмысленнее становится речь больного. Удаление от Бога, Отца, Другого, с
которым связано существование субъекта, способно 'опустошить те места, в
которых разворачивается шум слов' (Лакан 1971: 78). Именно поэтому поглощение
Другого оказывается залогом говорения. Всякая речь строится как речь Другого.
Но у Шребера эта ситуация приобретает все черты галлюцинации, параноидального
безумия, сконцентрированного вокруг мотива еды.
Культура
уже в архаические времена строится вокруг странного и противоречивого
соединения мотивов еды и слова. Клод Леви-Стросс признает, например, что
пищеварение в мифологии относится к сфере культуры (то есть к сфере,
традиционно закрепляемой за словом), хотя и должно скорее пониматься в рамках
устойчивых оппозиций сдерживание/неудержание (continence/incontinence),
открытие/закрытие (ouverture/fermeture), то есть в рамках оппозиций, касающихся
телесных границ и отверстий (Леви-Стросс 1964:143-144).
Говорение
и поедание связаны между собой на самом глубоком фило- и онтогенетическом
уровне. Филогенетически речь идет о специализации головы в добывании пищи,
которое неотделимо от
182
коммуникации.
Онтогенетически речь может идти о неком сходном процессе заполнения ротовой
полости пищей или словами. По мнению психоаналитиков Никола Абраама и Марии
Торок, 'переход ото рта, наполненного грудью, ко рту, наполненному словами,
проходит через опыт пустого рта. Научиться заполнять словами пустой рот- вот
парадигма интроекции' (Абраам - Торок 1987: 262). В своем предисловии к книге
Абраама и Торок Жак Деррида заметил, что превращение слова в тело, которое
можно съесть, в конечном счете направлено против интроекции и служит
'инкорпорированию' - то есть сохранению тела не как знака, а именно как тела.
Процесс инкорпорирования - и это особенно важно - предполагает не только
поглощение, но и сопутствующее ему выбрасывание наружу.
'На
границе внешнего и внутреннего, как система границ ротовая полость играет парадигматическую роль в интроекции лишь
в той мере, в какой она прежде всего - молчаливое
место в теле и не перестает им быть, оно становится 'говорящим' лишь по
признаку дополнительности' (Деррида 1976а: 55-56).
Сама
пограничная роль ротовой полости позволяет состояться тому, что Деррида
называет 'катастрофическим переворачиванием'. Именно это переворачивание как бы
поглощает объект, 'для того чтобы его не интроецировать, чтобы, так сказать, выблевать его вовне в полость кисты' (Деррида 1976а: 56), где это слово-тело
сохраняется как в склепе.
В
дубляже как раз и не происходит интроекции, все остается на уровне чисто
внешних телесных трансформаций. Я, конечно, не хочу утверждать, что дубляж
связан с процессом 'инкорпорирования', но сам процесс поглощения ради
выблевывания, поедания во имя движения вовне в дубляже есть. Здесь также
происходит процесс превращения тела в слово4,
символизирования его, а в некоторых случаях, наоборот, превращения слова в
тело, его десимволизирова-ния.
Эта
игра символизации и десимволизации, подмены слова телом и наоборот, характерна
для ряда древних ритуалов, например,
__________
4 Этот процесс подробно
проанализирован Луи Мареном на примере евхаристии и ее интерпретации
теоретиками Пор-Рояля. Марен рассмотрел корпус сказочных текстов XVII века с
точки зрения трансформации знака в тело и тела в знак. Парадигматическим
знаком, подверженным такой трансформации, по его мнению, является 'кулинарный
знак': '...всякий кулинарный знак - в некотором роде и в некоторой мере -
евхаристичен; или, иначе, всякая стряпня - это теологическая, идеологическая,
политическая и экономическая операция, во время которой неозначенный
"съедобный продукт" превращается в поедаемое "тело-знак"'
(Марен 1986: 128). По-своему здесь также возникает, хотя и иначе решается,
проблема интроекции-инкорпорирования, то есть растворения слова в теле и тела в
слове.
183
дельфийского
оракула. Известно, что Пифия дельфийского оракула сидела на священном
треножнике, увенчанном сосудом (котлом) с крышкой. Пифия располагалась на
крышке священного сосуда, в котором находились останки жертвенного животного
(по некоторым сведениям - Пифона, по некоторым - самого Диониса). Входящий в
святилище 'мог видеть посвященную женщину сидящей на треножнике, мог слышать ее
измененный голос и таким образом понять, что ее устами говорит Аполлон'
(Буркерт 1983:122).
Любопытно,
что та часть котла на треножнике, куда помещали мясо жертвенного животного и
которую ставили на огонь, называлась gastre - живот, брюхо треножника (Вернан
1979: 93). Пифия помещалась на жертвенный 'живот'5.
Тело жертвенного животного магически преобразовывалось в слово бога, речь шла
буквально об обмене тела на слова. При этом трансформация тела в слово
сопровождалась трансформацией голоса Пифии, в ее уста вкладывалось чужое слово
- знак состоявшегося обмена. Любопытно, что когда Прометей обманул Зевса,
выбравшего себе кости вместо съедобного мяса, титан спрятал мясо животного в
желудок, который и предложил брезгливо отвергнувшему его богу. Вернан отмечает,
что желудок (gaster) в данном случае является вместилищем тела. Внутреннее
здесь трансформировано во внешнее. Человек, получающий съедобную часть
животного в ритуале, как бы сам превращается в желудок, сам подвергается
выворачиванию. Вернан пишет:
'Самое
трагичное - это то, что по ошибке Титана люди вынуждены принять статус 'живота'
в рамках того самого ритуала, который их объединяет, насколько это возможно в
их новом положении, с Бессмертными, питающимися амброзией' (Вернан 1979:
96-97). Если грубо транспонировать эту ситуацию в оппозицию 'культура/природа',
то речь идет о парадоксальном приближении к высшему (божественному, Логосу)
через низменное. Путь к слову каким-то образом лежит через еду и сопровождается
выворачиванием телесности, трансформацией внутреннего во внешнее.
Телесное
может в какой-то степени повлиять на характер речи, изменить его, сделать
'животным', нечленораздельным. 'Чужая' речь Пифии может переходить в стоны,
крики, вопли. О том, что зависимость речи от еды - не просто экзотический факт,
относящийся к древней истории, свидетельствует опыт Франца Кафки, придававшего
еде чрезвычайное значение в ритуале письма. По мнению
________
5 Разумеется, Рабле не мог пройти
мимо этого, не спародировав Пифию в образе чревовещательницы Якобы Рододжине, в
которую вселялся нечистый дух. Лукавый говорил из живота прорицательницы. Когда
его спрашивали о будущем, он 'вместо ответа громко пукал или же бормотал нечто
нечленораздельное на каком-то тарабарском наречии' (Рабле 1973: 573).
184
биографа
Кафки Фредерика Карла, нечленораздельная речь его пер-сонажей-животных - это
речь, оскверненная определенным типом еды. Карл так характеризует поведение
Кафки:
'Речь
была для него весьма мучительным процессом, это было с неизбежностью связано с
его отношением к другим предметам, в частности, к еде. Кафка испытывал то, что
можно назвать тройственной потребностью в говорении, писании и еде, но
проявляющейся в его случае совершенно особо. Две потребности исходили изо рта и
были для него взаимоисключающими - невозможно говорить, пока ешь, или есть,
пока говоришь. Писание также не совместимо с едой и говорением, и, выбрав
писание, Кафка решил не есть, или превратить еду в 'извращение'. < ...>
Его ужас перед едой, ртами и особенно зубами был иной формой жертвы, так как в
той же мере, в какой еда и писание были взаимоисключающими видами деятельности
в его странном уравнении, говорение было пустой тратой того, что должно было
быть отжато в письменное слово' (Карл 1991: 84)6.
Утрата
речи и физические метаморфозы персонажей Кафки часто связаны с мистикой еды.
Еда выворачивает говорящее тело, потому что меняет направление работы телесного
отверстия, перестающего извергать (говорить) и начинающего поглощать. Особенно
характерно это для говорения на иностранном языке, когда каждое произносимое
слово дается как чужое. Хотя оно и возникает из недр говорящего организма, оно
подобно еде, введенной в него извне. В одном из писем Милене Кафка
останавливается на ощущениях, вызываемых у него иностранной - в данной случае чешской
- речью, например, репликой 'не понимаю', по-чешски - nechapu:
'Странное,
чужеродное слово в чешской, а особенно в Вашей речи, оно такое строгое,
безучастное, скупое, с холодными глазами, а главное, есть в нем что-то от
щелкунчика: первый слог пытается ухватить орех, но безуспешно, тогда второй
слог разевает пасть во всю ширь, теперь ореху никуда не деться, и третий слог,
наконец, щелкает зубами - слышите треск?' (Кафка 1991: 472). Чужесть речи,
помноженная на смысл высказывания - 'не понимаю', - трансформирует артикуляцию,
превращает исходящее изнутри в поступающее снаружи. Метаморфоза телесности,
таким образом, как бы впрямую задается изменением направления 'внутрь' и
'вовне', отмечающим смену еды на говорение.
Отсюда
и трансформация телесности у Шребера- еще одна черта шреберовского безумия -
его превращение в женщину, собственно физическое преобразование тела в тело
Другого, с которым
_________
6 Специальное обсуждение отношения
письма и еды см. в книге Элльманн 1993.
185
возможно
соитие Бога. Фантазм этого превращения и его обусловленность паранойей,
гомосексуализмом и нарциссизмом явились объектом психоаналитического
исследования в десятках работ7. Нет
нужды касаться этого вопроса сколько-нибудь подробно. Укажем лишь на особую
роль рта в этом превращении. Мелани Клейн показала, что рот в процессе
кормления ребенка через контакт с материнской грудью (поедание) оказывается как
раз органом интерио-ризации женского тела младенцем. Грудь как источник
инфантильного наслаждения 'превращается в интегральную часть 'Я'; ребенок,
который раньше находился внутри матери, теперь помещает мать внутри себя'
(Клейн 1977:179).
Но
тот же рот может выступать и как символический эквивалент ануса, вагины,
'трансформируя' тело мужчины в тело женщины. Поэтому фиксация на области рта,
связанная с мучительными 'чудесами' звукоизвлечения и поедания, отчасти
ответственна за фантазматическую феминизацию Шребера. Его насильственное
говорение неотделимо от фундаментального 'события' - трансформации его тела.
Фрейд заметил, что наполняющие тело Шребера говорящие волшебные птицы-души- это
женщины (Фрейд 1963в:134-135), проникающие внутрь его оболочки.
Но,
помимо этих общих соображений, рот в своем анатомическом строении может
пониматься как странная инвертированная вагина, как продукт телесного
выворачивания, изменяющего пол. Эрнест Джонс так определяет половую
амбивалентность рта:
'Его
способность выделять флюиды (слюну и дыхание), а также то обстоятельство, что в
нем находится язык <...> делают его также пригодным для обозначения мужского
отверстия; сама идея плевания, в частности, - это в фольклоре один из наиболее
банальных символов мужского акта' (Джонс 1974: 273)8.
Говорение
и дыхание в силу этого понимаются как мужской акт (выделение). Джонс, например,
указывает, что в мусульманской традиции существует версия непорочного зачатия
Девы от дыхания архангела Гавриила (Джонс 1974: 274). Поедание же- принятие
внутрь - может пониматься как женский акт. Поэтому простое чередование
говорения и поедания может пониматься как половая инверсия. Существенно,
конечно, также и то, что язык выступает в качестве мужского органа, как бы
выворачивающего полость рта.
'Отяжеление'
рта актрис, описанное Арто, как будто отмечает процесс такого выворачивания
полости, когда пустота вдруг наполняется, то есть выворачивается наизнанку и
тем самым меняет пол
__________
7 Библиографию см. Эллисон 1988:
302-339.
8 Точно так же вагина
может инвертироваться в фаллос. Такая инверсия часто связывается с
мифологическим образом Баубо. См. Фрейд 1963 г; Девере 1983.
186
говорящего.
В начале статьи Арто дурная синхронизация делает более заметным присутствие губ
и языка как артикуляционных органов, вокруг которых постепенно нарастает
процесс половой инверсии. Женским звездам дубляж приписывает 'раскатистое
ругательство' и 'гулкий бас'. Голос задается не просто как чужой, но как голос
мужчины, вселившегося в женское тело.
Ситуация,
между прочим, типичная для мифологии диббука. Вот как описывает поведение
женщины с вселившимся в нее диббу-ком Исаак Башевис Зингер:
'И
когда городские старейшины собрались вместе, они не могли узнать ее. Дело в
том, что ее облик совершенно изменился, и лицо ее стало меловым, и губы ее были
искажены судорогой (избави нас Господь!), и зрачки ее глаз были вывернуты
внутрь неестественным образом: голос, который кричал из нее, не был ее голосом.
Ибо голос ее был женским, а диббук кричал голосом мужчины с такими рыданиями и
воплями, что ужас охватил всех, кто тут был...' (Зингер 1955: 221-222). Смена
пола выступает как финальная стадия деформации тела, как диаграмматический знак
телесного выворачивания, начатого поеданием чужого голоса. Знак этого
выворачивания - зрачки, 'вывернутые внутрь неестественным образом'.
Насильственное вторжение чужого голоса непроизвольно задает максимально
мыслимое (половое) различие видимого говорящего и Другого, того, кому
принадлежит слышимая речь. Соприсутствие мужчины и женщины в одном теле
превращают тело в химеру, языковый статус которой будет рассмотрен ниже.
В
статье Арто примечателен еще один момент: все персонажи этой статьи -
американские звезды и несчастные французские актрисы - женщины. Возможно, это
господство женской телесности .связано со специфическим свойством женского
голоса, отмеченным Теодором Адорно. Анализируя граммофонные записи голосов,
Адорно обратил внимание на следующее явление:
'Мужские
голоса могут воспроизводиться лучше, чем женские. Женский голос легко
приобретает пронзительное звучание - но не потому, что граммофон не способен
передавать -высокие тона, как об этом свидетельствует адекватное воспроизведение
флейты. Просто для того, чтобы обрести свободное звучание, женский голос
нуждается в физическом явлении того тела, в которое он заключен. Но именно это
тело и удаляется граммофоном, тем самым придавая звуку женского голоса
неполноту и ущербность. Только там, где резонирует само тело, где 'Я', к которому отсылает граммофон,
идентично звуку, только там граммофон обретает свою законность: отсюда
неоспоримое доминирование Карузо. Когда звук отделя-
187
ется
от тела - как в случае с инструментами - или когда он требует тела в качестве
дополнения - как в случае с женским голосом - граммофонное воспроизведение
становится проблематичным' (Адорно 1990: 54). Наблюдения Адорно были сделаны в
1927 году. Вероятно, сегодняшний уровень звукозаписи внес бы в них известные
поправки. Но к раннему звуковому кино они могут быть отнесены без особых
оговорок. Если признать их справедливость, то сама физика женского голоса
обладает той неполнотой, которая требует тела, требует Другого, и поэтому
особенно легко вписывается в драматическую коллизию дубляжа и в те
'приключения' телесности, которые с ним связаны. Женский голос оказывается
знаком определенного типа половых отношений, которые предполагают предъявление
тела. Женский голос, в отличие от мужского, 'не может' звучать без видимого
тела. По мнению Катрин Клеман, женское оперное пение сродни смеху и крику, оно
трансгрессивно и по существу отмечает смерть героини (Клеман 1975: 256-290)9. Пение как бы приравнивается к исчезновению
телесного. Тело певицы предъявляет себя в последнем пароксизме предельной
сублимации, исчезновения. Голос теряет тело и как будто взывает к каннибализму,
к чужому телу, мясистым тяжелым ртам, готовым его проглотить. По выражению
Адорно, он требует тела 'в качестве дополнения'.
Голос
Пеллегрины Леони нашел обитель в юном мужском теле; голоса, населившие Шребера,
феминизировали тело безумного председателя суда; американские звезды Арто
заговорили гулким басом, а рты их отяжелели, проявляя мужское в женском облике.
Съеденные голоса трансформировали пол, исказили телесность, вводя в нее
Другого, чужака. Этот телесный солецизм звукового кино, с парадоксальной силой
выявляемый дубляжом, возможно, отсылает нас к каким-то фундаментальным
свойствам кино как такового, когда смысл возникает в едва заметном искажении
поверхности, в телесном событии. Но это телесное событие, несущее смысл,
возникает на рубеже, отделяющем плоскость от глубины, вокруг зияния, 'рта',
поглощающего и извергающего одновременно. Иллюзия перехода от плоскости к
глубине и наоборот, обостренная по краям телесного зияния, выступает здесь в
формах поверхностной метаморфозы, события смысла.
Статья
Хорхе Луиса Борхеса 'По поводу дубляжа' завершает серию небольших статей и
рецензий, начатую писателем в 1931 году.
_______
9 Смотри полемику с Клеман по этому
вопросу Кевелл 1994: 131-169.
188
Эссе
о дубляже было напечатано в 'Сур' ? 128, в июле 1945 года. Эта работа,
отвергающая дубляж столь же решительно, как и статья Арто, исходит, однако, из
иных предпосылок. В глазах Борхеса дубляж плодит неких чудовищ, ведущих свою
генеалогию от греческой химеры, и целиком относится к области симулякров,
подмен, к сфере принципиально фальшивого. Тем самым дубляж вписывается в общую
проблематику творчества Борхеса, в которой химеры воображения (с наибольшей
полнотой рассмотренные в 'Книге воображаемых существ') и симулякры занимают
центральное место.
Некоторые
моменты статьи Борхеса как будто перекликаются с наблюдениями Арто, но сходство
между двумя авторами - зачастую чисто внешнее. Так, Борхес пишет о Грете Гарбо,
говорящей голосом Альдонсы Лоренсо. Голос героини 'Дон Кихота' невольно
вызывает в памяти 'грохот раскатистого ругательства', о котором упомянул Арто:
'А
уж глотка, мать честная, а уж голосина! Взобралась она, изволите видеть, на
нашу деревенскую колокольню и давай скликать отцовских батраков, и хотя они
работали в поле больше чем за полмили от деревни, а слышно им было ее, как
будто они внизу, под самой колокольней стояли' (Сервантес 1970, т. 1: 244).
Однако
комбинация Гарбо и Альдонсы для Борхеса - нечто совершенно иное, чем говорящая
басом звезда Арто. Альдонса у Сервантеса - пустой знак, который воображением
Дон Кихота может преобразоваться в любую фантастическую форму ('воображению
моему она представлялась так, как я того захочу' [Сервантес 1970, т. 1: 246], -
замечает Дон Кихот), потому вкладывание голоса Альдонсы в уста Гарбо - это
магическая операция по существу иная, чем солецизм Арто.
Борхес
видел в кинематографе способ выявления тотального отсутствия идентичности.
Итоговым смыслом 'Гражданина Кейна' он, например, считал то, что 'Фостер Кейн,
невидимый, - это симулякр, хаос видимостей' (Борхес 1979: 76). В статье о
дубляже Борхес цитирует своего любимого писателя Стивенсона. Несколькими годами
раньше он посвятил статью экранизации повести Стивенсона 'Доктор Джекиль и
мистер Хайд', осуществленной Виктором Флемингом. Среди множества упреков в
адрес этой экранизации выделяется следующий: Флеминг поручил роли Джекиля и
Хайда одному актеру - Спенсеру Трэси, в то время как их должны были бы играть
разные исполнители (например, Джордж Рафт и Спенсер Трэси). Один исполнитель не
устраивает писателя потому, что в сцене превращения Джекиля в Хайда 'Спенсер
Трэси без всякой опаски опустошает склянку с магической жидкостью и превращается
в Спенсера Трэси, но в ином парике и с негроидными чертами' (Борхес 1979:80).
189
Иными
словами, речь идет о неудавшейся химере. Оба персонажа остаются в едином теле,
с единым голосом и общей физикой. С точки зрения Борхеса, это слишком легкий
вариант - вообразить единство двух персонажей, если их исполняет один актер.
Борхес же мечтает о кардинальной замене одного тела другим, которая, правда,
потребовала бы 'двух-трех фонетических поправок' (Борхес 1979: 80). Именно
такая подмена актеров превратила бы героев Стивенсона в симулякров, в хаос
видимостей.
Борхес
критикует фильм Флеминга за трансформацию тела, сохраняющего несмотря ни на что
свою фундаментальную идентичность. Писатель хочет, чтобы единство, не
распадаясь окончательно, существовало одновременно в двух разных телах. Смысл химеры как раз и заключается в том, что она
преодолевает некую логическую 'дизъюнкцию' (когда одно исключает другое - 'или
- или'). Солецизм, о котором писал Клоссовски в книге 'Купание Дианы', создает
такую дизъюнктивную химеру в образе Актеона - одновременно и человека и оленя.
Диана, превращая Актеона в животное, как бы останавливает метаморфозу на
полпути:
'Но
уловка Дианы заключалась в том, чтобы никогда не завершить метаморфозу до
конца, в том, чтобы все еще оставить ему часть его личности: ноги, торс и
голова Актеона - теперь оленьи, но в то время, как его правая рука теперь -
лишь одетая в мех нога, а ее кисть - раздвоенное копыто, его левая рука
остается нетронутой, и в этой неполноте проявляется колебание богини...' (Клоссовски
1990: 66-67)
Катрин
Клеман подчеркивает, что, в отличие от Овидия, всегда демонстрирующего 'Актеона
разъятым на стратифицированные части: голова оленя, но тело и одежда целиком
человеческие', Клоссовски не дает изображения разделенного тела:
'Актеон
даже в фантазматическом движении не может оставаться в этом положении, то он
целиком олень, то собака, то жертва, то палач, он сам по себе, без Дианы - уже
пара' (Клеман 1975: 68).
Речь
идет именно о соприсутствии двух актеров, исполняющих как бы одну роль. Не
случайно у Клоссовского одно и то же тело принадлежит и богине, и демону,
которого она использует для 'тео-фании' в видимом теле. Клоссовски также
подчеркивает пространственную раздвоенность происходящего, одновременно
принадлежащего и к области видений Актеона, и к некому 'внешнему' пространству:
'...Купание
Дианы для Актеона непредвидимое, внешнее событие. Купание Дианы - вовне: чтобы
обнаружить его, Актеону не требуется быть в одном или другом месте, он должен
выйти из собственного сознания; и то, что в таком случае Актеон видит,
принимает форму по ту сторо-
190
ну
рождения слов: он видит купающуюся Диану, но не может сказать, что именно он
видит' (Клоссовски 1990:51).
Это
раздвоение тела, этот выход в иное пространство приравнивается к потере собственной
идентичности и речи. Речь не может существовать там, где тело вышло из
собственных пределов, из пределов, отведенных его сознанию10.
Дубляж
в значительной мере реализует эту стопроцентную дизъюнкцию. Речь идет о
противопоставлении двух чужеродных пространств. В одном существует голос, в
другом изображение. Два тела - одно акустическое, другое видимое, никогда в
реальности не встречаются, их встреча в зрительном зале - чистая игра
симуляции, 'уловка Дианы'. Два тела сохраняются, но с помощью хитростей
проецируются одно на другое, стремятся изобразить несуществующее единство. Эта
химеричность тела делает его неопределенным, присутствующим и отсутствующим
одновременно. Химера всегда заключает в себе зияние, 'неполноту, проявляющую
колебание'. Любое ее тело отмечает отсутствие иной ипостаси, оно силой
логической дизъюнкции перечеркивает, отрицает иное включенное в него тело,
чтобы быть, в свою очередь, исключенным самому.
Сведенборг
описал странные пути коммуникации между ангелами, духами и человеком. Странность
этой коммуникации состоит в том, что каждое из этих существ существует в
совершенно ином, даже физически несопоставимом пространстве. Духи, например,
одновременно существуют внутри человека и в совершенно ином пространстве. При
этом особая форма 'речи' - единственная форма удивительного 'совпадения' этих
принципиально несовместимых существ:
'Ныне
редко дозволяется говорить с духами, потому что это опасно, ибо тогда духи
знают, что они находятся в человеке, а когда они не говорят с ним, то они этого
не знают...' (Сведенборг 1993:115).
Сведенборг
особенно подробно описывает 'совпадение' ангелов с человеком, возникающее в
процессе их диалога. Ангел соединяется с человеком, 'вселяется в память его' и
становится как бы неотличим от своего собеседника. Правда, 'речь',
обеспечивающая совпадение двух разнородных существ, воспринимается не извне, а
изнутри человеческого тела:
'...Речь
ангела или духа отражается сперва в мысли человека, а затем уже, внутренним
путем, в его орудии слуха, на которое она таким образом действует изнутри; меж
тем как речь человека с человеком отражается сперва в воздухе, а затем, внешним
путем, в его орудии слуха и та-
__________
10 О противоречивости пространства в
этом тексте Клоссовского в связи со способностью к говорению см. Дюрэм 1993.
191
ким
образом действует на него извне. Что речь ангела или духа доходит до уха
внутренним путем, стало для меня ясным также из того, что влияние ее отражалось
даже на моем языке и приводило его в такое содрогание, которое, однако же, не
переходило в то движение, которым человек обращает звук речи в слово'
(Сведенборг 1993:115). Неразличимость ангела и человека столь велика в момент
их совпадения, что исчезают все критерии различия между ними, даже память их
становится общей. Диалог между ними приобретает форму монолога, но монолога
странного. Речь, поступая изнутри, не достигает акустической манифестации в
членораздельном слове. Речь как бы застывает в форме содрогания, не
переходящего в движение, порождающее членораздельный звук. Химеричность обнаруживается
в блокировке внятного слова, парадоксально обозначающей наличие коммуникации.
Фундаментальность слиянности двух принципиально разнородных тел выражается лишь
в дрожании, вибрации органов речи. Вибрация эта обозначает различие внутри
слиянности, различие необходимое для диалога.
В
подобных же категориях Плутарх описывал коммуникацию между людьми и демонами.
Демоны не порождают акустических волн, но лишь особые вибрации, непосредственно
передающие 'идеи'.
'Почему
должно казаться невозможным изменение воздуха "высшими" существами
таким образом, чтобы оно совпало с одной лишь идеей и благодаря особой
чувствительности было передано сверхчеловеку, особым людям, как смысл того, кто
породил идею? Точно так же как рытье "строителей туннеля"
обнаруживается благодаря тому, что оно вызывает соответствующую вибрацию в
бронзовых щитах, когда вибрация эта поднимается из-под земли и достигает щитов,
в то время как она легко проходит через все иное без заметного эффекта, так и
послания божеств проходят через всех остальных и резонируют лишь в тех, кто
уравновешен и чей ум спокоен, через тех, кого мы именно и называем святыми или
сверхлюдьми' (Плутарх 1992: 338).
Вибрация,
проникая в тело извне, делает его неотличимым от внешней среды, как бы
распространяет тело вне его границ (см. о вибрации главу 7). Вибрация -
необходимое условие для звучания, но еще до звучания она может вступать в
избирательный резонанс с. телом Другого, сливаясь с ним через колебания (то
есть форму различия). Вибрационная коммуникация интересна тем, что она
осуществляется только с тем, кто способен вступать в резонанс, она поэтому, в
отличие от речи, избирательна. Отсутствие резонанса позволяет духам не замечать
тел, в которых они существуют, и делает глухими 'всех остальных'. Вибрация,
звучание, несовпадение и ре-
192
зонанс
оказываются ответственными за слияние тел воедино и их абсолютную
разъединенность.
В
силу одного этого при образовании химеры голос играет особую роль. В
разоблачении Хайда он оказывается едва ли не главным фактором. Адвокат и слуга
пытаются понять, кто скрывается за дверью лаборатории Джекиля. В их
распоряжении два свидетельства - записки и голос. Записки явно написаны рукой
Джекиля. 'Какое значение имеет почерк?' (Стивенсон 1950: 512) - спрашивает
слуга. Голос важнее для идентификации Хайда:
'
- Сэр, - сказал он, глядя в глаза мистеру Аттерсону, - был ли это голос моего
хозяина?
-
Он кажется сильно изменившимся, - произнес побледневший юрист, отвечая взглядом
на взгляд.
-
Изменившимся. Пожалуй, да, я тоже так думаю, - сказал дворецкий. - Могу ли я,
двадцать лет проживя в доме, обмануться по поводу его голоса?' (Стивенсон
1950:510).
Телесный
навык, связанный с письмом, свидетельствует о единстве Джекиля и Хайда. Их тела
обладают единством моторики. Подлинное раздвоение проходит через трансформацию
голоса. Измененный почерк - все еще почерк данного тела, даже искажение графемы
свидетельствует о сохраняющейся идентичности. Измененный голос рвет с телом,
становится чужим.
Хотя
и существуют исследования, стремящиеся доказать фундаментальную идентичность
почерка и говорения как экспрессивных форм (Оллпорт - Верной 1933: 205-297)11, нельзя отрицать принципиального различия
между диаграммами, отражающими деформации почерка и голоса. Почерк формируется
длительным навыком и повторением. Он как бы след возвращения к себе, своего
рода диаграмма 'вечного возвращения'. В его изменениях и константах опознается
диалектика идентичности и различия, вписанная в каждую личность. Голос гораздо
меньше зависит от обучения и повторения и гораздо больше от врожденных факторов
- анатомии голосовых связок и ротовой полости, объема и силы дыхания и т. д.
Таким образом, радикальная трансформация голоса свидетельствует о более
глубокой метаморфозе телесности, о раздвоении тела.
Показательно,
что в 'Метаморфозе' Кафки голос Грегора Замзы, пребывая в едином теле,
обретает, однако, свойства физической раздвоенности, двутелости:
'Грегор
испугался, услыхав ответные звуки собственного голоса, к которому, хоть это и
был, несомненно, прежний его голос, примешивался какой-то подспудный,
_______
11 Оллпорт и Вернон приводят
результаты исследований, устанавливающих едва ли не измоморфизм почерка и
говорения, например, свидетельства об аритмичности и фрагментированности
почерка у заикающихся.
193
но
упрямый болезненный писк, отчего слова только в первое мгновение звучали
отчетливо, а потом искажались отголоском настолько, что нельзя было с
уверенностью сказать, не ослышался ли ты' (Кафка 1991: 294). Несовпадение тел
выражает себя в распаде акустического единства, в нарушенности резонансной
целостности. 'Двутелость' голоса Замзы приводит к размыванию контура слов.
Слова, таким образом, выступают аналогом химерического тела, ясность которого
разрушается его дизъюнктивным характером.
Существенно
то, что Замза у Кафки слышит самого себя, и это слышание себя вызывает у него
страх. Письмо отчуждается от момента своего производства. Оно по определению
принадлежит прошлому. Поэтому изменения, диаграммированные почерком, - всегда
изменения, вносимые 'промежутком',
временной цезурой, отделяющей прошлое от настоящего.
Иное
дело голос. Голос традиционно выражает бытие как присутствие. Тот факт, что
голос мгновенно и без следа исчезает, делает его идеальным означающим для идеи
настоящего - момента между прошлым и будущим. Более того, именно через
говорение человек по преимуществу и переживает настоящий момент как момент
присутствия, как момент бытия.
Жак
Деррида отмечает, что феноменологической сущностью говорения является то, что я
слышу себя говорящего. При этом говорение интимно связано с дыханием, которое
придает жизнь моему телу.
'Означающее,
оживленное моим дыханием и интенцией к значению (на языке Гуссерля, выражение
оживляется Bedeutungsintention),
находится в абсолютной близости ко мне самому. Живое действие, действие, дающее
жизнь, Lebendigkeit, оживляющее тело
означающего и превращающее его в полное смысла выражение, душа языка, казалось
бы, не отделяет себя от себя, от своего собственного присутствия' (Деррида
1973: 77).
Слышание
себя настолько полно вписывается в переживание настоящего, присутствия еще и
потому, что в отличие от видения себя или трогания себя оно осуществляется как
бы непосредственно и не нуждается ни в каких внешних медиаторах - зеркале или
кожном покрове. Поэтому появление отголоска, эха в голосе, слышимом самим
собой, нарушает главное свойство этого акта - фундаментальное переживание
самого себя как данного себе в настоящем. Отголосок, окружающий писком слова
Замзы, вписывает в речь временной отрезок, как будто речь через мгновение
повторяется. Отсюда ужасающее чувство разрушения единства собственного тела,
собственного 'Я' как существующего сейчас, в данный и только в данный момент.
Жан-Пьер Ногретт отмечает:
194
'Если
превращенное тело составляло поверхность симптома, измененный голос кажется его
глубиной и завершает заключение 'чудовища' в его отчуждении. Либо он старается
говорить, и мы слышим иного, чем он, либо он замолкает, и его молчание
становится подозрительным. <...> Дверь, замыкающая чудовище и отделяющая
его от мира других, становится и для Джекиля и для Замзы символом языкового
барьера' (Ногретт 1991:144-145).
Было
бы, однако, упрощением считать, что трансформация голоса есть лишь знак
внутренней трансформации, диаграмма превращения тела в химеру. 'Языковый
барьер', о котором говорит Ногретт, в данном случае оказывается более
фундаментальным.
Его
суть проявляется в судьбе образа химеры в европейской культуре. В отличие от
прочих мифологических монстров - гидр, кентавров, сфинкса и т. д., - химера
является неким нестабильным и трудновообразимым конгломератом частей. В
иконографической традиции она представлена во множестве вариантов, так и не
сложившихся в устойчивый канон. Головы льва, дракона и козы, о которых
упоминает Борхес, в ином варианте, например, предстают как голова льва, тело
козы и змея вместо хвоста, а в изображении Гюстава Моро - как сочетание женской
головы, птичьего тела и лошадиных копыт. Джиневра Бомпиани отмечает, что химера
начисто отсутствует в европейской геральдике и эмблематике. Эмблема же, по
утверждению Эмануэле Тезауро, - 'это комбинация души и тела, имеющего душу вне
тела: его душа-это понятие (означаемое), сопровождающее фигуру (тело,
означающее)' (Бомпиани 1989: 394). Однако неустойчивый и невообразимый
конгломерат, составляющий тело химеры, по мнению Бомпиани, придает самому телу
свойства души (оно относится не к сфере реального, а к сфере языкового). Отсюда
невозможность использования химеры в эмблемах, отсюда - речевая блокировка, с
которой связана химера в культуре. Химера не может производить слова потому,
что в конечном счете сама лишена тела и в своем невообразимом, неустойчивом
облике существует лишь как понятие, слово.
Борхес
в 'Книге воображаемых существ', перечислив различные взаимопротиворечащие
образы химеры, приходит к следующему выводу:
'Перевести
ее во что-то другое было легче, чем вообразить ее. Она была слишком
разнородной, чтобы составлять животное; лев, козел и змея (в некоторых текстах
дракон) не так-то легко составляют одно животное. <...> Лоскутный образ
исчез, но слово осталось, означая невозможное. Сегодня в словарях определением
Химеры является пустая или дурацкая фантазия' (Борхес- Герреро 1978:63).
195
Но
и само понятие Химеры как чего-то невозможного, негативного внутренне
химерично. Его смысл разрушается, так же как и смысл слов, произносимых Замзой,
в чьем голосе эхо одного тела (животного) делает невнятным звучание другого
тела (человеческого). Именно поэтому истинный монстр, монстр, превосходящий
возможности нашего чувственного воображения, телесного как такового, обречен
одновременно быть явленным только голосом (метафорой его бестелесности) и
молчанием (обозначающим языковую блокировку). Неудивительно, что Хайд в
основном существует как голос и молчание, а его облик в повести обозначается
как маска.
Борхес
в своем тератологическом перечислении называет еще одну химеру - Троицу,
которая также невообразима, бестелесна и может существовать только в слове, в
голосе. В рецензии на фильм 'Зеленые пастбища' (реж. М. Коннели и У. Кигли,
1936) Борхес определяет Троицу как, 'к счастью, словесного монстра, выдуманного
теологами и состоящего из трех неразделимых личностей и девятнадцати атрибутов'
(Борхес 1979: 66).
Все
монстры, перечисленные Борхесом в его статье, - словесные, в том числе
китайская птица Цзы-ян и гиперкуб. Их нельзя увидеть, они превосходят пределы
фантазии и потому - телесности.
Химера,
разумеется, прямо отражает проблематику дубляжа. Гюисманс в 'Наоборот'
описывает короткий роман протагониста Дезэссента с чревовещательницей.
Дезэссент - утонченный эстет, ищущий путей из сферы реальности и природы в
область воображаемого и искусственного. Его любовные приключения - это
обследование границ норм человеческой сексуальности. Сначала он интересуется
атлетической мадам Уранией, которая привлекает его 'искусственной сменой пола'.
Роман с чревовещательницей - один из этапов этих поисков. Его кульминацией
является сцена, в которой Дезэссент заставляет актрису оживлять две статуэтки -
сфинкса из черного мрамора и химеру из раскрашенной глины.
'Странными
интонациями, которые он заставил ее долго и терпеливо репетировать заранее, она
оживила, даже не двигая губами, двух монстров.
И
в тишине ночи начался восхитительный диалог Химеры и Сфинкса, произносимый
гортанными, глубокими, хриплыми, а затем высокими, как бы сверхчеловеческими
голосами' (Гюисманс 1912:142-143). Текст, произносимый чревовещательницей, взят
из 'Искушения святого Антония' Флобера, где имеется диалог Химеры и Сфинкса.
Химера, между прочим, так характеризует себя у Флобера:
'Я
скачу в переходе лабиринта, я парю над горами, я скольжу по волнам, я визжу в
глубине пропастей, я цепляюсь пастью за клочья туч; волоча хвостом, я черчу
побережья, и холмы повторяют изгиб моих плеч. А ты! [об-
196
ращается
она к Сфинксу] я вечно нахожу тебя неподвижным или кончиком когтя рисующим
алфавит на песке' (Флобер 1936:191).
Химера
не обладает 'местом' своего существования, она целиком растворена в
миметических следах- лабиринте, волнах, изменчивом абрисе туч. Сфинкс говорит
ей: 'Ты движешься, ты ускользаешь!' (Флобер 1936: 193). Неподвижность Сфинкса
выражается в начертаниях алфавита, изменчивость Химеры - в голосе и движении.
Дезэссент тщательно репетирует интонационные переходы голоса чревовещательницы,
переходы от низкой, гортанной хрипоты (вероятно, Сфинкса) к высокому,
сверхчеловеческому голосу Химеры. Высота голоса может по-своему отражать ее
парение, скольжение и визг. Но это соскальзывание голоса в немыслимую
'сверхчеловеческую' высоту, как и само поведение Химеры, то парящей, то
визжащей на дне пропасти, - это поведение невозможного и предельно динамического
тела, подменяющего свою видимость энергетическим следом падения или вознесения.
'Визг' - так характеризует голос Химеры Флобер. Но визг - это именно голос,
сорвавшийся с доступных голосовой анатомии высот, это диаграмматический жест,
выражающий срыв. Химера и Сфинкс соотносятся как камень и падение (см. главу
3).
Кроме
того, поскольку Химера не имеет 'места' (она всегда не там, где она есть), ее
голос не может совпадать с ее дыханием, он как бы существует в стороне от нее
самой12. Вот почему чревовещатель -
идеальная фигура для ее воплощения. Но поэтому же Химера отрицает данность тела
в настоящий момент, о которой говорит Деррида. Химера расщеплена в своем
телесном единстве, точно так же как и в единстве голоса и тела.
Дезэссент
признается, что затеянное им представление отвечало 'его потребности избежать
чудовищной реальности существования, пересечь границы мысли, блуждать на ощупь
в тумане по ту сторону искусства, так ни разу и не достигнув ясности' (Гюисманс
1912:143).
Химеричность
тела, химеричность голоса оказываются способом достичь границ мыслимого. Дубляж
действует в том же ключе, и сходство это возникает в результате химерической
нестабильности его конгломератов. Мы не можем вообразить двух актеров в одном
теле, как нельзя себе представить Хуану Гонсалес, играющую Грету Гарбо,
играющую королеву Кристину. Кроме того, голос, будучи физически воспринимаемой
акустической субстанцией, не имеет тела. Он физически дан и бестелесен (он
требует тела, как певица у Адорно). В чужом теле он живет как настоящая химера.
Под-
___________
12 Явление химеричности может быть
связано с интертекстуальностью. Химера - это монстр, составленный из фрагментов
иных текстов. Она не существует нигде, так как существует между текстами. См. о книжном, интертекстуальном характере
флоберовской фантазии в 'Искушении святого Антония' и книжности флоберовской
тератологии: Фуко 1994: 293-325.
197
пись
Джекиля-Хайда - достоверный знак, так как она телесна, явлена нам графически и
не может выражать раздвоенности, в то время как голос, лишившись тела, является
единственно подлинным знаком монстра, невообразимого. В силу этого превращение
Джеки-ля в Хайда требует только 'двух-трех фонетических поправок'.
Химерическое
тело, возникающее в дубляже, может быть вслед за Бахтиным названо 'гротескным',
'амбивалентным', 'становящимся телом'. Подобно шизофреническому телу Делёза,
оно 'поглощает мир и само поглощается миром' (Бахтин 1990: 351). То есть оно -
по-настоящему инвертируемое, выворачивающееся тело. Согласно Бахтину, это
'двутелое тело' (Бахтин 1990:
353), 'события гротескного тела всегда разворачиваются на границах одного и
другого тела, как бы в точке пересечения двух тел' (Бахтин 1990: 357), 'самым
важным в лице гротеска является рот. Он доминирует. Гротескное лицо сводится, в
сущности, к разинутому рту, - все остальное только обрамление для этого рта,
для этой зияющей и поглощающей бездны' (Бахтин 1990: 351).
В
дубляже именно вокруг рта строится химера, именно здесь видимое тело производит
голос невидимого тела, вокруг 'границы' рта осуществляется пересечение двух
тел, составляющих дубляжную химеру.
Рот
оказывается локусом особого химерического напряжения не только в гротеске
Рабле, разобранном Бахтиным, но и в иных случаях, когда несколько тел
складываются в конгломерат или когда тело раздваивается. Фрейд, описывая работу
сновидения, производящую 'составные' или 'коллективные фигуры' (композит,
конденсат в неком видимом образе нескольких прототипов), приводит выразительные
на этот счет наблюдения. Так, описывая сновидение, представлявшее пациентку
Ирму, за которой скрывались дочь Фрейда и две его пациентки, он отмечает:
'...В
дальнейшем течении сна фигура Ирмы приобретала и иные значения без всякого
изменения в ее видимом облике' (Фрейд 1965: 327).
Составной
характер образа Ирмы обнаруживается в ее нежелании показать Фрейду рот, как
будто рот может обнаружить химеричность ее тела:
'...Нежелание
Ирмы открыть рот оказалось намеком на иную даму, которую я однажды осматривал,
и по той же ассоциации- на мою жену. Более того, патологические изменения,
которые я обнаружил в ее горле, содержали указания на целый ряд иных фигур'
(Фрейд 1965:39)13.
_______
13 О целом ряде 'иных фигур' (в
частности, Вильгельме Флиссе), сложно включенных в это сновидение, см. Гей
1988: 82-87.
198
Рот
Ирмы оказывается подлинным местом пересечения множества тел в одном теле. Я уже
ссылался на размышления Эрнеста Джонса о рте как анатомически инвертируемом
органе. Будучи местом перехода внешнего во внутреннее, рот вообще оказывается
локусом трансформации, выворачивания тел, а следовательно и их соединения в
гротескные конгломераты. В ином месте Фрейд указывает, что составной характер
фигур в сновидении может обнаруживаться не через внешнее сходство, но через
речь (Фрейд 1965: 356). Слово принимает на себя функцию органа - рта.
Сходное
расслоение тела, но в субъективной перспективе, обнаруживается и в так
называемом 'феномене Изаковера' - способности сознания как бы выходить за
пределы своего тела и смотреть на себя со стороны. Этот феномен, описанный в
1938 году психоаналитиком Отто Изаковером,
'формируется
вокруг ротовой полости, дифференциация между нёбом и кожей постепенно исчезает,
все тело как будто надувается и взлетает, а телесное "Я" стремится
слиться с внешним миром' (Жюстен 1991: 243). Феномен Изаковера также
формируется вокруг органа поедания и речи, чья дифференцированность,
отделенность от кожных покровов исчезает первой. Рот распространяется на все
тело, поедает тело, становится им. Через него происходит самоотчуждение
субъекта.
'Иногда
возникает ощущение, что во рту находится мягкая податливая масса, но
одновременно человек знает, что она находится вне его. В ней можно пальцем
рисовать фигуры, как если бы это был ком теста' (Изаковер 1938: 333).
И
это тактильное ощущение собственного рта, языка как чужого тела сопровождается
слуховым:
'Слуховое
впечатление - это впечатление гула, шуршания, бормотания, шептания (humming,
rustling, babbling, murmuring) или невнятного монотонного говорения' (Изаковер
1938: 333).
Весь
характер описываемых Изаковером звуков делает крайне неопределенным место их
производства. С одной стороны, они явно относятся к 'внешним' звукам - гул,
шуршание - с другой стороны, они явно возникают изнутри тела - бормотание,
шептание, говорение. Раздвоение Джекиля и Хайда также проходит через сходную
процедуру. Хайд представляется Джекилю как нечто неорганическое, а речь его
звучит так, 'как если бы грязь на дне ямы производила крики и голоса'
(Стивенсон 1950: 538).
Эйзенштейн
утверждал, что музыка (как неорганическое звучание) возникает как результат
постепенного пространственного отделения дыхания от тела:
'Техника
инструментов свиста, т. е. уже отделяющихся от "человека
приспособлений" - это на ранних стадиях
199
свист
стрелы, усиливаемый, напр., Батыевскими татарами путем прикрепления к ним
глиняных свистков. <...> Точно то же, что "происходит" с
духовым инструментом дальше. <...> И сам этот инструмент, как продление
процесса издавания артикулированного звука человеком:
столб
воздуха, посылаемого мехами диафрагмы, as conflicting с сопротивлениями -
гортани, зубов, губ, языка, проводящих путей через нос (откуда назальные,
гортанные, губные etc.)' (Эйзенштейн 1992:191-193). Происхождение музыкальных
инструментов связано с процессом диссоциации телесности, который, по мнению
Эйзенштейна, доминирует в звуковом кинематографе как принцип асинхронности.
Феномен Изаковера в неявном виде присутствует в любом звуковом фильме. Ведь
голос в кино никогда в действительности не производится видимым на экране ртом,
его источник всегда вне тела говорящего, в месте расположения динамика. Тело в
звуковом кино всегда раздвоено, его акустическая субстанция как будто выходит
за пределы его оболочки. Мишель Шион справедливо указывает, что голос в кино
'блуждает' и требует, по выражению Маргерит Дюрас, чтобы его 'привинтили' к
телу (Шион 1982: 109). Шион считает, что голос в кино выполняет функции,
сходные с функциями двойной экспозиции. Он как бы находится в диегетическом
пространстве и вместе с тем вне его. Тем самым звучащее тело в кино
воспроизводит и структуру галлюцинации, как она описана Морисом Мерло-Понти:
'Галлюцинации
разыгрываются на иной сцене, нежели воспринимаемый мир, они как будто
существуют в двойной экспозиции. <...> Любая галлюцинация- это прежде
всего галлюцинация собственного тела. 'Как если бы я слышал собственным ртом';
'Тот, кто говорит, держится за мои губы', - утверждают больные' (Мерло-Понти
1945:390-391).
Мерло-Понти
вспоминает о Жорж Санд, которую преследовал двойник, все тот же 'демон',
никогда ею не виденный, но говоривший с ней ее собственным голосом.
Галлюцинации строятся таким образом, как если бы тело больного фиктивно
занимало то место в пространстве, где оно в реальности не находится:
'...Будучи
оторванным от некоего места, тело сохраняет возможность с помощью собственного
монтажа вызывать псевдоприсутствие этого места' (Мерло-Понти 1945: 392), -
замечает философ.
Гизела
Панков приводит множество случаев такого рода раздвоений, часть из которых она
описывает как 'феномен потерянного тела', когда шизофреник уходит из
собственного тела, ощущаемого им как пустая оболочка, 'ветошка', по выражению
Достоевского. К
200
близкой
категории психозов Панков относит случаи удвоения голоса эхом или раздвоения
лица в зеркале (Панков 1993:59-67).
В
первых двух главах речь шла о неком миметическом удвоении. В романе Рильке
рассказчик буквально идентифицирует себя с конвульсивным телом прохожего. Он
как бы проецирует себя на место другого. В галлюцинациях или некоторых психозах
возникает иллюзия диссоциации с самим собой. Пауль Шилдер описывает сходные
психозы, которые он относит к категории 'деперсонализация':
'Пациент
видит свое лицо в зеркале измененным, неподвижным и искаженным. Его собственный
голос кажется ему странным и незнакомым, и он вздрагивает при его звуках, как
если бы говорил не он сам' (Шилдер 1970:139).
Деперсонализация,
по мнению Шилдера, является результатом дереализации, которая парадоксально
может наступить в силу чрезвычайно обостренного внимания. Шилдер описывает
певицу, 'проявлявшую деперсонализацию по отношению к говорению и рту, органу,
на который она обращала специальное внимание, как у себя, так и других' (Шилдер
1970:139).
В
ином случае деперсонализацию вызвал приступ ревности. Больной попытался
представить себе свою жену в постели с другим14.
'Затем
он испытал невозможность вообразить это и даже неспособность вообразить что бы
то ни было. В конце концов его видение потеряло характер реальности.
Деперсонализация началась тогда, когда пациент подавил в себе тенденцию
квуаеризму' (Шилдер 1970:140). Шилдер подчеркивает эротический механизм
деперсонализации. Но нельзя, однако, не заметить, что потеря реальности
наступает с поражением способности непротиворечивого воображения или попросту
видения. Поражение вуаеризма - не просто жест подавления, это реакция на некий
'солецизм', на химеру, которую нельзя увидеть в неком непротиворечивом
единстве. Возможно, и маниакальная концентрация на области рта у певицы
приводит к постепенной его химеризации. Солецизм возникает от
микронесовпадений, от химерического различия, вписанного в тело и всегда
гнездящегося вокруг рта. Блокировка зрения, воображения запуска-
__________
14 См. подробное описание такого рода
диссоциации в американской версии 'Отчаяния' Набокова. Здесь герой занимается
любовью со своей женой и одновременно наблюдает за этой сценой со стороны.
Постепенно, однако, он обнаруживает, что 'чем больше было расстояние между
моими двумя 'Я', тем больший экстаз я испытывал. Каждую ночь я садился на
несколько дюймов дальше от кровати, и вскоре задние ножки моего стула достигли
порога открытой двери'. Далее герой 'переходит' в другую комнату и наконец
мечтает смотреть на собственную любовную сцену через бинокль и даже телескоп -
Набоков 1966: 28. По ходу романа диссоциация постепенно переходит в деперсонализацию.
201
ет
механизм деперсонализации, 'феномен потерянного тела'. Место манифестации
солецизма становится негативным местом, 'псевдоместом' диссоциации.
Но
это псевдоместо, место, где нет видимого тела, в кино постоянно актуализируется
внешней локализацией голоса. Поэтому некое смутное галлюцинаторное расслоение
тела, его 'химеризация' заложены уже в саму структуру звукового фильма. Дубляж
лишь доводит это отчуждение голоса от тела до парадоксальных и потому более
ощутимых форм.
Наличие
двух тел в одном или пространственная разорванность единого тела лежат в основе
возникновения тех кинематографических монстров, о которых говорит Борхес.
Трансформация тела и образование монстра могут привести к разным последствиям,
от полной блокировки речи до ее 'чудовищной' деформации во что-то
'неорганическое'. В новелле Эдгара По 'Без дыхания' герой - 'живой, но со всеми
свойствами мертвеца, мертвый, но со всеми наклонностями живых' (По 1972, т. 1:
91), - 'становящееся тело' в категориях Бахтина, теряет дыхание, но все же
может говорить какими-то уродливыми гортанными звуками:
'Ведь
частота вибрации звука (в данном случае гортанного) зависит, как я сообразил,
не от потока воздуха, а от определенных спазматических движений, производимых
мышцами гортани' (По 1972, т. 1: 92). Это отчуждение голоса придает ему
механический, затрудненный характер. Химера как будто не может в силу своей
раздвоенности производить речь как органическое излияние воздушного потока. Она
стоит у языкового барьера, возникающего от разобщенности тел, обнаружимой в
области рта, или от слияния тел, как бы склеивающихся в гортани.
Такой
же противоречиво-двойственный характер речи обнаруживается и в рассказе По
'Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром', проанализированном
Роланом Бартом. В 'месмерической речи' мертвеца одновременно присутствует
какая-то нерасчленимая 'клейкость' и 'пугающая членораздельность'. Барт видит в
клейкости характеристику смерти, а в членораздельности - фундаментальное
свойство языка, 'отсюда- испуг и ужас аудитории: между Смертью и Языком
существует вопиющее противоречие; противоположностью Жизни является не Смерть
(стереотипное представление), а Язык; невозможно решить, умер Вальдемар или
жив; бесспорно только одно: он говорит; но его речь нельзя отнести ни к Жизни
ни к Смерти' (Барт 1989:451).
Иной
значащей оппозицией в речи мертвеца, по Барту, является оппозиция между
бездействующими зубами и челюстями и язы-
202
ком-
'содрогающимся фаллообразным органом, находящимся в предоргазменном состоянии'
(Барт 1989: 448; ср. с наблюдениями Эрнеста Джонса), собственно и порождающим
речь. Барт связывает смерть с глубинным, нутряным, мускульным, вязким -
трепещущим языком, а культуру - с внешним, четким, чистым, дентальным-
бездействующими зубами. В оппозиции языка и зубов вновь воспроизводится
антиномия клейкого и прерывистого, Языка и Смерти (отметим, между прочим: то,
что для Арто - мускульное, глубинное - жизнь, то для По - смерть).
Эти
оппозиции, вообще характерные для любой речи, особенно ясно выявляются именно в
ситуации насильственного говорения, диббука, дубляжа. Подобные ситуации как бы
раздваивают говорящее тело, а слово в них 'фетишизируется в виде содрогающегося
фаллообразного органа'. Слова отделяются от тела, выталкиваются из него в
подобии физиологического процесса (оргазма, родов). Именно к образу родовых
спазмов, сотрясающих раздвоенное тело (к образу рождения речи как тела)
отсылают нас и 'спазматические движения' гортани из рассказа 'Без дыхания'.
Бахтин приводит аналогичный образ из истории комедии дель арте (по Флёгелю и
Фишеру):
'Заика
в беседе с Арлекином никак не может выговорить одно трудное слово: он делает
необычайные усилия, задыхается с этим словом в горле, покрывается потом,
разевает рот, дрожит, давится, лицо раздувается, глаза вылезают из орбит,
"кажется, что дело доходит до родовых спазм"' (Бахтин 1990: 338)15.
В
этом описании хорошо видно, как рождение слова сопровождается рождением
чудовищного гротескного тела, монстра. Существо речи выражает себя не в словах,
а в корчах рождающего слова. Речь становится некой силой, способной почти
физически коверкать тела. Как-то Ницше заметил, что любая коммуникация по
существу психомоторна:
'Мысли
никогда не передаются: передаются движения, мимические знаки, которые мы затем
возводим к мыслям' (Ницше 1968: 428).
Мысль
в ее телесном выражении, по мнению Ницше, всегда энергетична и поэтому всегда
связана с дионисийским, меняющимся под воздействием сил телом. Иными словами,
мысль в своем пластическом выражении - диаграмматична, а потому монструозна.
Перед
нами процесс сращения тела со словом, мучительного
_____________
15 Мотив рождения слова, говорения
гениталиями во всех подробностях иронически разработан в 'Нескромных
сокровищах' Дидро. Там же встречается и тема задыхающихся и заикающихся
гениталий. См. Дидро 1968: 121
203
становления
'речи-аффекта', о которой мечтал Арто. Слово выходит вовне как плод, оно почти
удваивает собой тело говорящего. Вырываясь из тела, звук приобретает функцию
того, что Лакан назвал 'объект а'. 'Объект в' - это нечто невыразимое, не
вписываемое в структуру, но ее определяющее, это часть тела, оторванная от него
и обозначающая пустоту, зияние, вокруг которого формируется Бессознательное.
Отделение 'объекта а' от тела всегда
предполагает наличие телесного отверстия, поэтому этот объект описывается
Лаканом и как ребенок, 'выпавший' из тела матери, и как экскременты, и даже как
дыхание (ср. с рассказом По).
'Голос
и взгляд - такие выпавшие объекты, тем более что голос теряется, неуловимый, и
взгляд отражает без отражения' (Клеман 1975: 131), - замечает Катрин Клеман.
Отделение
'объекта а' от тела (Лакан называет
его 'первичным отделением') задает расщепление субъекта, вводит в него фикцию
интерсубъективности.
'"Объект
а", - пишет Лакан, - это нечто,
отчего, как от некоего органа, отделился субъект ради того, чтобы
конституироваться. <...> Поэтому нужно, чтобы он - во-первых - был
отделим, а, во-вторых - чтобы он имел некое отношение к отсутствию' (Лакан
1990:119). В такой ситуации расщепления субъекта и возникает влечение. Лакан
описывает некую дугу, которая выходит в пространство в том месте тела, где
зияет пустота, затем огибает 'объект а'
и возвращается в тело. Пространственная схема Лакана показывает, что влечение
формируется именно по краям отверстия, маркирующим пустоту, нехватку, и
направлено вокруг 'объекта в' как чего-то втягиваемого в эту пустоту, зияние.
Выпадение голоса как будто включает в теле некий механизм желания, но он же и
механизм поглощения, поедания, направленный на 'выпавший объект'.
'Этот
объект, который в действительности, - не что иное, как присутствие зияния,
пустоты, занимаемой, как указывает Фрейд, любым объектом, и чье существо нам
известно не иначе, чем его определение в качестве потерянного "объекта
в"' (Лакан 1990; 201).
Звук,
исходящий изо рта, образует пустоту, нехватку, вводящую расщепление, 'шиз' в
субъект. Но химерическое расщепление задается и самим дубляжом в силу
иллюзорной разделенности говорящего на видимого и иного - слышимого.
Химерическое тело дубляжа все обращено к голосу, к 'объекту а', который как бы
способен восстановить его единство, войти в него как недостающий орган,
заткнуть дыру зияющего рта, которую он же и создает. Рот становится зиянием,
порождающим 'выпадающий' из него звук, и отверстием,
204
стремящимся
вернуть его внутрь, поглотить16. Не
случайно Лакан и о речи пишет как о чем-то материальном:
'...Речь
не материальна. Она - едва ощутимое тело, но все же тело. Слова погружены во
все телесные образы, которые ловят субъект; они могут оплодотворить истеричку,
идентифицироваться с объектом penis-neid, представлять поток мочи <...> или экскременты...' (Лакан
1970:183) Лакан почти дословно повторяет бахтинскую метафору слова как
выделений низа гротескного тела. 'Выделение' голоса расщепляет субъект.
Показательно, что аутичные дети, стремящиеся порвать все связи с враждебным
миром и сохранить закапсулирован-ной свою целостность (не допустить 'шиза'),
сопротивляются любой речевой практике. Бруно Беттельхайм, изучавший поведение
аутичных детей, отмечал, что его пациентка Марчиа 'обращалась с каждым слогом
или очень короткими словами как с раздельными сущностями, как частями своего
тела, которые она стремилась удержать' (Беттельхайм 1967:186). Эта же пациентка
идентифицировала речь с экскрементами:
'На
желание ее матери заставить ее испражняться тогда и так, как мать того хотела,
девочка отреагировала потерей всякого желания говорить, и вместе с этим она
потеряла всякое чувство "Я"' (Беттельхайм 1967: 218). Аутичные дети
отличались, по наблюдению Беттельхайма, полной инертностью рта, его фантазматическим
исключением из тела, а также чрезвычайно своеобразным искажением голосового
тона:
'Даже
тогда, когда они что-либо говорили, они говорили совершенно особым голосом.
Чаще всего это было подобие голоса, которым говорят глухие; это был тот же
лишенный тональности голос, не приноравливающийся к уху, голос человека,
который не может слышать самого себя. И действительно, они не хотят знать того,
что сами же и говорят, и не хотят, чтобы их слышали другие. Все это придавало
голосу более чем странное звучание' (Беттельхайм 1967:427).
Искажение
голоса делает его чужим, но оно же и отмечает раздвоение, отчуждение.
Деформация голоса диаграмматически отмечает нарастающую диссоциацию личности.
Одновременно голос иллюзорно перестает принадлежать телу и 'выделяться' из
него, он теряет качества 'объекта а' и как бы не создает телесного зияния,
расщепляющего субъект. Он производится 'чужим' ртом, пациент
__________
16 Ср. с техникой певцов и
чревовещателей: 'У чревовещателя, как
и у певца, главная задача - никогда не допускать полного выдоха, то есть не
оставлять легкие совсем без воздуха. Достигается это тем, что новая порция
воздуха добирается, когда старый запас в легких израсходован еще не полностью'
(Донская 1990: 37). Речь идет, по существу, об одновременном испускании воздуха
и его поглощении.
205
как
бы не слышит его и тем самым сохраняет нарциссическую целостность 'Я'. Пациент
как бы говорит, не раскрывая рта. Аутическая речь - это по существу речь
вентрилока, демона,-Пифии.
В
дубляже мы имеем сложную ситуацию. С одной стороны, голос вылетает из тела,
вводя в него химерическое расщепление. С другой стороны, это чужой голос,
подобный тому, которым говорят аутичные дети. Это голос, не оставляющий зияния
в теле. Рот дублируемого актера на экране - это и рот-зияние, место
трансформации и сращения нескольких тел, но это и чужой механический рот, чья
физика никогда полностью не совпадает с физикой слышимой речи (вспомним
замечание Борхеса о том, что 'мимика английского языка отличается от мимики
испанского'). Экранная химера в силу этого и расщеплена, открыта на мир,
иссечена трещинами, зияниями, в которые входит смысл, и одновременно
изолирована от мира, замкнута в себе, непроницаема. Именно таков фантастический
статус актера, говорящего чужим голосом. И эта фундаментальная двойственность
еще раз отсылает нас к химере, которая не может иметь души вне тела, потому что
само ее тело - не что иное, как речь.
Поскольку
химера дубляжа вся вообще зиждется на речи, вся - 'словесный монстр' Борхеса,
то и ведет она себя, несмотря на свою физическую явленность на экране, по
законам речи. Ведь только речь способна вместить в себя те оксюмороны и
несоответствия, которые не способно выдержать видимое тело. Тело фрейдовской
Ирмы может быть парадоксальным 'коллективным телом' только потому, что в его
основе лежит метафорический механизм речи, физически явленный навязчивым
образом ее рта.
Роже
Кайуа в своем исследовании механизма мимикрии у насекомых (странного стремления
тела стать телом другого, симулякром) сравнил ситуацию такой противоестественной
трансгрессии телесной идентичности с шизофреническим сознанием и описал ее
почти как галлюцинацию по Мерло-Понти или феномен Изаковера:
'Я
знаю, гдя я, но я не чувствую, что нахожусь в том месте, где я нахожусь. Этим
неприкаянным душам кажется, что пространство - это некая всепоглощающая сила.
Пространство преследует их, окружает, переваривает их в гигантском фагоцитозе.
В конце концов оно их замещает. Тогда тело отделяется от мысли, личность рвет
оковы своей кожи и проникает по ту сторону собственных чувств. Оно стремится
смотреть на себя из любой точки пространства. Оно чувствует, что само
превращается в пространство, темное пространство, в котором нет места для
вещей' (Кайуа 1972:108-109).
Кайуа
называет описанный им процесс 'деперсонализацией через ассимиляцию
пространства' (la depersonnalisation par assimilation
206
a
1'espace). Это явление сходно с растворением человека в лабиринте (см. главу
3). Речь идет о таком же расползании границ тела и совпадении их с границами
некоего внешнего пространства. Но в данном случае это не столько оптическое,
сколько акустическое пространство - объем воздуха, заполняемый звуком и
вибрирующий под его воздействием (подробнее об исчезновении тела в вибрирующем
континууме см. главу 7). Тело поглощается голосом и становится им. Из точки, из
локализованного 'объекта а' голос
превращается во всепоглощающего монстра. Зияние рта как бы выворачивается
наружу, превращаясь во всепоглощающее пространство. Монструозность такого
выворачивания, такой невообразимой деформации - это диаграмматической след
машины химерической телесности. Тело, съевшее голос, в конце концов само
поглощается им.
Глава 6. МАСКА, АНАМОРФОЗА И МОНСТР
1. Sileni patris imago
Тело
постоянно производит свои двойники ('демоны', как я называю их, используя
выражение Сократа). Двойники существуют с телом в симбиозе, который можно
обозначить как 'машину'. Симбиоз этот строится на удвоении и различии, на
производстве деформаций - диаграмм. В этой главе речь пойдет об особой форме
такого симбиоза, непосредственно выраженной в производстве двойников,
симулякров, подобий, 'эйдолонов'.
В
центре внимания тут будет текст, исследующий такое производство, - 'Восковая
персона' Юрия Тынянова. 'Восковая персона' - самое барочное произведение
Тынянова. Сам язык этой повести - тяжеловесный, стилизованный, отмечен
деформациями принятой языковой нормы. Языковая текстура как будто отражает
давление некой силы, запечатленное на письме. Барочность повести отчасти
мотивируется самим ее материалом - эпохой барокко, особым положением, которое
занимает среди персонажей скульптор Растрелли. Именно вокруг Растрелли
сфокусированы наиболее изощренные орнаментальные ходы повествования.
Итальянский мастер как будто моделирует мир вокруг себя по законам
свойственного ему стиля.
Один
из центральных в этом смысле эпизодов - тот, где Растрелли изготовляет восковую
маску Петра, преображая лицо императора согласно 'правилам' некоего
аллегорического текста, как бы меняя индексальную природу маски, превращая ее в
символ с помощью немногих, но точно рассчитанных деформаций.
'И
он прошелся теплым пальцем у крайнего рубезка и стер губодергу, рот стал, как
при жизни, гордый рот, который означает в лице мысль и учение, и губы,
означающие духовную хвалу. <...> И широкий краткий нос он выгнул еще
более, и нос стал чуткий, чующий постижение добра. Узловатые уши он поострил, и
уши, прилегающие плотно к височной кости, стали выражать хотение и тяжесть'
(Тынянов 1959: 418; далее в настоящей главе все ссылки на это издание даются с
указанием одной лишь страницы).
208
Под
руками ваятеля отпечаток лица превращается в аллегорический текст, создаваемый
по правилам, изложенным в физиогномических трактатах. Вместо губ возникает знак
духовной хвалы, вместо ушей - хотения и тяжести и т. д.
Эта
перекодировка индекса в символ, происходящая прямо под руками Растрелли,
требует своего рода расщепления изображения надвое, отделения символического
слоя от натуралистически-индексального. Эта процедура напоминает логическое
отделение указания (Anzeichen) от выражения (Ausdruck) у Гуссерля. Процедура
эта в повести приобретает отчетливо сюжетный характер. Персонажи как будто
отслаивают от себя какую-то символическую кожу, испускают некие маски, которые
приобретают совершенно самостоятельное значение и начинают функционировать наравне
с их собственными телами, а иногда и заменяют эти тела. По существу, процедура
снятия воскового дубликата с императора выступает как своего рода метафора
такой знаковой процедуры.
Сцена
обработки маски скульптором, однако, на этом не кончается. Самая ее интересная
часть начинается позже. За работой Растрелли наблюдает его ученик Лежандр:
'Лежандр
смотрел на мастера и учился. Но он более смотрел на мастерово лицо, чем на
восковое. И он вспомнил то лицо, на которое стало походить лицо мастера: то
было лицо Силеново, на фонтанах, работы Растрелли же.
Это
лицо из бронзы было спокойное, равнодушное, и сквозь открытый рот лилась
беспрестанно вода, - так изобразил граф Растрелли крайнее сладострастие Силена.
И
теперь точно так же рот мастера был открыт, слюна текла по углам губ, и глаза
его застлало крайним равнодушием и как бы непомерной гордостью.
И
он поднял восковую голову, посмотрел на нее. И вдруг нижняя губа его шлепнула,
он поцеловал ту голову в бледные еще губы и заплакал' (419).
В
процессе работы над маской Петра сама голова Растрелли претерпевает
метаморфозу. В глазах Лежандра она неожиданно начинает обретать сходство с
лицом Силена, собственно с Силеновой маской, из открытого рта которой течет
вода1. Для того чтобы добиться
максимального, почти навязчивого сходства с маской Силена, Тынянов даже
заставляет скульптора во время работы пускать слюну
________
1 Тынянов подчеркивает мотив
'открытого рта', который в XVIII веке был знаком отталкивающего уродства,
'монструозности' - мотива чрезвычайно важного для всей 'Восковой персоны' Ср. у
Лессинга 'Одно только широкое раскрытие рта, - не говоря уже о том, какое
принужденное и неприятное выражение получают при этом другие части лица, -
создает на картине пятно, а в скульптуре - углубление, производящее самое отвратительное
впечатление' (Лессинг 1953 396)
1. Фреска из виллы мистерий. Помпеи.

2. Леонардо да Винчи. Рисунок водного потока, встречающего препятствие.
Виндзор.

3. Леонардо да Винчи. Сердце и легкое. Виндзор.

4. Леонардо да Винчи. Гротескные головы. Виндзор.





5. Винчи. Дять голов. Виндзор.

6. А. Бенуа. Восковой портрет Людовика XIV. 1706.
Версаль

7. X. Трёшель (по рисунку С. Вуэ) Format illustrat, ок. 1625

8. Б -К. Растрелли Голова Медузы Маскарон
Марлинского каскада, 1723.

9. Б -К Растрелли Нептун, 1723

10. Б. - К. Растрелли. Нептун Цилиндрический рельеф,
1719.

11. Иллюстрация к трактату Герарда Блазия 'Anatome
contracta'. Амстердам, 1666.

12. Д. Хопфер. Женщина, смерть и
дьявол.

13. М. Бетгини. Глаз кардинала Колонны,
1642.

14. Б.-К. Растрелли. Лягушка. Большой каскад в Петергофе.
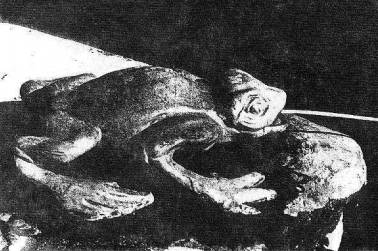
15. К. Бертен. Человек, превращающийся в лягушку.
Фонтан Латоны. Версаль. 1687-1691.

16. Ребенок с лягушачьим лицом. Иллюстрация к книге А. Паре 'О чудовищах и чудесах', 1573.

17. Деталь надгробия Франсуа де ла Сарра.
Ла Сарраз, Швейцария, ок. 1390.

18. Б.-К. Растрелли. Голова Петра 1,1721.

19. Б.-К. Растрелли. Портрет Петра I, 1723.

20. Б.-К. Растрелли. Конная статуя Петра I, 1744.
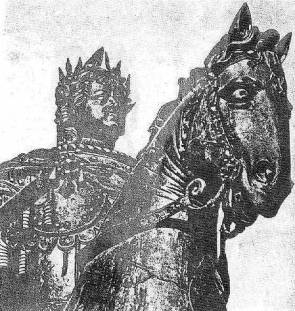
21. Гравюра из трактата Томаса Теодора Керкринга 'Opera omnia anatomica', 1729.

22. Иллюстрация к трактату Риолана 'О чудовище, рожденном в Лютеции в 1605 году'. Париж, 1605.
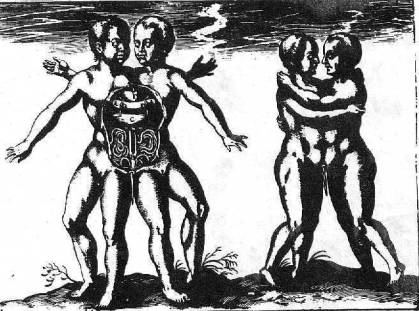
23. 'Два ребенка, соединенных вместе' - гравюра из трактата Дю Берне, опубликованного в 'Мемуарах Французской королевской академии наук', 1706.
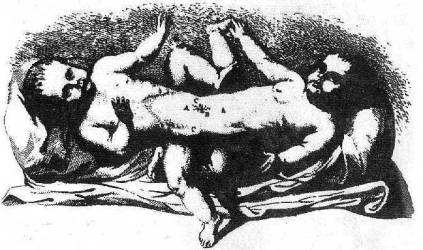
24. Н.-Ф. Реньо. Двойной ребенок. Из трактата 'Отклонения природы, или
Сборник уродств, производимых природой в
человеческом роде', 1775. Гравюра с восковой фигуры, в настоящее врейя
находящейся в Музее естественной истории в Париже.

25. Микеланджело. 'Страшный суд', фрагмент.

26. Г. Бесерра. Гравюра из трактата X. де Вальверде
'Анатомия человеческого тела', 1560.
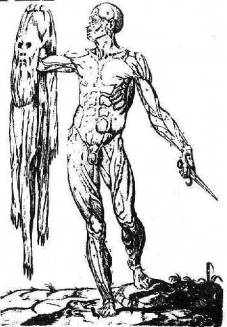
209
изо
рта, а глаза его застилает 'крайним равнодушием' (ср. с темой лягушачьего
глаза, рассмотренной ниже).
Это
превращение Растрелли в маску создает очевидную зеркальность ситуации, особенно
красноречиво проявленную в сцене странного поцелуя. Только что рот ваятеля был
уподоблен пустому рту фонтанного Силена, но вдруг 'нижняя губа у него шлепнула,
он поцеловал ту голову в бледные еще губы'. Описание строится так, чтобы
соприкоснулись губы не скульптора и 'персоны', а собственно фонтанного Силена и
маски Петра. В этом удивительном жесте маска как будто отражается в маске2.
Однако
сцена эта имеет еще более сложную зеркальную структуру, чем это представляется
на первый взгляд. Лежандр специально подчеркивает сходство своего учителя с
Силеном, а не с каким-нибудь водным божеством, которых Растрелли во множестве
изготовил для петергофских фонтанов. Силен вводит в повесть существенную для
нее тематику дионисийства. С дионисийством связан целый ряд тем повести, вплоть
до такого, казалось бы, анекдотического мотива, как беспробудное пьянство
уродов в кунсткамере, выпивающих вино из сосудов, в которых содержатся
заспиртованные 'натуралии' (характерно, что пьянствующие монстры - двупалые:два
пальца на их ногах - явная подмена Сатаровых копыт). Существенней, конечно,
другое, прежде всего связь дионисийского культа с ношением масок. Силен же - учитель
и воспитатель Диониса - играет особую роль в дионисийских мистериях.
Одно
из наиболее знаменитых и часто интерпретируемых изображений Силена в контексте
дионисийских мистерий находится в так называемой Вилле мистерий (Villa dei
Misteri) в Помпеях. (Илл. 1.) Здесь Силен предстает сначала как воспитатель
Диониса, а затем как центральная фигура в обряде дионисийской инициации. Эта
многократно описанная загадочная фреска, по-видимому, находится в подтексте
рассматриваемого эпизода тыняновской повести. Силен изображен на ней с чашей в
руках. Он протягивает чашу, и в нее в изумлении всматривается молодой сатир.
Другой молодой сатир за его спиной держит маску Силена - т. е. лицо Силена как
бы удвоено маской, помещенной прямо над его головой. В описанной сцене чаша
служит выгнутым зеркалом. Молодой сатир смотрится в это зеркало, но вместо
своего лица видит маску Силена.
Анализу
этой сцены посвящена обширная литература. Михаил Ростовцев, чья книга могла
быть известна Тынянову, прочитывал эту фреску как изображение 'леканомантейи'
(lekanomanteia), гада-
________
2 Эта зеркальность подчеркивается
тем, что сам ваятель отчасти преобразует Петра в сатира (то есть в Силена же) -
'поострил уши' (заостренные уши - один из признаков сатира).
210
ния
по чаше с водой3. В. Маккиоро видея в
самом факте подмены лица юноши маской Силена нечто сходное с кристалломантией:
'Он
видит в зеркале ряд лиц, порождаемых маской и жизнью Диониса' (Маккиоро б.г.:
22), и явление этих лиц как бы пророчит юноше его будущую судьбу4.
Можно,
разумеется, гадать о том, что видит юноша. И все же его изумление может быть
объяснено несколькими факторами. Вместо своего лица он видит маску, маску
учителя. По мнению Карла Кереньи, если испытуемый и видит свое будущее, то как
образ учителя или (в психоаналитической плоскости) образ отца. Образ Силена как
образ отца: Sileni patris imago
(Кереньи 1949: 201).
Странным
образом помпейская фреска как будто предвосхищает некоторые психоаналитические
идеи, в частности лакановскую теорию о стадии зеркала в формировании 'Я'. Не
вдаваясь в детали, напомню читателю, что, согласно Лакану, человеческое 'Я'
возникает в результате созерцания ребенком своего и родительского образов в
зеркале, когда место хаотической картины тела, до этого как бы состоящего из не
связанных между собой частей (membra disjecta), занимает образ целостного тела,
тела взрослого, Другого, видимого в зеркале. 'Я' возникает в результате идентификации ребенка с imago взрослого,
его образом.
Существенно,
однако, что этот целостный образ обладает качествами своего рода скульптурной
маски, так как является не живым и подвижным отражением чужого тела, а именно
его образом5.
Лакан замечает:
'Целостная
форма тела, через которую субъект в неком мираже предвосхищает зрелость своего
могущества, дается ему лишь как Gestalt - иными словами, как нечто внешнее. И в
этом обличий форма тела зримо предстает перед ним в тех размерах, в которых она
получает завершение, и в перевернутой симметрии, то есть в облике,
противостоящем той энергии движений, которым он старается ее оживить' (Лакан
1970: 91).
___________
3 Ростовцев описывает и другую
аналогичную сцену с Силеном в так называемом 'Homeric House', также
идентифицируя ее как сцену гадания, а не инициации (Ростовцев 1927: 66-68).
4 Здесь разыгрывается
ситуация, описанная Ницше, который считал, что Дионис является божественным
прототипом, лишь выступающим под разными 'масками':
'...Все
знаменитые фигуры греческой сцены - Прометей, Эдип и т. д. - являются только
масками этого первоначального героя - Диониса. То, что за всеми этими масками
скрывается божество, представляет одно из существенных оснований для вызывавшей
столь часто удивление типичной "идеальности" этих знаменитых фигур'
(Ницше 1990а:93).
5 Ср. с процитированным
в главе 4 наблюдением Панофского о превращении символов в фетиши, об 'одевании
символов в одежды' каменных статуй. Статуя - это фетишизированная форма imago.
211
Это
свойство идеального образа 'Я' представать в формах фиксированной неподвижности
позволяет Лакану говорить о взаимосвязях, 'объединяющих 'Я' со статуей, через
которые человек как бы проецирует себя на владеющие им фантомы, на автомат...'
(Лакан 1970: 91).
Образ
себя-будущего не является просто образом Другого. Он обязательно включает в
образ другого целый ряд деформаций. В широком смысле слова они отражают
временной провал, ту временную 'цезуру', которая отделяет ребенка от него же в
будущем. Ребенок не узнает себя в образе себя будущего почти так же, как не
узнает себя Чехов, вернувшийся из небытия в свой собственный дом (см. главу 4).
Только в данном случае эта цезура отделяет не прошлое, а будущее.
Существенно,
однако, что деформация принимает форму маски, отделенной от живого тела
(учителя, отца) и деформированной. Деформация в данном случае самым
непосредственным образом объясняется противостоянием личины силам, стремящимся
привести ее в движение, оживить, как отмечает Лакан. Деформация,
зафиксированная в статуарности, - это как раз и есть диаграмма противостояния
деформирующим силам, принимающая образ, по выражению Лакана, 'перевернутой симметрии'.
Правда,
в помпейской фреске ситуация не совсем соответствует описанной Лаканом.
Во-первых, юный адепт - отнюдь не младенец. Между обликом его тела и обликом
Силена нет такой огромной пропасти, как между телом младенца и телами его
родителей. Правда, старик Силен в какой-то мере сохраняет детские черты лица.
Как заметил Франсуа Лиссарраг о сатирах, 'их статус близок к статусу детей, чьи
тела также еще не обрели изящества и не до конца сформировались' (Лиссарраг
1993: 219). 'Стадия зеркала' уже в силу одного этого приобретает здесь
амбивалентность. 'Взрослый' юноша как бы видит свое будущее в образе
старика-младенца.
Во-вторых,
статуарность маски, которая диаграмматически фиксирует определенное напряжение
сил, противостояние оживляющей ее энергии, здесь отражается в налитой в чашу
жидкости, которая вводит в неподвижную маску движение, накладывая одну
деформацию (деформацию отражения) на другую (маскообразность).
Между
прочим, само сатирово лицо возникает как деформация, как маска. Так, согласно
легенде, Афина изобрела флейту для того, чтобы имитировать звуки, издаваемые
Горгоной и ее змеями.
'Рассказывают,
что Афина, занятая дутьем во флейту, не придала значения предупреждению сатира
Марсия, который, увидев ее с растянутым ртом, надутыми щеками и лицом,
совершенно искаженным в усилиях заставить зву-
212
чать
инструмент, сказал ей: "Эти штуки тебе не идут. Возьми лучше свое оружие,
оставь флейту и верни на место свои челюсти". Но когда, взглянув в воды
реки, она увидела не свое прекрасное лицо богини, но ужасающий оскал Горгоны,
она навсегда отбросила флейту, вскричав:
"Прочь
этот постыдный предмет, оскорбление моему телу, я не предамся этой
низости"' (Вернан 1985:56). Флейту подобрал Марсий, и она стала атрибутом
сатиров. Флейта в данном случае лишь особый инструмент имитации, который,
подражая звукам Горгоны, воспроизводит и мимику чудовища. Сатир, чье лицо как
бы навеки запечатлевает ту деформацию, которая привела в ужас Афину, по
существу не имеет своего лица, он изначально снабжен лицом-маской, чужим лицом,
неким театрализованным подобием Горгоны. Сатиры носят маску как собственное
лицо и как продукт деформации (как обезображенное лицо Афины). Не случайно,
конечно, Силен рассматривался как эквивалент корифея театрального хора
Паппосилена (Papposilenus) (см. Лиссарраг 1990).
Интериоризация
imago существенна еще и потому, что
она позволяет человеку овладеть не только сферой воображаемого, но и сферой
символического, то есть языка. Показательно, что Силен именно как учитель,
отец, мистагог постоянно изображается с собственной маской либо с трагической
дионисийской театральной маской, которая дублирует его лицо. Не случайно,
конечно, Лежандр- ученик, инициируемый- видит Растрелли сдублированным маской
Силена. Таким образом, зеркальная ситуация сцены из 'Восковой персоны'
удваивается зеркальной ситуацией помпейской фрески.
Между
тем созерцание маски отличается от непосредственного созерцания лица. Дионис -
бог с маской, воплощенное раздвоение, по словам Мирчи Элиаде, 'показывается
неожиданно, а затем таинственно исчезает' (Элиаде 1978: 359). Явление маски -
всегда шок, эмоциональная встряска, всегда изменение 'естественного' состояния
контакта с миром. Вальтер Отто заметил, что дионисийская маска - 'это целиком
встреча и только встреча' (Отто б.г.:
84). Он же обратил внимание на странный характер этой встречи с маской,
объектом, не имеющим 'спины', иными словами - некой полноты бытия. Маска
олицетворяет призрачное явление, соединяющее воедино присутствие и отсутствие.
Встреча
с маской может описываться как столкновение с телесной формой, уже отчасти
перешедшей в некое воображаемое существование. Маска является образом, imago, то есть своего рода приближением
лица к сфере языка, его хотя бы частичным 'переводом' в иную знаковую ипостась.
213
Если
маска и приближается к сфере речи, то скорее к перформативам, непосредственно
воздействующим на человеческое поведение. Замечено, что в греческой вазописи,
например, лица персонажей изображены в профиль за исключением нескольких
случаев (Горгона) и масок, всегда изображенных в фас. Маска как бы
непосредственно следит за зрителем, вступает с ним в прямой эмоциональный
контакт. 'Встреча' вписана в саму структуру функционирования маски. Вступая с
ней в контакт, человек соприкасается с Другим, с Богом, который следит за человеком,
но сам невидим. Маска скрывает лицо божества, обнажая лишь его взгляд как
чистый перформатив, как чистое воплощение энергии, силы, побуждения. Жан-Пьер
Вернан так описывает роль дионисийских масок:
'Все
существо дионисийства, осуществляющего непосредственный контакт с чужестью
божественного, заключается в том, чтобы стать самому другим, преобразившись во
взгляде бога, или в том, чтобы соединиться с ним в миметической вовлеченности'
(Вернан - Видаль-Наке 1988: 204).
Поглощение
imago субъектом - это акт трансформации
самого субъекта, его структурирования, становления в контакте с Другим. Речь
идет о некой фундаментальной внутренней метаморфозе, которая в каком-то смысле
лишь символизируется превращением лица в маску. По мнению Анри Жанмера,
'для
божественного существуют два подлинных способа овладеть человеком, подвергнув
его метаморфозе: через маску, которая преображает его извне, для других, прежде
чем преобразить его для самого себя, заставляя его играть божественного или
демонического персонажа; а также через одержимость, которая преображает его
изнутри и воздействует на его поведение' (Жанмер 1951: 310). Таким образом,
маска действительно выступает как внешний пластический след внутренней
метаморфозы. Она как бы диаграмматически представляет эту метаморфозу в
гротескной искаженности своих черт.
Ее скульптурность есть лишь форма фиксации изменения, запечатлевающая
мгновенность встречи как
фундаментального события преображения. При этом встреча по сути не имеет
временного измерения, она лишь фиксирует шок, момент преображения, катастрофу
возникновения диаграмматического следа.
2. 'Фаза уродов'
Маска
поэтому никогда не является непосредственной копией лица. Она всегда -
деформация, искажение. Полная идентичность слепка оригиналу когда-то не
позволяла различать их. Маска, в точ-
214
ности
повторяющая лицо, как бы не есть маска, для древних она - само лицо. Восковой
или гипсовый слепок с лица, использовавшийся в похоронных церемониях еще в
Древнем Риме (о чем, кстати, упоминает в повести Тынянов), не рассматривался
римлянами как нечто отличающееся от самого умершего6. Посмертная маска генетически связана с восковой печатью,
при этом римляне не видели разницы между отпечатком и самой печатью. Как
указывает Флоранс Дюпон,
'слово
imago в равной мере обозначает отпечаток
в воске и саму печать - и вогнутую, и выпуклую формы' (Дюпон 1989:408)7.
Установление
полнейшей эквивалентности между восковой персоной и телом умершего - важнейшая
часть похоронного ритуала. При этом восковая персона всегда относилась к
разряду чисто телесного. Дюпон замечает:
'Так
как imago - это материальная форма,
оно не является душой, и еще в меньшей степени душой бессмертной' (Дюпон 1989:
414).
Восковая
маска поэтому не имеет ни малейшего отношения к иной ипостаси покойного - его nomina, бессмертной ипостаси, отражающей
связь с родом и языком. Вот почему превращение слепка в образ, его приобщение к сфере символического возможно только в
результате деформации слепка, то есть процедуры по существу антисимволической,
диаграмматической. Ведь деформация сама по себе не может вписываться в
символический порядок, будучи
выражением напряжения и противоречия, в основном относясь к сфере сил и
различия.
Растрелли
занимается парадоксальной работой - он вводит сле-
__________
6 Расслоение imago от тела происходит в основном в ритуале императорских похорон
в Риме. Постепенно эта система удвоения проникает в иконографию императорской
власти, а после государственной реформы Диоклетиана и введения правления
тетрархов буквально пронизывает всю официальную иконографическую систему.
Тетрархи отныне изображаются как совершеннейшие двойники, неотличимые друг от
друга, как сдвоенный бог - питеп
geminatum, они даже справляют день рождения одновременно. См. Л'Оранж 1965:
42-53.
7 В данном случае
следует проводить различие между пониманием слова imago в римском погребальном ритуале и в психоанализе, где оно
понимается совершенно иначе. Это слово ввел в психоаналитический обиход Карл
Густав Юнг в 1911 году для описания образов отца, матери, брата и т. д. По
мнению Ж. Лапланша и Ж.-Б. Понталиса, imago
должно пониматься как стереотип, через который субъект видит Другого:
'..Jmago должно пониматься как отражение
реальности, пусть даже и в более или менее искаженной форме: imago вызывающего ужас отца, например,
может прекрасно существовать в субъекте, чей реальный отец мягок' (Лапланш -
Понталис 1973: 211).
В
этом смысле психоаналитическое imago
ближе не к полному эквиваленту (печати как индексу), а к 'негативной' или
гротескной копии, о которой речь пойдет дальше.
215
пок
в сферу символического через чисто диаграмматическую процедуру деформации. Этой
же 'работой' занимался и Силен, подвергая собственное свое лицо двойной
трансформации, являя его в виде маски и в виде отражения, при этом отражения не
простого, а искаженного. Чаша-зеркало в данном случае оказывается не только
отдаленной репликой печати (вогнутой формы), но деформирующим зеркалом. В каком-то смысле отражение в такой
поверхности и есть способ превращения лица в маску.
Луи
Марен заметил, что в живописи изображение отражений в вогнутых зеркалах
выглядит запечатленным на выпуклой поверхности. По его мнению, отражение в
вогнутом зеркале может 'открыть за своей поверхностью иллюзорное, виртуальное
выпуклое пространство' (Марен 1977: 149). Два этих деформирующих зеркала способны
выворачивать пространство собственной репрезентации, действительно работать как
печать и отпечаток.
Выпуклость,
как и вогнутость, отражающей поверхности деформирует изображение в определенном
ключе, который Марен называет 'аксиомой окаменевающего Циклопа' (Cyclope
nieduse) и который, конечно, отсылает к мандельштамовской 'дуговой растяжке'
зрения (см. главу 4). Отражение в такой поверхности напоминает отражение в
единственном глазе зрителя-Циклопа, который, деформируя мир, как бы постулирует
его организацию по законам единой точки зрения, единственного и неподвижного
глаза (Марен 1977:150).
Такого
рода деформация вписывается в то, что я определил как диаграмматический след
трансформации в символическое. Перед нами также искажение, диаграмма, но
одновременно след трансформации пространства в сторону символической
иерархичности (линейной перспективы как 'символической формы', если
использовать выражение Эрвина Панофского). Мы как бы сталкиваемся с рождением
символического из анти-символического, из диаграмматического. Перед нами - след
деформации пространства, приобретающего в результате такой деформации отчетливо
символическую форму. Процесс этот был описан Эрнстом Кассирером как свойство
мифического мышления, осуществляющего 'перевод' в языковое через специфическую
организацию пространства:
'...В
мифическом мироощущении существует <...> "копирование" в
пространстве того, что по своей сути непространственно. Здесь каждое
качественное различие как будто бы имеет некий аспект, в котором оно также
пространственно, в то время как любое пространственное различие является и
остается качественным различием. Между двумя сферами происходит некое подобие
обмена, постоянного перехода из одной в другую. <...> Простые
пространственные термины, таким образом, превраща-
216
ются
в подобие оригинального интеллектуального выражения. Объективный мир стал
доступен языку в той мере, в какой язык был способен переводить его обратно в
термины пространства' (Кассирер 1955:85-86). Перевод этот находит свое
пространственное выражение, например, в транспонировании образов из одного типа
пространства в другое с иными характеристиками деформации. Любопытен и сам
процесс реверсии соотнесенных (симметричных) пространств- выпуклого и
вогнутого. Печать или имитирующая ее отливочная форма в итоге дают, казалось
бы, точный отпечаток оригинала. Но получение этого 'точного' отпечатка проходит
обязательную фазу 'негатива', когда выпуклой поверхности соответствует
поверхность вогнутая, и наоборот. Эта симметричная трансформация вогнутости в
выпуклость в какой-то степени напоминает работу зеркала, также меняющего
местами 'полярность' изображения. Эта фаза 'негатива' в получении отпечатка
вводит между оригиналом и копией промежуточную стадию 'монстра', когда оригинал
подвергается 'абсолютному', радикальному искажению. При этом маска содержит в
себе и позитив (внешнюю поверхность) и негатив (внутреннюю, невидимую зрителю
поверхность). Отпечаток, сама матричная зеркальность заключает в себе монстра,
то окаменевшее imago, того
искаженного 'демона', Другого, которые возникают в процессе трансформации
отпечатка в аллегорию.
Пример
такого отпечатывания 'монстра' как масочного негатива можно найти у Леонардо -
художника, входящего, вероятно, в подтекст 'Восковой персоны' (он относится к
итальянскому пласту повести, мотивированному фигурой Растрелли). В третьей
главе имеется странное описание того, как Растрелли пишет. Описание это входит
в ряд сходных сцен (ср. 'Киже', экранизацию гоголевской 'Шинели'), выражающих
навязчивость темы письма у Тынянова. Но на сей раз описание процесса письма
резко отличается от гоголевского (башмачкинского) каллиграфизма. Речь идет о
некой вдохновенной и шифрованной скорописи (в русском художественном сознании
скорее связанной с Пушкиным). Процитирую этот фрагмент:
'И
на листах он написал великое количество нескладицы, сумбура, недописи - заметки
- и ясных чисел, то малых, то больших, кудрявых, - обмер. Почерк его руки был
как пляс карлов или же как если бы вдруг на бумаге вырос кустарник: с полетами,
со свиными хвостиками, с крючками; внезапный грубый нажим, тонкий свист и
клякса. Такие это были заметки, и только он один их мог понимать. А рядом с
цифрами он чертил палец, и вокруг пальца собирались цифры, как рыба на корм, и
шел объем и волна - это был мускул, и била толстая фонтанная
217
струя
- и это была вытянутая нога, и озеро с водоворотом был живот. Он любил треск
воды, и мускулы были для него как трещание струи' (403)8.
Весь
процесс описан как ряд переходов. Само движение руки дано как конвульсивный
миметический пляс (см. главу 1), переходящий в рисунок, а затем в слово,
которое может затем вновь преобразиться в рисунок. Сама по себе конвульсивность
кажется диаграммой этого процесса межсемиотической перекодировки, той знаковой
трансформации, которая особенно интересна в барочном тексте. Единство
словесного и изобразительного здесь основывается на барочном завитке, на
развитии 'кудрявого' элемента письма, который переходит в гротеск (пляс
карлов), затем в движение воды и странную прорастающую из него анатомию.
Гротеск, как видим, и здесь занимает промежуточное положение между природой и
словом. Тело (анатомия) и символическое (слово, письмо) связаны через
диаграмматическую фазу 'уродов', через то, что я определил как масочный
негатив.
В
приведенном примере содержится достаточно намеков, чтобы связать его с фигурой
Леонардо. Речь идет не просто о совершенно специфическом шифрованном письме
Леонардо, а именно об уникальной, присущей только ему связи между анатомическим
рисованием и множеством по существу барочных набросков потоков жидкости и
водоворотов. Поражает несомненное сходство рисунков Леонардо, изображающих
водовороты и водопады, с изображением сердца и кровеносной системы (Леонардо
изучал, например, клапаны аорты в связи с проблемой водоворотов). (Илл. 2, 3.)
Исследования
показали, что работы по гидродинамике имели принципиальное значение для
Леонардо и были неотрывно связаны с поисками универсального, божественного
движителя мироздания (Кемп 1972). Именно у Леонардо мы обнаруживаем
органическую связь между движением линии, следом чернил, схемой движения
жидкости и как бы прорастающими из этих взаимосвязанных пото-
________
8 Можно предположить, что Тынянов
имел в виду также и ремизовскую каллиграфию, по своему типу очень сходную с
описанной. Вот как характеризует Ремизов, например, каллиграфический стиль
своего учителя Александра Родионовича Артемьева:
'...Он
выводил росчерк, и вот в этом росчерке вдруг из какого-то завитка выскочит
птица или показывались заячьи уши и округлится усатая мордочка, или вдруг
загораздит целое поле - и колокольчики, и ромашка, и трава с 'петушками', а
если разлистятся листья - такие 'леандры', не проберешься' (Ремизов 1991: 48).
Любопытно,
что Ремизов, чьи изображения как бы возникали из самого телесного автоматизма
росчерка, придавал существенное значение непредсказуемым элементам письма, в
том числе и кляксам:
'Я
не знал еще, какие чудеса можно сделать из любой кляксы: ведь чем кляксее, тем
разнообразнее в кляксе рисунок, а из брызг и точек - каких-каких понаделать
птиц, да что птиц, чего хочешь: и виноград, и китайские яблочки, и красных
паучков' (Ремизов 1991: 48).
218
ков
телесными структурами - мышцами, сосудами и т. д. (У Тынянова эта связь столь
же гротескно выражена через неожиданно возникающую кляксу. Клякса - жидкость
самого письма - превращается затем в волну, а затем в мышцу.)
Заметки
Леонардо о гидродинамике насыщены множеством схем, цифр, диаграмм. Эрнст
Гомбрих так выразил свое удивление по поводу структуры этого леонардовского
текста:
'...Если
что-то поражает в этих исследованиях и заметках о воде, так это господство
слова и роль, отведенная языку. Знал он о том или нет, в paragone
(соперничестве) слова и изображения слово очень часто оказывалось впереди'
(Гомбрих 1976: 417).
Слово
возникает как необходимый символический коррелят линейности9, как знак преобразования линейности, как точка
на пути тела к аллегории.
Любопытно,
что у Растрелли 'ясные числа' возникают среди 'сумбура', 'недописи', и их
появление писатель мотивирует двусмысленным словом 'обмер', которое в равной
степени относится и к обмериванию, и к обмиранию, окаменению, застылости,
маскообразности.
Вернемся,
однако, к Леонардо, к другому аспекту его творчества, проливающему свет на
генезис гротескной маски. Речь идет о знаменитых 'карикатурах' Леонардо, не
первое столетие вызывающих оживленную полемику и чрезвычайно популярных как раз
в эпоху барокко. В обширной литературе о гротесках для обсуждения интересующей
меня проблемы особенно существенна работа Гомбриха, которой я многим обязан.
Гомбрих заметил, что физиогномические наблюдения Леонардо в значительной
степени связаны с задачами мнемоники, необходимостью запомнить и воспроизвести
лицо (особенно профиль). Речь собственно шла об изготовлении специфического
мнемонического отпечатка ('печати').
Для
запоминания лица Леонардо рекомендует мысленно описывать его фрагменты по трем
признакам: 'Начать с носа: здесь возможны три формы - (А) прямая, (В) вогнутая
и (С) выпуклая' (Гомбрих 1976: 62). Любопытно, что этот мнемонический образ,
который Леонардо проецирует и на все прочие части лица, воспроизводит структуру
печати и отпечатка, внутренней и внешней стороны маски- вогнутого и выпуклого.
Эта симметрия отпечатков как будто вписывается движением рисующей руки в тело
художни-
__________
9 Связь движения руки, графизма,
линии (disegno) и 'идеи' (concetto) в платоновском понимании характерна для
идеологии Ренессанса и Постренессанса. Эр-вин Панофский утверждает, например,
что 'маньеристская точка зрения определила disegno как видимое выражение
concetto, сформированного в уме' (Панофский 1968: 82).
219
ка,
которое запечатлевает в своей моторике линию, разделяющую вогнутое от
выпуклого.
В
производстве отпечатков эта линия заменяется плоскостью - границей, разделяющей
печать и отпечаток. Эта линия интересовала Леонардо в контексте его размышлений
о ничто и мнимостях. Леонардо оставил следующую запись:
'...Множество
точек, воображаемых в непрерывном соприкосновении, не составляют линии, а
следовательно множество линий в непрерывном соприкосновении их длин не
составляют поверхности, также и множество поверхностей в непрерывном
соприкосновении не составляют тела, потому что среди нас тела не создаются из
нетелесных вещей. <...> Соприкосновение жидкости с твердым телом - это
поверхность общая и для жидкости и для твердого тела, то же самое и относительно
соприкосновения более легкой и более тяжелой жидкостей. <...> Ничто имеет
общую поверхность с вещью, а вещь имеет общую поверхность с ничто, и
поверхность не является частью этой вещи. Следовательно, поверхность ничто не
является частью этого ничто, а из этого вытекает, что простая поверхность - это
общая граница двух вещей, находящихся в соприкосновении, а потому поверхность
воды не является частью воды, а следовательно и частью атмосферы, и что никакие
иные тела не находятся между ними. Что же тогда разделяет воздух от воды? С
неизбежностью их должна разделять общая граница, не являющаяся ни воздухом, ни
водой и не имеющая субстанции. <...> Следовательно, они соединены вместе,
и вы не можете поднять воздух без воды...' (Леонардо 1954: 75-76). Поверхность
поэтому является у Леонардо такой же мнимостью, такой же абстракцией, как и
линия, которая не может стать телом из составляющих ее 'нетелесных' точек10. Интерес Леонардо к гидродинамике в свете
сказанного приобретает особый смысл. Леонардо здесь пытается рассмотреть вопрос
о том, что такое поверхность водных потоков и как они отделяются друг от друга.
Среди прочих он задает и следующие вопросы:
'Почему
отпечатки, произведенные на поверхности воды, сохраняются некоторое время и
переносятся течением воды.
Почему движения отпечатков воды проникают друг в
друга, не меняя своей первоначальной формы' (Леонардо 1954:672).
Вода
делает особенно очевидным почти мистический характер поверхности, которая не
принадлежит воде, но имеет некую формо-образующую силу. Она сохраняет форму
потоков вопреки переме-
__________
10 Анализ леонардовского понимания
поверхности см. Стролл 1988: 40-46.
220
шиванию
воды, она способна сохранять 'отпечатки'. Леонардо рассматривает воду и ее
поверхность все в тех же категориях печати и отпечатка.
Роль
поверхности особенно хорошо видна на примере водной ряби- деформации водной
поверхности под воздействием ветра. Рябь возникает на воде именно в результате
процесса, описанного Леонардо, утверждавшего, что нельзя поднять воздух, не поднимая
воды. Движение воздуха начинает поднимать воду, которая буквально на своей
поверхности (являющейся также и поверхностью воздуха) отпечатывает движения
воздуха. Никакая рябь невозможна в глубинных слоях воды, только лишь на
поверхности и как результат существования поверхности - этой странной
физической мнимости. Таким образом, 'отпечаток' воздуха на воде - это
деформация границы, деформация поверхности, не принадлежащей ни воде, ни
воздуху и выражающей лишь существование границы, различия между двумя телами
(средами).
В
каком-то смысле сказанное относится и к рисованию, ведь форма возникает как
результат существования еще одной мнимости - линии, отграничивающей одно тело
от другого. Линия позволяет строить поверхности. Всякая ее выпуклость неизбежно
является и вогнутостью другого тела. Всякое тело поэтому в принципе производит
иное, как печать - отпечаток, как негатив - позитив.
Рильке,
обсуждая скульптурные маски, которые делал Роден, использовал метафору водной
поверхности как нерасторжимой границы тела и его репрезентации. Он писал:
'Когда
Роден создал эту маску [маску Франсуа Рюда], перед ним спокойно сидел человек
со спокойным лицом. Но это было лицо живого, и, вглядываясь в него, он
обнаружил, что оно полно движения, полно беспокойства, подобного морскому
прибою. <...> Иератическая сдержанность жеста в древнейших культах
заключала в себе волнение живых поверхностей, как стенки сосуда заключают в
себе воду. Что-то струилось в замкнутых сидящих богах...' (Рильке 1971:101).
Это
обнаружение воды объясняется тем, что всякое нарушение геометрически идеальной
поверхности может прочитываться именно как диаграмма сил, приложенных к
границе, идеальную модель которой являет из себя водная поверхность,
соединяющая-разделяющая воду и воздух. Недаром Рильке описывает внутреннюю
поверхность маски, как если бы он смотрел на нее вертикально с высоты (то есть
маска уподобляется волнующейся горизонтальной поверхности):
'Если
взглянуть на маску сверху вниз, кажется, будто стоишь на высокой башне и
осматриваешь пересеченную местность, по извилистым дорогам которой прошли
многие народы' (Рильке 1971:100).
221
В
таком контексте любая поверхность может пониматься именно как отпечаток, как
'маска', снятая с неких сил.
Среди
множества 'кроки' Леонардо можно найти серию гротескных голов, обращенных друг
к другу таким образом, что выпуклым подбородку и лбу, проваленному носу,
скажем, левого профиля соответствуют 'вогнутые' (скошенные) подбородок и лоб,
орлиный нос правого профиля. (Илл. 4.) Две гротескные головы обращены друг на друга
не по принципу зеркального, но по принципу негативного подобия, как будто один
профиль оказывается формой для отливки другого. Эта обращенность голов в
'карикатурах' трансцендирует принцип сходства. Она отражает силовое давление
одного профиля на другой, как бы выдавливающего его. Мы имеем некую машину по
производству негативной симметрии. В силу одного этого деформации лиц в
гротесках Леонардо могут читаться как следы приложения сил, как диаграммы,
связанные со специфическим пониманием функции поверхности.
Монстр
предстает плодом негативной симметрии, копией, отпечатком наоборот. Гомбрих
предлагает объяснение этого феномена двух профилей. Он указывает на пристрастие
Леонардо к безостановочному рисованию одного и того же профиля, который
искусствовед называет 'щелкунчиком'. Более точно, однако, было бы определить
его как 'римский профиль', копирующий изображение императора Гальбы с монет и
очень близкий стандартному изображению Цезаря. Ссылаясь на тот факт, что
Леонардо идентифицировал себя с Цезарем, Гомбрих утверждает, что 'щелкунчик' -
это навязчивое изображение собственного лица Леонардо во множестве вариантов и
модификаций. Таким образом, негативные гротескные головы представляются
исследователю как своего рода попытка переломить тенденцию к беспрерывному
изображению самого себя, как своеобразная антинарциссическая терапия, как
комбинация 'отрицательных' черт. Негативный двойник, демон возникает в данном
случае буквально подобно лабиринтному рисунку кафковской 'Норы', выдавливаемой
лбом крота. Демон оказывается выдавленным лицом самого Леонардо, а возникающий
в 'отпечатке' лабиринт линий - как бы негативной копией, вывернутой наизнанку11.
'Если
рассмотреть их подряд, то трудно избавиться от ощущения, что plus ca change,
plus c'est la meme chose. Отнюдь не будучи свободными импровизациями,
гротескные головы выглядят как лихорадочные обходные действия, почти
безнадежные попытки избавиться от принудительного желания еще раз повторить
черты "головы щелкунчика"' (Гомбрих 1976: 68). Монстр используется
как терапевтическое средство от навязчи-
________
11 О связи лабиринтных структур и
вывернутых 'наизнанку' объектов см. Ирвин 1994: 183-184.
222
вой
идентификации себя с Гальбой, Цезарем, одним словом- с императором. Маска в
таком контексте выступает как негативное patris imago, как монстр, подавляющий
образ отца12. В этом смысле маска
Силена может вообще пониматься как негативная копия маски императора
('полубога', как называет его сам Растрелли: Силен-полубог). Целование
скульптором Петровой маски и выступает как такое зеркальное противостояние двух
профилей, двух монстров, двух масок, двух негативностей13.
У
Леонардо есть известный 'виндзорский' рисунок 'Пять голов' (1494 - илл. 5),
который, по наблюдению Гомбриха, как раз и изображает 'щелкунчика' в императорском
венце в окружении отрицающих его 'негативных' гротесков. Среди этих 'уродов',
по-своему являющихся императорскими двойниками, выделяется вторая голова слева,
человек, запрокинувший голову и дико разинувший рот, вероятно в пароксизме
смеха. Нельзя не заметить, что голова эта неожиданно напоминает фонтанного
маскарона, в изображении которых преуспел Растрелли. Что это? Какая-то
отдаленная реплика Силена, изо рта которого льется струя воды?
3. Анаморфоза
Искажающее
зеркало, являющее глазу маску вместо лица, работает в режиме анаморфозы14. Зеркальная анаморфоза, собственно, и
является таким искаженным изображением, которое требует для восстановления
'естественной' формы специальной дешифровки -
________
12 У Леонардо имеется несколько
загадочных рисунков головы в шлеме, чье откинутое на темя забрало изображает
маску. Кеннет Кларк показал несостоятельность ряда исторических интерпретаций
этих набросков. См. Кларк 1935: 100. Один из этих рисунков особенно интересен,
так как откинутая маска, судя по всему, изображает Горгону. В данном случае,
по-видимому, можно говорить о защите 'Я' (шлем) с помощью образа Другого,
убийственного для наблюдателя. Во всяком случае, и здесь маска выступает как
монстр, или вернее, как монстр-'Я', как чужая сторона личности.
13 Разумеется, этот
поцелуй отсылает ко всей метафорике евангельских поцелуев: Иуде и, прежде
всего, Саломее, целующей отрубленную голову Иоанна, в том числе у Гейне,
Лафорга, Уайльда (см. Курилюк 1987: 260-265). Этот же поцелуй, возможно,
включает и фольклорный подтекст: лягушка превращается в человека после поцелуя
(ср. ниже с темой Растрелли-лягушки). См. Найроп 1901: 95.
14 На связь аллегории и
анаморфозы указывал еще Галилей:
'По
его мнению, аллегорические поэмы, которые заставляют читателя все истолковывать
как указания на нечто иное, напоминают те картины с перспективными трюками,
которые известны под названием 'анаморфоз' и где, говоря словами самого
Галилея, нам показывают человеческую фигуру, которая выглядит как фигура, если
на нее смотреть сбоку, а если на нее посмотреть прямо, что мы естественно и
обычно делаем, то она оказывается каким-то смешением линий, цветов и странных
химерических образов' (Панофский 1968а: 20).
223
вогнутого
или выпуклого зеркала. Анаморфное изображение принципиально отличается от
построенного по законам линейной перспективы тем, что оно строится не в
определенном, заранее данном нам объеме, обладающем собственной геометрической
структурой, а с помощью последовательной проекции каждой точки 'естественного' изображения на плоскость. При этом
точки складываются в фантастически деформированный рисунок, который может быть
дешифрован лишь благодаря процедуре обратной проекции анаморфозы в
первоначальную систему координат. Нетрудно увидеть, что сама система создания и
расшифровки анаморфоз напоминает изготовление маски, где также каждая точка и
вместе с ними вся поверхность проецируются на 'негатив', а затем
восстанавливаются при отливке формы15.
Анаморфоза, как и маска, обязательно проходит стадию 'монстра'. Но, в отличие
от маски, именно эта стадия, этот геометрический урод, это деформированное тело
первоначального образа и является предметом собирания, любования и т. д.
Зеркальная
анаморфоза по-своему отменяет обычный режим зрения, потому что исключает
линейную перспективу, а следовательно, и предполагаемую ею единую точку зрения,
в которую может быть условно помещен глаз субъекта. Слово 'анаморфоза' означает
- 'назад' - греческое ana - к 'форме' - morphe. Но это возвращение к форме
буквально происходит по ту сторону 'естественного' зрения.
'Анаморфоза
открывает новое отношение к видимому, такое, которое понимает видимую форму не
как данное, но как концептуальное и техническое построение' (Джюдовиц 1993:
69).
Она
вообще как бы отрицает пространство между глазом и графемой. Принадлежа к визуальной
сфере, анаморфоза странным образом вводит в нее некий зримый эквивалент
тактильности, она как бы предполагает ощупывание предмета со всех сторон.
Жан-Франсуа Лиотар считает, что она предполагает ротацию глаза для своего
чтения16, но главное, ее дешифровка
предполагает раздавленность, размазанность глаза на плоскости изображения,
полную элиминацию пространства между глазом и изображением, иными словами,
бахтинское 'бесперспективное видение' (см. главу 1). Но и будучи
расшифрованными в зеркале, анаморфозы
'относятся
к пространству, которое можно назвать графи-
_____________
15 Жак Лакан, неоднократно
обращавшийся к проблематике анаморфоз, специально подчеркивал значение
соответствия каждой точки одного изображения точкам другого. Он указывал, что
именно система привязок к определенной геометрической точке, которая может быть
спроецирована на поверхность, и составляет сущность изображения. - Лакан 1990:
81.
16 Если принять точку зрения Лиотара,
то анаморфоза оказывается сродни динамически возникающему пространству,
например, 'теории эмбрионального поля', о которой писал Мандельштам (см. главу
4).
224
ческим, если противопоставить его пространству
репрезентации: эти объекты вписываются на [поверхность] зеркала и делают его
зримым, вместо того чтобы его пересекать по направлению к виртуальной сцене'
(Лиотар 1978:379).
Это
'графическое пространство' связано с движением руки, с арабесками искривленных
графов, оно по существу диаграмматично - в нем невозможно пребывать, оно
задается лишь как энергетическое поле деформации.
'Уродство'
анаморфозы сходно с 'уродством' маски. Маршалл Маклюэн, определяя существо
маски, заметил:
'Маска,
как урод в цирковой интермедии, не столько изображает, сколько в своей
чувственной притягательности вовлекает' (Цит. по Фидлер 1978:18).
Это
вовлечение больше относится к области 'мгновенной встречи' и тактильности, чем
зрения. Скрытое в маске уродство отменяет 'нормальный' режим созерцания.
Показательно,
что анаморфоза- предмет вожделения многих собирателей, особенно в эпоху барокко
- осознается именно как нечто уродливое. В Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера
анаморфоза определяется как 'монструозная проекция' (une projection
monstrueuse) (Энциклопедия 1751: 404), как 'деформированные предметы, которые,
если их увидеть через зеркало определенного типа, являются в своем естественном
виде' (Энциклопедия 1751:405). Анаморфоза интересна тем, что она -
промежуточная фаза в процессе зрения, изображение, превращенное в знак,
нуждающийся для своего понимания в декодирующей машине. Анаморфоза наглядно
разоблачает представления о естественности процесса зрения. Она сообщает нам,
что само зрение, если его, как и процесс создания маски, разложить на фазы,
включает в себя стадию монструозной деформации.
Кроме
того, анаморфоза связана с аллегорическим, так как ее чтение, оторванное от
'естественного' режима зрения, начинает зависеть от словесной расшифровки. Джон
Локк заметил, что существует целый ряд хаотических изображений, которые могут
быть приведены к порядку благодаря называнию:
'Рисунок,
составленный таким образом из частей, в которых не видно никакой симметрии и
никакого порядка, сам по себе представляет не более путаную вещь, чем картина
пасмурного неба, которую никто не будет считать путаной картиной, хотя в ней
столь же мало порядка в цвете и очертаниях' (Локк 1985: 418).
Облако
не кажется нам хаотичным потому, что мы применили к его очертаниям правильное
название. Слово, таким образом, проецируется на хаос линий подобно зеркалу,
подносимому к анаморфозе. Слово вносит в хаос порядок, открывает ослепленное
зрение:
225
'Но
когда надлежащим образом поставленное цилиндрическое зеркало приведет эти
неправильные линии на полотне в должный порядок и соответствие, тогда
спутанность устранится и глаз сразу увидит, что это человек или Цезарь, т. е.
что рисунок соответствует этим названиям и что он достаточно отличается от
павиана или Помпея, т. е. от идей, обозначаемых этими словами' (Локк 1985:
419). Зеркало, таким образом, действует именно как словесное обозначение,
название, придавая изображению характер аллегории. Но сама аллегоризация
оказывается эффективной в перспективе, заданной рассуждениями Локка, только
применительно к 'монструозности' нерасшифрованного хаотического изображения.
В
начале тыняновской повести Растрелли объясняет Меншикову, почему необходимо
изготовить восковую копию Петра. При этом он ссылается на некие прецеденты,
придающие его аргументации особую авторитетность:
'И
есть портрет покойного короля Луи Четырнадцатого, и его сделал славный мастер
Антон Бенуа- мой учитель и наставник в этом деле...' (366).
На
вопрос Меншикова, каков Луи в восковом портрете Бенуа, скульптор отвечает:
'...Рот
у него женский; нос как у орла клюв; но нижняя губа сильна и знатный
подбородок. Одет он в кружева, и есть способ, чтобы он вскакивал и показывал рукой
благоволение посетителям, потому что он стоит в музее' (366)17.
Точнейшая
копия королевского лица, изготовленная Бенуа (Илл. 6), по существу является
монстром (женский рот, нос как у орла клюв). Автор авторитетной истории
восковой скульптуры Юлиус фон Шлоссер приводит свидетельства о том, что портрет
Бенуа назывался 'монструозной головой' (tete monstrueuse) (Шлоссер 1911:
230-231), а Рудольф Виттковер отмечал в нем 'уродство почти гротескное'
(Виттковер 1951: 15). Отмечу, что один из главных пропагандистов творчества
Бенуа Спир Блондель (из его статьи в 'Большой энциклопедии' [Блондель б.г.]
Тынянов мог почерпнуть сведения о портрете Людовика) дает чрезвычайно высокую
оценку медальону скульптора и одновременно замечает:
'...Здесь можно различить отчетливо видимые следы
ветрянки, деталь, не существующую ни на одном из живописных, скульптурных или
гравированных портретов' (Блондель 1882: 430).
________
17 Растрелли у Тынянова допускает
множество неточностей: нет сведений о том, что Растрелли учился у Бенуа;
восковое изображение Людовика является барельефом и к тому же бюстом короля, а
потому не может, конечно, 'вскакивать' Оно находилось не в музее, а в
Версальском дворце.
226
И
эта маленькая деталь, признак очевидного уродства, сейчас же понуждает Блонделя
говорить об 'удивлении и, более того, восхищении, которое вызывает у знатоков
вид этой уникальной вещи...' (Блондель 1882:430).
Восторг,
вызываемый уродством восковой маски, сродни восторгу знатока перед лицом
анаморфозы. Восхищение вызывает удивительная точность следа, точность переноса
точек одной плоскости на другую. При этом оспины выступают именно как такие
проективные точки, переносимые с оригинала на маску. Удивление вызывает сама
репрезентация процесса зрения в отчужденных формах. При этом уродство не
отталкивает именно потому, что оказывается знаком истинности анаморфной формы.
Следы ветрянки на лице короля - как раз такие крошечные указатели метаморфоз
зрения, предполагающих стадию уродства (деформации). Разумеется, эти крошечные
изъяны на коже, так же как и женский рот и нос-клюв французского монарха,
отнюдь не относятся к сфере подлинно анаморфных искажений, они как бы
смешиваются с ними. Просто, как ни удивительно, любой знак уродства оказывается
в данной ситуации знаком подлинности зрения.
В
уже цитированной статье из Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера имеется любопытный
пассаж, в котором обсуждается парадоксальная сама по себе задача - как сделать
'монструозное изображение' приятным глазу:
'Зрелище
будет гораздо более приятным, если деформированное изображение представляет не
чистый хаос, но некую видимость: так, можно было увидеть реку с солдатами,
повозками, движущимися по одному из ее берегов, представленную с таким
мастерством, что если смотреть на нее из точки S, казалось, что это было лицо сатира' (Энциклопедия 1751: 404).
Лицо
сатира, как уже отмечалось, само по себе является деформацией лица, это лицо,
пропущенное сквозь анаморфные системы. Показательно, что оно кодируется
изображением реки. Река- не что иное, как природное искажающее зеркало, чье
течение постоянно отражает мир в деформированной форме, это, как уже
говорилось, граница и зеркало, в
котором окаменелость маски подвергается вторичной трансформации.
Юргис
Балтрушайтис опубликовал гравюру X. Трёшеля по рисунку Симона Вуэ (Илл. 7). На
ней группа сатиров рассматривает разложенное на столе анаморфное изображение,
превращающееся в слона на стенках отражающего зеркала - цилиндрического сосуда
с жидкостью (Балтрушайтис 1984: 145). Сатиры изумлены увиденным: вместо
собственного отражения их глазам предстает иное чудовище, как бы возникающее из
сосуда с водой. Сатир и здесь предстает как некая принадлежность анаморфозы, ее
естественный знак.
227
Удивление
сатиров связано с неожиданной подменой монстров. В каком-то смысле рисунок
Симона Вуэ оказывается репликой помпейской фрески. Там молодой сатир
поражается, обнаружив вместо своего лица искаженную маску Силена, - здесь
сатиры поражаются, обнаружив вместо своих лиц слона18.
Представление
Растрелли в виде Силена 'работы Растреллия же' отсылает читателя к
петербургским каскадам, где даже среди сохранившихся работ скульптора
совершенно особое место занимают маскароны, изображающие именно сатиров (маски
сатиров на стенах Большого канала, маска Бахуса в фонтане 'Нептун' Малого
грота). При этом в структуре фонтана такая маска неотделима от своего положения
над водой как природным зеркалом. Сатир и здесь выступает как парадоксальное
отражение искаженного движением воды идеального лица. Речь идет о проявлении
того, что Жерар Женетт определил как типичный для барокко 'комплекс Нарцисса',
когда прекрасное лицо, отражаясь в воде, 'волнуется' вместе с водой, 'оживляет
свои формы в беспредметной мимике, растягивает, стягивает их и открывает в себе
тревожащую пластичность' (Женетт 1976: 23).
При
этом в случае с маскаронами самого идеального лица нет, а есть лишь монстры,
отсылающие к его отсутствию. Монстр-маска оказывается эквивалентна отражению
уже потому, что маска в некотором смысле равнозначна зеркалу19.
Среди
фонтанных скульптур Растрелли особое место занимают три маскарона Медузы в
каскаде Марли. Существенную роль а аллегорике каскада играет миф о Пересе,
отраженный в масках Медузы и статуе Андромеды (в нижней части каскада). Возле
Андромеды, в духе традиционной иконографии, изображено морское чудовище, превращающееся
в камень при виде отрубленной головы Горгоны. Но Растреллиевы маскароны Медузы
- более чем странны. По своей схеме они повторяют хорошо проработанный во
французской фонтанной скульптуре мотив морского чудовища. Такие маски из-
____________
18 Само по себе изображение слона
может прочитываться как своеобразная шутка еще и потому, что основным свойством
вогнутого зеркала считалась его способность резко увеличивать изображение, а
выпуклого - резко его уменьшать Та ким образом, выпуклое цилиндрическое зеркало
здесь 'вбирает' в сосуд огромного зверя Плиний в 'Естественной истории'
подчеркивает различие между двумя типами зеркал, один из которых похож на чашу,
а другой - на фракийский щит (Plinii naturalis histonae, liber XXXIII, 129)
Уменьшение изображения в зеркале типа щита может иметь значение и военной магии
и быть связанным с традицией украшать Щит маской Горгоны
19 А. Казенав, разбирая
соотношение зеркал и масок в барокго, справедливо заметила, что, например, в
знаменитом автопортрете Пармиджано, где художник изобразил себя в выпуклом,
искажающем зеркале, зеркало является маской (Казенав 1983: 156). Еще в большей
мере, разумеется, это относится к искажающим водным зеркалам.
228
готовлял,
например, Тьери для Версаля. Чаще всего они описываются либо как морские
чудовища, либо как маски в виде головы дельфина. Самым непосредственным
источником петергофских маскаронов Медузы был спроектированный Арди каскад в
Марли. Верхняя его часть также включала в себя три маскарона, аналогично
расположенных и очень сходных с работой Растрелли20.
Сегодня трудно установить степень сходства голов Арди и Растрелли. И все же
Растреллиевы головы поражают необычным характером своей деформации, будто по
поверхности голов прошла странная рябь (Илл. 8).
Скульптуры
выполнены так, словно они - не столько изображение собственно головы монстра,
сколько ее отражения в воде (известно, что избежать смерти при взгляде на
Медузу можно было, лишь глядя на ее отражение). Маска, таким образом,
парадоксально выступает как слепок именно с отражения, а не с оригинала.
Маскароны Растрелли помещены над водной поверхностью, то пенящейся от льющейся
на нее струи (и тогда в ней ничего не видно), то гладко зеркальной или идущей
легкой рябью. Таким образом, в качестве посредника, передающего и создающего
отражения, оказывается поверхность, по сути выражающая игру сил и деформаций.
Именно когда по водной поверхности проходит рябь, здесь возникает отражение
маскарона, а парадоксальность построенной Растрелли зеркальной системы
становится особенно очевидной: скульптура запечатлевает собственную деформацию
в водном зеркале, объект включает в себя дефекты зеркала. Зеркало производит
деформацию, а скульптура ее сохраняет (Ср. с интересом Леонардо к фиксации форм
в струях воды.) След оказывается как бы спроецированным из среды, производящей
диаграммы, в среду, им сопротивляющуюся. Сопротивление силе, создающей
деформацию, проявляется в основном в жесткой материи - в камне, в бронзе.
Диаграмма как бы возникает на странном расщеплении зеркала и отражения, в 'минус-пространстве'
зеркального 'негатива'. Но сам факт, что зеркало отслаивается от отражения,
позволяет говорить о единой диаграмматической машине, каждая часть которой
зависит от другой.
Более
того, здесь с особой силой проступает значение среды для формирования
отпечатка, среды, которая является и местом
манифестации, местом проступания невидимого. Псевдо-Дионисий Ареопагит в
известном трактате 'О божественных именах' утверждал, что различия изображений
целиком относятся к свойствам принимающей оттиск среды:
_________
20 Каскад в Марли не сохранился. См.
Сушаль 1977: 14. В каскаде Арди, однако, никакой Медузы нет, а есть просто
маски морских чудовищ. Медуза, несмотря на характерные (хотя и чрезвычайно
искаженные) крылышки по бокам, у Растрелли прочитывается с трудом. Об
идентификации этих масок как голов Медузы см. Раскин 1978: 230.
229
'Если
же кто-нибудь возразит, что печать не во всех оттисках проявляется всецело и
тождественно, то [мы ответим], что это происходит не по вине печати, поскольку
она всецело и тождественно запечатлевается на каждом из них, но различие в
изображении одного и того же всецелого прообраза происходит единственно в силу
разнообразия свойств оттисков; так, например, если [поверхность] оттиска мягкая
и легко воспринимающая форму печати, а также гладкая, неповрежденная, неупругая
и нетвердая, нерасплывчатая и несложная, то изображение получается чистым,
точным и отчетливым; если же какое-то из перечисленных свойств отсутствует, то
это и является причиной как нетождественного, нечеткого и неясного изображений,
так и прочих различий...' (Дионисий Ареопагит 1990:167; 2,644В).
Метафора
Псевдо-Дионисия, касающаяся различий феноменального мира, 'отпечатанного с
матрицы' единого Бога, может быть применена и к интересующей меня ситуации21. Искажения маскаронов могут пониматься как
результат перехода из одной среды отпечатывания и отражения в другую. Каждая из
этих сред (камень и вода) по-разному реагирует на приложение сил и потому
создает свое собственное искажение, вписывающееся в объект и транслирующееся в
следующую среду. Мы имеем дело с еще одним типом диаграммы, возникающей на
поверхности разных сред.
Вместе
с тем мы оказываемся и перед лицом типично барочной ситуации, когда система
взаимообращенных imago исключает
наличие собственно оригинала. Ситуация с маскаронами осложнена еще и тем, что
голова Медузы провоцирует окаменение, фиксацию и, как заметил Луи Марен, в силу
этого 'одноглазую' перспективу циклопа. Деформация в данном случае работает как
анаморфоза, она разрушает 'одноглазую' перспективу и потому противостоит
фиксации, окаменению. Собственно, окаменевает сам предъявленный нам процесс невозможного окаменения,
окаменевает становление, воплощенное
в водной ряби, в чем-то радикально противоположном камню и выявляющем как раз
неустойчивость, эфемерность отражения. Таким образом, в противостояние двух imago включается нечто физически зримое,
но не поддающееся определению, кассиреровский 'пространственный аспект'
интеллигибельного. Он принимает обличие своего рода маски (в широком ницшевском
понимании), но не головы, не лица, а
маски взгляда, скульптуры самого процесса зрения, представленного в
деформации, в водной анаморфозе.
Скульптура,
как это ни странно, оказывается приспособленной
______________
21 Жак
Деррида дал философский анализ
понимания Псевдо-Дионисием оттиска и среды отпечатывания в связи с платоновской
'хорой'. См. Деррида 1989: 50-53. См. также Деррида 1993а.
230
именно
для регистрации такой стадии зрения. Речь идет именно о фиксации зрения,
распластанного по бумаге, 'графического пространства' Лиотара, когда дистанция
между глазом и предметом элиминируется и все сводится к тактильности, то есть,
собственно, к материи скульптуры, которая вписывает изображение в кривую собственной
поверхности (в то время как живопись и фотография основаны на иллюзии
проницаемости поверхности, на которую они нанесены). Зеркало, содержащее
изображение в самой своей поверхности, - это и есть скульптура.
Между
прочим, у Растрелли есть еще одна странная пара скульптур: два изображения
Нептуна (Нептун, в контексте петровского стремления превратить Россию в морскую
державу, выступает как божество, связанное с Петром)22. Одна из них- статуя морского бога в полный
рост (1723 г.), повелевающим жестом указывающая на море (Илл. 9). Второе
изображение Нептуна выполнено четырьмя годами раньше (1719 г.)- это
цилиндрический барельеф, в чрезвычайно искаженной форме воспроизводящий ту же
фигуру, только сплющенную, как бы подвергнутую анаморфозе (напомним, что
полированный цилиндр- классический компонент анаморфной 'машины'). Морской царь
здесь представлен в виде анаморфного 'урода' (Илл. 10). Перед нами опять
скульптура отражения, и опять парадоксально 'перевернутая'. Замысел скульптора
может быть восстановлен следующим образом: Нептун находится под водой, на
поверхности воды выступает его искаженное преломлением и рябью анаморфное
изображение. Художник подносит к этой природной анаморфозе выпрямляющий ее
зеркальный цилиндр, но вместо 'естественной фигуры' на цилиндре фиксируется
собственно анаморфоза. Иными словами, перед нами вновь 'монструозная'
зеркальная фиксация невозможного. Анаморфоза выступает в данном случае как
проекция собственного отражения. Причиной опять оказывается не фигура, а ее
искаженная 'маска'.
Еще
Джон Раскин подробно проанализировал особое свойство водного зеркала работать в
режиме зеркала только если смотреть на него под большим углом и терять
отражающую способность при перпендикулярной его поверхности оси зрения (Раскин
б.г.: 59). Такая ось зрения делает поверхность воды прозрачной и обнаруживает
то, что находится в глубине. В случае же с 'Нептуном' Растрелли фигура,
находящаяся в глубине, парадоксально функционирует как зеркальное отражение.
Изображение Нептуна одновременно распластано по амальгаме зеркала (и как бы
предполагает размазывание точки зрения по поверхности воды) и видно сверху.
Впрочем, цилиндрическое зеркало не только восстанавливает зашифрованную
арабеску, делая ее читаемой, но как бы поднимает точку зрения.
_____________
22 Растрелли выполнил для 'Морского
устава' рисунок эмблемы (гравированной П. Пикаром), на которой изображены
фигуры Времени, Нептуна и Марса. Эмблема эта была подсказана самим Петром -
Гребенюк 1979: 123.
231
4. Деформация обнаруживает 'лицо'
Показательно,
что объектом этой барочной трансформации выступает бог, царь, собственно patris
imago par excellence. Включение монаршего лика в анаморфные системы - явление
далеко не единичное. Балтрушайтис, например, пишет об анаморфном портрете
английского короля Карла I:
'В
центре горизонтально расположенной картинки находится череп. Обезглавленный в
1649 году суверен возникает над ним при установке цилиндрического зеркала.
Когда зеркало убирают, он исчезает, обнаруживая черты своего скелета'
(Балтрушайтис 1984:105)23.
Оборачиваемость
изображений монарха и черепа связана как с трагической судьбой Карла I, так и с
традиционным мотивом vanitas - тщеславия. За этой оборачиваемостью ликов смерти
и земного могущества стоит почтенная европейская традиция, согласно которой в
похоронах монарха и на его надгробиях фигурировало два тела: так называемое gisant - изображение нетленной стороны
царского достоинства, и transi - само
смертное тело, изображенное в виде разлагающегося трупа или скелета (для
изготовления gisant часто использовались
восковые маски, снятые с лиц покойных). Монаршее тело в похоронном ритуале,
сложившемся в Англии и во Франции, представало как бы раздвоенным (Эрнст
Канторович говорил вообще о 'двух телах короля' - Канторович 1957).
Двухфигурные надгробия позволяли одновременно видеть два тела с 'одним и тем
же' лицом, только в первом случае это было лицо мирно спящей в блаженстве
бессмертной монаршей ипостаси, а во втором - лицо, подвергнутое тлению или
окончательно превратившееся в череп. Сама традиция создания восковых персон
монархов восходит именно к такого рода раздвоению тела и попыткам уберечь часть
царского 'Я' от тления.
В
таких сдвоенных надгробиях маска расслаивается. Изображение трупа, обыкновенно
помещавшееся под скульптурой спящего, демонстрирует трансформацию тела под
воздействием смерти, его 'анаморфизацию' и проступание черепа через
разлагающуюся плоть. Череп может быть понят как финальный этап трансформации
маски или как проявление той скрытой стадии зрения, которая здесь обозначалась
как 'монстр'. Одновременно он демонстрирует проступание аллегории через процесс
деформации. Именно поэтому череп оказывается 'естественным' спутником монаршего
лица в анаморфозах.
Лицо
может пониматься как маска, скрывающая череп24.
Так, в
____________
23 Комментарий по поводу той же
анаморфозы см. Лиотар 1978: 376-379.
24 Подробнее об этом см
. Ямпольский 1993- 394-405.
232
гравюре
Ганса Себальда Бехама (Hans Sebald Beham) изображены лицо и череп в фас и
профиль. Вся гравюра строится так, чтобы подчеркнуть взаимосвязь двух
изображений, где либо лицо прочитывается как маска черепа, либо наоборот- череп
как маска лица. В XVI-XVII веках в северной Европе получает распространение
мотив черепа, отраженного в зеркале. В известном портрете Ганса Бургкмайра
(Hans Burgkmair) и его жены кисти Л. Фуртнагеля (L. Furtenagel, 1529)
супружеская чета отражается в зеркале в виде пары черепов. Надпись на картине
гласит: 'Такими мы выглядели в жизни; в зеркале не отразится ничего кроме
этого' (Бенеш 1973:106). Иным примером может служить гравюра из анатомического
трактата Герарда Блазия (Gerardus Blasius), на которой изображен глядящий в
зеркало анатом. Вместо своего лица он видит отражение черепа стоящего за его
спиной скелета (Илл. 11). Череп в данном случае выполняет ту же функцию, что и
Силенова маска на помпей-ской фреске, - он является образом будущего и
одновременно маской, проступающей сквозь живое лицо человека.
Зеркало,
традиционно связанное с отражением видимостей, начинает работать как бы вопреки
видимостям, неожиданно обнаруживая сущее, истину под видимостью. Луи Марен так
формулирует этот парадокс: 'Зеркала имеют силу истинности благодаря точности
свойственного им процесса репрезентации вещей и людей' (Марен 1993: 33).
Инструмент репрезентации видимости так точен, что способен трансцендировать
саму видимость, внести в нее деформации, выражающие сущность.
В
гравюре Даниэля Хопфера (Daniel Hopfer) 'Женщина, дьявол и смерть' (Илл. 12) та
же схема представлена с дидактичностью традиционных интерпретаций темы vanitas. Эта гравюра, как и иллюстрация
к трактату Блазия, по-своему трансформирует зеркальную структуру, знакомую нам
по фреске из 'Виллы мистерий'. Здесь также имеется вогнутое зеркало, в которое
смотрит юная дама. За ее спиной находится смерть, воздевшая над головой дамы череп.
За смертью крадется дьявол, положивший руку ей на голову. Странным образом
дьявол удвоен собственным демоном - крошечным двойником, примостившимся у него
на голове.
Череп
в руке смерти дублирует само лицо смерти, сквозь которое явственно проступает его
строение. Дьявол также сдублирован своим маленьким двойником. Эта структура
навязчивых удвоений придает всей гравюре подчеркнуто зеркальный характер. Дама
должна увидеть вместо себя искаженный в зеркале череп, который является
деформированной маской смерти, за которой прячется дьявол с его двойником. Жан
Вирт показал, что в некоторых случаях дьявол может быть олицетворением 'вечной
смерти' (mors aeterna), а скелет - 'преждевременной смерти' (mors inmatura)
(Вирт 1979: 65-79). Хопферовская гравюра невольно напоминает ситуацию ла-
233
кановской
'стадии зеркала', но переинтерпретированную. То, что в помпейской фреске
представало как образ отца, как предвосхищение будущего, в котором формируется
воображаемое, а затем символическое, в гравюре Хопфера выступает как
предвосхищение смерти, как разрушение телесного образа, по существу - как конец
воображаемого.
И
этот 'конец' воображаемого завершает целую цепочку трансформаций. На стадии
'инициации' голова (Силена) превращается в маску, но маска подвергается дальнейшей
трансформации, преобразуясь в череп, уже таящийся в ней, уже явленный провалами
глаз, пустотой рта. Хопфер продолжает эту метаморфозу дальше, все более
усиливая деформацию первоначально данного лица, покуда не достигает кульминации
монструозности в дьяволе, в котором 'вечная смерть' окончательно порывает с
'простой' антропоморфностью imago.
Впрочем,
'вечная смерть' в облике дьявола не имеет никакого подлинного отношения к
вечности. Вечность парадоксально предстает в виде фигуры маньеристской
аллегории, главным пластическим качеством которой является изобилие графических
следов деформации на лице и теле. Деформация одновременно преобразует тело в
лицо, явственно проступающее на груди. Это разрастание штрихов и росчерков и
одновременное 'разрастание' физиогномики по-своему превращает дьявола в 'фигуру
письма', в некое фантастическое порождение барочной каллиграфии.
Метаморфоза
'образа отца' в образ смерти говорит о многом. Вальтер Беньямин показал, что
истинный способ аллегоризации в барокко - это переход от тела к его фрагменту,
от органического к вещи:
'...Человеческое
тело не могло быть исключением из закона, который требовал расчленения
органического на куски во имя того, чтобы извлечь из этих осколков подлинное,
зафиксированное и письменное значение' (Беньямин 1977: 216-217).
Потребность
в аллегоризации, стремление извлечь из тела текст (в том числе и письменный),
работа эмблематизации, за которой мы застаем Растрелли в первом из
процитированных эпизодов, требует смерти, 'убийства'. Вот как формулирует эту
ситуацию Беньямин:
'Только
труп, само собой разумеется, позволяет аллегоризации природы утвердиться в
полную силу. Если же персонажи Trauerspiel'я умирают, то происходит это потому,
что они могут попасть на родину аллегории лишь таким образом, лишь в качестве
трупов. Они умирают не во имя бессмертия, а ради того, чтобы стать трупами'
(Беньямин 1977: 217-218).
234
Аллегория
как финальный этап деформации imago
вновь подразумевает распад целого, расчленение. Символическое (языковое)
выступает на первый план именно на стадии смерти. Отчасти и поэтому смерть с
такой неотвратимостью присутствует в барокко. Но смерть эта особая. Жан Руссе
назвал ее 'конвульсивной' (la mort convulsee), 'смертью в движении' (Руссе
1960: 110-117). Действительно, она настолько связана с производящими ее
трансформациями и деформациями, что мертвое тело как будто извивается,
связывается в жгут, в узел25, как
будто все еще претерпевает воздействие сил, диаграмматизирующих его.
Густаву
Мейринку принадлежит рассказ 'Альбинос', описывающий убийство и одновременное
изготовление гипсового слепка с умирающего. Скульптор и убийца Иранак-Эссак
'работает только ночью, а днем спит; он альбинос и не выносит дневного света'
(Мейринк 1991: 117)26. Снятие слепка
происходит в почти полном мраке. Мейринк как бы подчеркивает связь изготовления
маски с фотографическим процессом. Изготовляя гипсовую маску с героя рассказа
Корвинуса, Иранак-Эссак выдергивает вставленные в гипсовую массу соломинки,
через которые дышала модель. Корвинус умирает в конвульсиях от удушья, и
конвульсии эти отпечатываются в гипсе. Ателье зловещего скульптора украшают
иные 'гипсовые слепки искаженных человеческих лиц и мертвецов' (Мейринк 1991:
131).
Смерть вписывается в отпечаток именно как конвульсия, как деформация, как чисто
физическое воздействие, сходное с воздействием светового луча на фотопластинку.
Смерть запечатлевается здесь индексально, и, по существу, только в такой форме
она и может фиксироваться. В любом ином случае речь может идти лишь о
посмертной маске, отпечатке мертвого тела, трупа.
Эта
деформация как бы вводит телесное в сферу языка, в сферу кристаллизованных,
аллегорических значений, в сферу письма (ср. с телом, обратимым в письмо, в
цитированном фрагменте 'Восковой персоны'). Но в действительности это введение в
сферу письма останавливается на стадии следа, диаграммы и никогда не достигает
подлинно символического уровня. Символическое рождается через преодоление
диаграмматического, которое в свою очередь его отрицает. Вопрос взаимоотношения
воображаемого и символического в какой-то степени может быть понят как вопрос
соотношения деформированного и зафиксированного, кристаллического и пластически
текучего, то есть как вопрос о маске- противоречивом
___________
25 Об этом см.
'Маленький трактат об узле' Сюзанны Аллен, в котором, в частности,
рассматриваются взаимоотношения проблематики узла в барокко и 'узловых
топологий' у Лакана (Аллен 1983).
26 Белесость тела
скульптора-альбиноса воспроизводит бесцветность гипса. Здесь вновь
обнаруживается мотив глубокой, сущностной, почти 'демонической' связи
скульптора и его изваяний.
235
объекте,
сочетающем в себе все эти качества, объекте пограничном по самой своей сути.
Но, может быть, еще более точной метафорой этих отношений могут служить
отношения маски (скульптуры) и подвижного отражения на воде.
Той
сцене 'Восковой персоны', где Растрелли-Силен целует маску Петра, соответствует
другая, где Петр целует отрубленную голову Марьи Даниловны Хаментовой и затем
распоряжается отправить ее в Кунсткамеру (тем самым предвосхищая судьбу
собственной 'персоны'). Оба поцелуя- это зеркальные сближения масок, лица
живого и мертвого, это соприкосновение со смертью27.
Поцелуй
этот не только буквально, физически сближает живого человека с отрубленной
головой - уже своего рода наполовину аллегорией, - но и вводит в текст
очевидные эротические моменты. Я указываю на это потому, что эротическое
желание, фиксируясь на определенных частях тела, само по себе производит его
символическое расчленение, своеобразную аллегоризацию. Пауль Шилдер показал, каким
образом желание трансформирует схему тела и даже порой осуществляет
символические переносы части тела из одного места в другое (случаи фрейдовской
'конверсии', в чем-то сходной с производством уродств). Шилдер писал о том, что
под воздействием желаний
'происходят
также непосредственные изменения в форме тела. О любом действии можно сказать,
что оно смещает образ тела из одного места в другое, что оно заставляет его
расставаться с одной формой ради другой. Можно пойти даже дальше и сказать, что
любое действие и любое желание являются стремлением что-то изменить в образе
тела' (Шилдер 1970: 201-202).
Маска
Силена, возникающая на лице Растрелли, в равной степени связана и с эротическим
желанием, и со смертью. Она как бы стоит на перекрестке множества смысловых
процессов, выражая их через общую для них пластику деформации. Ведь эротическое
так же связано с силой, энергией и конвульсивностью, как и смерть. Не случайно
Лакан понимает под барокко 'демонстрацию любого тела, вызывающего образ
наслаждения' (Лакан 1975: 102) и обнаруживает в итальянских церквах XVII века
сопричастность оргии и соитию.
Дионисийские
маски, так же как и сцены вакхических процес-
____________
27 Мотивировкой отправки головы
Хаментовой в Кунсткамеру служит то, что на ней 'было столь ясно строение жилок,
где каждая жилка проходит' (390). Но мотив ясно видимой жилки в повести
закрепляется и за восковым симулякром. Растрелли лепит восковое яблоко:
'Главное, чтобы были жилки <... > чтобы не было... сухожилий' (415).
Такого рода сближение помогает установить символическую эквивалентность между
восковой маской Петра и отрубленной головой бывшей его любовницы.
236
сии,
были традиционным украшением античных саркофагов. На некоторых из них
встречается мотив ребенка (Эрота), надевающего на себя маску и продевающего в
рот Силеновой маски змею. Связь между змеей, зияющим мертвым ртом маски Силена
и Эротом является устойчивой именно в контексте погребальных ритуалов (Кереньи
1949: 205-207)28.
5. Лягушачьи глаза
Зияющему
рту соответствует зияние пустых глазниц. Тынянов отмечает существенную деталь в
процессе производства маски:
'И
он вдавил слепой глаз - и глаз стал нехорош, - яма, как от пули. После того они
замесили воск змеиной кровью, растопили и влили в маску...' (418).
Змеиная
кровь, подобно змее Эрота, оказывается связанной с мотивом пустых глазниц,
маски как представления смерти. Маска является физически явленным, анаморфным
знаком зрения. Поэтому глаза в ней (или зияния на их месте) - особенно значимы.
Театральная маска не имеет глаз, она снабжена прорезями, провалами ('ямами, как
от пули'), сквозь которые смотрят глаза актера. Это 'безглазие' также делает
маску монстром. Согласно справедливому замечанию Лорана Женни, 'мы признаем в пустоте основное определение монстра'
(Женни 1982: 113).
Чудовище
- зияющее существо, и это зияние, пустота, неопределимость делают его
воплощением чужого, опасного, пугающего. Пустота - нечто по своей природе
противоположное самой сути языка, который не сохраняет память зияний, не
соотносимую с 'лингвистической памятью' Само понятие зияния - hiatus - про-
________
28 Дионис (Вакх) и Силен, согласно
легенде, первыми открыли мед, из которо го, с одной стороны, делают хмель, а с
другой - воск До нас дошли две картины Пьеро ди Козимо - 'Открытие меда' и
'Открытие вина', в которых Силен играет как раз центральную роль Эрвин
Панофский установил связь этих картин с соот ветствующими фрагментами 'Фастов'
Овидия (Панофский 1962. 60-65). Показательно, что в центре картин расположено
характерное для стиля Пьеро ди Козимо странное дерево - это пустое, мертвое,
старое дерево, служащее естественным ульем По странной прихоти художника дерево
имеет отчетливые антропоморфные черты и напоминает маску с огромным зияющим
ртом-дуплом Дерево-маска оказывается своеобразным источником воска 'Естественная'
маска мертвого дерева сама производит воск - материал для изготовления
посмертных масок Тынянов тоже отмечает связь воска с пчелами Сбором воска
занимался один из экспонатов Кунсткамеры, шестипалый Яков, чей отец еще
'поставил пасеки' (393) Продажа Якова в Кунсткамеру и распад его семейного
очага описываются Тыняновым как разрушение улья 'И тогда мать и брат поняли,
что дом не дом, а пчелы залетные, и воск будут другие топить' (395)
237
исходит
от латинского глагола hiare - приоткрываться. Оно непосредственно связано с
образом открытого рта, утерявшего способность к речи, но зато обнаруживающего
способность к метаморфозам29 (см.
главу 5).
Отсутствие
глаз, зияние рта соответствуют барочному наращиванию парадоксальных,
невыразимых форм зрения. Описанные Растреллиевы анаморфозы, например, также
выходят за границы дискурсивной логики, они не могут быть описаны, выражены в
слове и даже увидены, как в принципе не может быть увидена анаморф-ная стадия
зрения, на которой визуальные знаки предметов подвергаются сложной зашифровке и
последующей расшифровке. Слепота, в каком-то смысле созвучная немоте, является
для барокко прямым коррелятом избыточного производства визуальных фантомов.
Слепота, возникающая в результате все того же бахтинского 'бесперспективного
зрения' (см. главу 1).
Балтрушайтис
опубликовал анаморфозу М. Беттини 'Глаз кардинала Колонна' (Илл. 13). Она
представляет собой деформированный рисунок глаза, приобретающий нормальные
очертания в цилиндрическом зеркале. Как показал исследователь, сама
цилиндрическая форма зеркала являлась каламбуром и замещала собой кардинала
(цилиндр = колонна) (Балтрушайтис 1984; 160-161). Но основным смыслом этой
анаморфозы все же можно считать не словесный каламбур, а то, что глаз в зеркале
возникает не в результате отражения в нем смотрящего, а за счет расшифровки
собственно промежуточной формы изображения (анаморфозы). Глаз возникает как
порождение видимого. Феномен зрения как бы предшествует органу зрения. Но
существенно также и то, что феномен зрения предстает в своей невидимой,
скрытой, анаморфной форме. Глаз дается в анаморфозе как эмбрион глаза, как
зачаток, из которого постепенно разовьется орган (ср. с интуициями Мандельштама
о разворачи-вании зрения как динамическом процессе- см. главу 4). Показательно,
что в первом из дошедших до нас анаморфных изображений, наброске Леонардо из
'Codex Atlanticus', соположены две анаморфозы - детской головки и глаза.
Возникновение
изображения глаза из невидимой фазы зрения относит его как бы к зоне слепоты.
Сама ассоциация глаза с отражающей поверхностью сближает его с глазом слепого
или мертвеца, который служит своеобразным зеркалом, отражает мир, но не
впускает его внутрь (цилиндрическая выпуклая форма зеркала играет
________
29 Жорж Батай заметил, что рот
(пасть) - наиболее пугающая часть тела животного. Хотя 'у цивилизованных людей
рот даже перестал относительно выдаваться вперед, как это наблюдается еще у
дикарей. Однако идея насилия, связанная со ртом, сохраняется в скрытой форме'
(Батай 1970 237).
238
не
последнюю роль в этом сближении глаза с зеркалом)30.
Слепой глаз подобен зеркалу еще и тем, что он никуда не направлен, не имеет
взгляда как некой интенциональности. Он смотрит, как зеркало, повсюду и никуда.
Анаморфоза Беттини закономерно приводит французскую исследовательницу Кристину
Бюси-Глюкрман (хотя и по несколько иным причинам) к выводу о том, что 'барокко
конституирует мимесис пустоты' (Бюси-Глюксман 1986: 49).
В
контексте 'мимесиса пустоты' приобретает особое значение слепота маски. Маска
предстает как лицо, лишенное глаз (в фонтанном маскароне - как лицо с зияющим
ртом). Двойная анаморфоза, подставляющая на место лица череп, совершает изъятие
глаз, заменяя их зияющими глазницами. Мальчик Эрот, продевающий змею или руку
сквозь глазницы Силеновой маски, своим жестом подтверждает факт слепоты.
Первый
раз тема слепоты в повести Тынянова появляется в связи с навязчивыми фобиями
Петра. Две из них косвенно связаны между собой: это страх крови и страх перед
тараканом. Страх крови связан с тем, что Петр в детстве видел 'дядю, которого
убили, и дядя был до того красный и освежеванный, как туша в мясном ряду, но
дядино лицо бледное, и на лице, как будто налепил маляр, была кровь вместо
глаза' (373).
Эта
сцена затем откликнется эхом в той, где в маску заливают 'змеиную кровь'. Страх
перед тараканом связан с тем, что таракан, в глазах Петра, - идеальный
симулякр. Он похож на кесарь-папу, 'он пустой', 'он мертвая тварь, весь
плоский, как плюсна' (373). Таракан оказывается своеобразным симулякром маски -
пустой, плоский, чье-то подобие, мертвый.
_____________
30 Ср. с описанием в стихотворении
Владислава Ходасевича 'Слепой'
..А на бельмах у слепого Целый мир отображен Дом,
лужок, забор, корова, Клочья неба голубого - Все, чего не видит он (Ходасевич
1992:221)
Здесь
глаз служит зеркалом, которое само по себе является знаком слепоты В ином
стихотворении, где вновь описываются отражения в глазу, но на сей раз зря чем,
полное отражение заменяется 'палимпсестом', смешением отраженного и
проступающего изнутри Видящий глаз у Ходасевича начинает работать как водная
поверхность
Но чуден мир, отображенный
В твоем расширенном зрачке < >
Там светлый космос возникает
Под зыбким пологом ресниц.
Он кружится и расцветает
Звездой велосипедных спиц
(Ходасевич 1992: 205).
239
Зиянию
глаза соответствует 'залепленность' глаз у мертвеца. В момент первого
публичного появления гипсового портрета покойного императора тот 'смотрит на
всех яйцами надутых глаз' (402). Когда же Растрелли вносит в залу на блюде
(характерная евангельская параллель) гипсовое подобие Петра, физиономия
скульптора в очередной раз подвергается трансформации (подобной его превращению
в Силена): 'И лицо его стало как у лягушки' (402). Это превращение
подразумевает и метаморфозу его глаз: лягушачьи глаза скульптора- не что иное, как
подобие надутых глаз-яиц маски Петра.
Лягушка
выбрана Тыняновым не случайно. Как и фонтанный Силен, она также - творение
самого Растрелли и также фигурирует в его фонтане. Ранее в повести сообщается,
что скульптор поставил напротив дома Меншикова 'бронзовый портрет лягушки,
которая дулась так, что под конец лопнула. Эта лягушка была как живая, глаза у
ней вылезли' (363).
Скульптурные
изображения лягушек, изготовленные Растрелли (Илл. 14), были вариациями на тему
других 'фонтанных' лягушек, а именно - версальского фонтана Латоны, созданного
между 1666 и 1670 годами братьями Марси. В фонтане Марси изображены крестьяне,
превращающиеся в лягушек и запечатленные в разных фазах метаморфозы (Илл. 15).
Лафонтен, описавший этот фонтан в 'Любви Психеи и Купидона', подчеркивал, что
метаморфоза связана с водой, с деформацией отражения от падающих струй:
Внизу
Латоны сын с божественной сестрой
И мать их гневная волшебною струёй
Дождят на злых людей, чтоб сделать их зверями
Вот пальцы одного уж стали плавниками,
И на него глядит другой, но сам не рад,
Затем, что он уже наполовину гад.
О нем скорбит жена, лягушка с женским телом.
Есть тут же и такой, что занят важным делом
С себя стремится смыть он волшебства следы,
Но те все явственней от плещущей воды
Свершаются в большом бассейне превращенья,
И вот с краев вся нечисть в жажде мщенья
Старается струю швырнуть в лицо богов
(Лафонтен 1964 61, пер Н. Я. Рыковой)
Превращение
Растрелли, таким образом, с одной стороны, еще раз вводит столь существенную
для повести тему метаморфозы, а с другой - буквально перекликается с сюжетом
версальского фонтана, в том числе с его интерпретацией Лафонтеном31.
__________
31 Напомню также о существовании
мифов, в которых лягушка превращается в камень из-за нарушения табу на смешивание
пчелиного воска и меда. Тем самым лягушка связывается с темой трансформации
тела в симулякр (окаменения) и одновременно мотивом воска. Этот мифологический
мотив в психоаналитическом ключе рассмотрен в работе Рохайм 1972: 11
240
Лягушка
затем появляется снова в контексте странного, противоестественного 'посмертного
зрения', когда вылупленные лягушачьи глаза, действительно напоминающие яйца,
смотрят вокруг, но, в отличие от человеческого глаза, не фиксируют объект.
Лягушачий взгляд направлен в никуда и одновременно повсюду. Это
всевидяще-отсутствующий взгляд. Вот как описывает Тынянов некоторые зловещие
экспонаты в Кунсткамере:
'Золотые
от жира младенцы, лимонные, плавали ручками в спирту, а ножками отталкивались,
как лягвы в воде. А рядом - головки, тоже в склянках. И глаза у них были
открыты. Все годовалые, или двухлетние. И детские головы смотрели живыми
глазами...' (385). В ином месте, где Яков обживается в Кунсткамере:
'И
Яков посматривал на товарищей. Товарищи были заморские, без движения. Большие
лягушки, которых звали: лягвы' (395).
Возникновение
лягушки в контексте Кунсткамеры и в связи с уродами, возможно, отсылает к
одному из наиболее знаменитых монстров - ребенку с лягушачьей головой, якобы
родившемуся в Буа-ле-Руа (Bois le Roi) в 1516 году и описанному Амбруазом Паре
в его 'бестселлере' 'О чудовищах и чудесах' (1573). Описание сопровождалось
гравюрой, впоследствии многократно воспроизводившейся (Илл. 16). Одна из
наиболее запоминающихся черт монстра Паре- пара совершенно круглых глаз. Как
будет видно из дальнейшего, связь лягушки с монстром принципиальна для
'Восковой персоны'.
Но
не менее важно и то, что экспонаты Кунсткамеры по-своему дублируют скульптуру
Растрелли: лягушки, младенцы-путти, головки серафимов - излюбленные мотивы
барочного искусства (ср. с заказом Растрелли аллегорической группы на смерть
Петра, где должны были фигурировать 'мертвые серебряные головы на крыльях'
(417). Показательно, что заказы Растрелли в повести постоянно касаются именно
'мертвых голов'. Эта навязчивая ассоциация мертвеца с лягушкой может иметь
множество смыслов. Известно, например, что лягушки и змеи (черви) были знаками
греха - именно в таком значении они фигурируют в швейцарском надгробии XIV
века, посвященном байлифу Во, графу Савойскому Франсуа де ла Сарра. Его transi представлен в виде обнаженного
тела, покрытого червями, а на месте его глаз, рта и гениталий помещены лягушки
(Илл. 17). Согласно наиболее убедительной интерпретации, эта фигура должна была
символизировать силу молитвы, принуждающую грехи покидать тело (Коэн 1973: 83).
Нельзя, однако, не заметить, что лягушки располагаются именно на зияниях тела,
местах его перехода из внутреннего во внешнее. Лицо же Франсуа де ла Сарра
выполнено так, что лягушачьи головы располагаются как раз в глазных впадинах мертвеца.
Тем самым закрытые глаза покойника под-
241
меняются
открытыми лягушачьими глазами. Место истинного зияния или истинной слепоты
занимает лягушачий глаз - видящий и невидящий одновременно. Появление
лягушачьей маски на лице Растрелли в момент показа гипсовой головы Петра
подтверждает параллелизм между скульптором и Петром, параллелизм двух масок:
одной - на лице ваятеля, другой - с лица покойного императора. Симулякр
мертвеца, его гипсовый отпечаток наделены невидящим лягушачьим глазом,
напоминающим яйцо или выпуклое зеркало анаморфных систем.
Проблематика
взгляда имеет самое непосредственное отношение к истории скульптурных
портретов. Глаза- наиболее трудно передаваемая в скульптуре часть лица. Их
изображение требует рисунка и цвета. В древности роговицу и зрачок просто
рисовали на глазном яблоке. Лишь в эпоху эллинизма был найден способ
скульптурной передачи конфигурации глаза. Скульпторы стали изображать роговицу
как круг, обрамленный выемкой, а зрачок - как одно или два высверленных
отверстия. В эпоху Ренессанса сложился двойной канон изображения глаз в
скульптуре. В тех случаях, когда требовалось передать решительность модели,
предполагавшую подчеркнутую направленность взгляда (в случаях 'героических
портретов'), глаза, как правило, высекались. Зато при лепке святых или мадонны,
как правило, сохраняли негравированные, 'пустые' глазные яблоки. Такой двойной
подход характерен для Микеланджело, который высек зрачки и радужки у Давида и
Моисея, но оставил нетронутыми белки глаз мадонны или статуй в капелле Медичи
(Виттковер 1951: 10-11). Лишенные взгляда, глаза святых идеально передавали
состояние потусторонности, перехода из земного мира в мир горний. Их глаза как
бы уже не видят земли, и вместе с тем они не слепы. Это глаза
слепых-всевидящих- и в этом смысле они сходны с зеркальными, 'лягушачьими'
глазами анаморфоз.
Уильям
Батлер Йейтс считал, что скульптурная техника изображения глаз тесно связана с
общей пластической характеристикой тела. По его мнению, в истории сменяются
периоды, когда тело 'мыслит', но глаза 'не видят', и периоды, когда глаза
видят, но тело- вяло и бессмысленно (Кермод 1986: 55). Йейтс считал, что
греческое пластическое тело характеризуется танцевальностью и слепостью глаз.
Иначе в Риме:
'Когда
я думаю о Риме, я всегда вижу эти головы с глазами, взирающими на мир, и эти
тела, условные как метафоры в передовице...' (Йейтс 1966: 277); '...римляне
были первыми, кто просверлил круглую дыру, чтобы изобразить зрачок, как я
думаю, из-за интереса к взгляду, характерного для цивилизации в ее заключительной
фазе' (Йейтс 1966: 276).
Изображение
зрачка в виде высверленной дыры вместо раскрашенного рисунка или инкрустации
действительно знаменует собой
242
переход
от пластической телесности к иллюзионности. Как замечает Л'Оранж,
'резец
работает, исходя из осязаемой формы, он гибко следует за всеми гребнями и
провалами, за всеми складками пластической поверхности. Дрель же, напротив,
работает иллюзионистски, она не следует осязаемой форме, но оставляет сияние
освещенных мраморных краев среди острых, погруженных в глубокую тень
высверленных отверстий' (Л'Оранж 1965: 32).
Иллюзионная
пластика - это как раз то, что максимально выразительно передает взгляд (сияние
мраморного скола во тьме зрачка) и делает тело невыразительным, бестелесным.
Растрелли
создал пять скульптурных изображений Петра, каждое из которых отличалось особой
трактовкой глаз. Первое- это скульптурная голова, выполненная по маске Петра
(1721 г.), затем - известный бюст (1723 г.), созданный под непосредственным
влиянием бюста Людовика XIV работы Бернини (сходство особенно бросается в глаза
потому, что Растрелли постарался по-своему сымитировать полет ткани и кружева
воротника, подчеркнутые у Бернини). В 1725 году Растрелли создал посмертную
маску Петра и восковую персону. И, наконец, в 1744 году он завершил конную
статую Петра.
Голова
1721 года имеет непроработанные радужки и зрачки, ее взгляд в силу этого -
блуждающий (Илл. 18). Глаза-яйца в данном случае выражают состояние beatitas, которое характерно для gisant в надгробиях. Посмертная маска
1725 года естественным образом изображает Петра с опущенными веками. Восковая
персона украшена полихромными имитациями глаз, но взгляд у фигуры, как это
часто бывает в подобных случаях, несмотря на точное воспроизведение органов
зрения, - отсутствующий. Зато в портрете 1723 года (Илл. 19) всеми средствами
подчеркнута гипнотическая устремленность взгляда, который в отличие от
берниниевского Людовика устремлен не вверх, а немного вниз. Выражение лица
Петра таково, как если бы он увидел что-то перед собой и не мог оторвать
взгляда от увиденного. И, наконец, в конной статуе (Илл. 20) взгляд приобретает
почти все черты настоящей маниакальности. Этому служат и подчеркнуто глубокая
проработка век, и совершенно орнаментальный характер бровей, образующих две правильные
симметричные арки вокруг глазных яблок. Но особая роль в создании несколько
пугающего эффекта от взгляда Петра в конной статуе принадлежит собственно коню.
Растрелли сделал огромный лошадиный глаз, напоминающий яблоко, 'лягушачий' по
своим очертаниям, и высверлил в нем большие радужки без зрачков. Тем самым
лошадиный глаз приобретает отличие от человеческого и вместе с тем
парадоксальную устремленность, почти равную устремленности взгляда императора.
Эта странная, бешеная устремленность взгляда Петро-
243
ва
коня неожиданно делает его морду и лицо императора... похожими. Вновь возникает
уже знакомый нам барочный эффект дублирования масок, морд, лиц.
Это
дублирование особенно очевидно потому, что во всех случаях, идет ли речь о
человеке или животном, перед нами по существу все те же маски. И маниакальная
устремленность взгляда здесь играет не последнюю роль. Маска скрывает лицо,
автономизируя взгляд, оставляя лишь взгляд 'обнаженным'. Она - не что иное, как
сокрытие лика, делающее интенсивность взгляда особенно ощутимой. Тело под
маской как бы отказывается быть объектом рассмотрения, оно целиком превращено в
субъект, в смотрящего, потому что от тела остается лишь взгляд.
Глаза,
дыры глаз - это знаки субъективности, создающие лицо. Делёз и Гваттари утверждают,
что схема лица, которую они называют 'абстрактной машиной фациальности'
(visageite) строится на сочетании белой стены и дыр в ней:
'Лицо
строит стену, в которой нуждается означающее для того, чтобы сквозь нее
прорваться; оно создает стену означающего, рамку или экран. Лицо проделывает
дыру, в которой нуждается субъективизация, чтобы ворваться в нее; оно создает
черную дыру субъективности в виде сознания, страсти, камеры или третьего глаза'
(Делёз - Гваттари 1987: 168).
'Абстрактная
машина' лица поэтому - изначально маска. Лицо как выражение индивидуальности
возникает в результате деформаций этой 'абстрактной машины', а по мнению Делёза
- Гваттари, как некая избыточность. Рельеф Петрова лица вокруг дыр-глаз - это
действительно некие складки, измятость материи, по-своему связанная с
энергетическим прорывом субъективности. Это рельеф, созданный приложением сил к
белой стене, сил, прорывающих стену прежде всего в области глаз. В этом смысле
лошадь Петра действительно не больше чем симулякр императора, странная
зооморфная деформация все той же изначальной абстрактной маски.
Лошадь
Петра Лизета фигурирует в повести как один из экспонатов Кунсткамеры, куда
постепенно собираются все симулякры императора. Ее чучело стоит рядом с
восковой персоной монарха. Растрелли упоминает ее в самом начале работы над
маской, впервые сообщая Лежандру о замысле конного монумента:
'
- Вот такой будет грива, и конская морда, и глаза у человека! Это я нашел
глаза!' (418)
Фраза,
как и многие фразы в 'Восковой персоне', намеренно двусмысленная. Не совсем
понятно, о ком говорит мастер - о Петре или о коне: '...и конская морда, и
глаза у человека!' Писатель умышленно смешивает всадника и лошадь, и
человеческие глаза в данном случае, вероятно, относятся к обоим.
Итак,
все Растреллиевы ипостаси Петра отличаются различны-
244
ми
формами организации зрения, взгляда, и в силу этого существуют как бы в разных
реальностях, соответствующих разным стадиям перехода от жизни к смерти. Этим
вариациям в репрезентации взгляда соответствуют различия в характере
скульптуры, вернее, в формах соотнесенности скульптурного изображения со
смертью, с индексальностью масочного следа, восковой печатью. Энергия зрения
как будто воздействует на форму скульптуры, деформирует ее, вносит в нее
различия, вписывает в нее диаграмматичность. Чем более выражен индексальный
характер изображения, чем ближе оно к подлинной маске, снятой с лица царя, тем
оно более слепо. Закрыты глаза у настоящей посмертной маски, и это естественно.
Глаза-яйца без зрачков характерны для маски 1721 года. Последующее нарастание
'субъективности' в 'машине' лица и нарастающее подчеркивание целенаправленности
взгляда достигают кульминации в конном монументе, где взгляд Петра удвоен
парадоксальным квазичеловеческим взглядом коня. Эволюция эта любопытна тем, что
взгляд как бы прорезается в скульптуре по мере ослабления индексальности ее
связи с 'оригиналом'.
Истинная
маска как бы свернута внутрь. Она сходна с моделью анаморфного зрения, она -
только зеркало. Но по мере деформации маски, ее постепенного приближения к
аллегорическому тексту, ее удаления от истинных форм лица модели в ней
пробуждается взгляд- единственный элемент лица, с которого нельзя снять
скульптурную копию, единственный элемент лица, всегда 'принадлежащий'
исключительно дискурсу скульптора, являющийся с начала и до конца его детищем.
Взгляд оказывается поэтому и неожиданным непереводимым коррелятом словесного.
Сама его направленность как бы трансформирует пятно масочной анаморфозы в
линейное развертывание вербальной цепочки. Распластанная 'чечевица' взгляда
(Лакан) преобразуется в подобие линеарности.
Есть
и еще одна особенность маски, о которой следует упомянуть. Создание маски
непосредственно не связано со зрением, оно в большей степени относится к
области тактильности. Маска возникает как результат ощупывания лица самим
материалом, сохраняющим в себе след прикосновения. Но этот след оказывается видимым, он непосредственно переводит
тактильное в зримое. Морис Мерло-Понти заметил, что тело человека находится в
'видимом':
'Оно окружено
видимым. <... > Мое тело стоит
перед миром, а мир стоит перед ним, и их отношения - это отношения объятия. И
между этими двумя вертикальными телами нет границы, но лишь поверхность
соприкосновения...' (Мерло-Понти 1979: 324).
Видимое
оказывается распластанным подобием тактильного, но это подобие не предполагает
точки зрения, это именно поверхностная граница. Подобная смесь зрения и
тактильности метафорически напоминает некий размазанный глаз или его анаморфное
изо-
245
бражение,
как в рисунке Беттини. Маска относится как раз к изображениям такого типа,
поэтому наделение ее взглядом подвергает ее резкой структурной метаморфозе.
6. Монстры
Это
отсутствие границы между видимым миром и видимым телом, общность их поверхности
хорошо иллюстрируется началом того эпизода, где Растрелли превращается в
Силена:
'Левая
щека была вдавлена. Оттого ли, что он ранее снимал маску из левкоса и
нечувствительно придавил левую щеку, в которой уже не было живой гибкости? Или
оттого, что воск попался худой? И он стал давить чуть-чуть у рта и наконец
успокоился. Лицо приняло выражение, выжидательность, и впалая щека была не так
заметна.
И так стал он отскакивать и присматриваться, а потом
налетал и правил' (418).
Между
объектом и его следом устанавливаются отношения взаимодействия. Левкое давит на
щеку и деформирует ее. Слепок сам деформирует лицо. Деформации в лице Петра
возникают в результате его контакта с этой материализованной формой тактильного
зрения. Тем самым мотивируется последующая правка, но правка эта странным
образом как будто направлена не на маску, а на само 'лицо' (во всяком случае,
Тынянов употребляет именно это слово). Углубление на лице выступает как след
зрения, как след следа.
То,
что маска является одновременно и отпечатком мертвого лица, и отпечатком
зрения, функционально приравнивает работу скульптора к работе отливочной формы.
Взгляд ваятеля, переведенный в тактильное измерение, как будто формирует
симулякр в той же мере, что и лицо Петра.
История
с вдавленной щекой, которую камуфлирует Растрелли, вновь отсылает нас к
берниниевскому бюсту Людовика XIV. Перед Бернини стояла сложная задача -
изобразить высокий лоб короля и при этом сохранить форму монаршего парика. Он
принял неординарное решение. На лоб короля скульптор опустил буклю, сквозь
которую весь лоб был отчетливо виден. Однако скульптурное изображение букли
потребовало углубления лба, отчего тот приобрел несколько вдавленный вид.
Распространилось мнение, что Бернини отсек слишком много мрамора и исказил
черты лица монарха (Виттковер 1951:13).
Характер
скульптурного изображения таков, что желание показать, раскрыть это изображение
глазу зрителя неизбежно требует 'деформации' формы. Видимое возникает как
результат деформаций. Именно 'искажение' объемов и есть пластический способ со-
246
ответствовать
потребностям чужого, дистанцированного глаза. Распластанное, тактильное зрение
раскрывается стороннему наблюдателю только через искажение индексального следа.
Скошенный
лоб Людовика (который к тому же создавал ощущение излишне выступающих
надбровных дуг), вдавленная щека Петра - все это лишь мелкие знаки уродства,
деформаций, которые мотивируют связь восковой персоны с Кунсткамерой,
понимаемой прежде всего как коллекция уродов.
История
помещения фигуры Петра в 'научный' паноптикум прежде всего отражает непонимание
русской культурой того времени самого значения императорского двойника.
Историческая судьба персоны несколько отличается от версии, изложенной в
повести. До 1730 года персона оставалась в мастерской скульптора, а затем была
перенесена в бывший дом царевича Алексея Петровича. В повести откровенно
устанавливается связь между умирающим Петром и его сыном:
'Губы
его задрожали, и голова стала на подушке за-прометываться. Она лежала, смуглая
и не горазд большая, с косыми бровями, как лежала семь лет назад голова того,
широкоплечего, тоже солдатского сына, голова Алексея сына Петрова' (372).
Установление
аналогии между Петром и Алексеем вписывается в общую стратегию повести, где
император постоянно связывается с мертвецами, и чаще всего с собственными
жертвами. В 1732 году персону перевезли в Кунсткамеру. При перевозке у нее
сломали два пальца на левой руке (Архипов - Раскин 1964: 53)32. Хотя эта деталь не отражена в повести, она
помогает установить связь между персоной и уродами из кунсткамеры - двупалыми
Фомой и Степаном и шестипалым Яковом. Любопытно, что в Кунсткамере Петр снова
попадает в компанию своего отпрыска, на сей раз внука, сына Алексея Петровича.
В банке здесь содержится голова Петрова внука под этикеткой 'Пуерикапут ? 70'.
Мертвецы и уроды, которых по императорскому указу собирают в Кунсткамере,
оказываются естественными соседями императора, чуть ли не его семьей.
Состав
коллекции в Петровом музее - обычный для того времени. Помимо чучел
разнообразных редких животных, минералов и прочих традиционных экспонатов музея
естественной истории, главное место здесь занимают монстры. (Чисто российским
феноменом, правда, можно считать спиртование отрубленных голов, но
_________
32 Деформация или уродства пальцев
были важным объектом тератологических исследований XVIII века, начиная с
'однопалого человека', описанного Уинслоу в 1733 году в качестве примера
'простого уродства', и кончая трактатом М. Морана 'Исследования о некоторых
уродствах пальцев человека' (Париж, 1770). Аномальное количество пальцев еще со
времен античности являлось признаком монструозности. Так, например, считалось,
что в Индии живет племя уродов с восемью пальцами. См. Виттковер 1977: 46.
247
и
оно имеет прецеденты. Головы и тела казненных преступников широко
использовались для изучения анатомии в Европе). Именно уродам Тынянов отводит
особую роль. В общей структуре символических симметрий они- инвертированные
эквиваленты Петра и Растрелли, но они связаны и с другими персонажами на правах
'зеркальных' отражений мира 'нормальных' людей.
Человеческие
образчики в Кунсткамере соединяли 'природное' с 'историческим', человеческим.
Именно двойственность коллекций, установка на соединение естественной истории с
просто историей позволяли, например, помещать в музеи подобного типа портреты
предков и генеалогические древа33.
Окаменевшие рыбы и растения могли оказаться рядом с посмертной маской - тоже
своего рода исторической окаменелостью. Двойственность положения монстров тоже
по-своему связывает их с маской и двойником.
Этим
отчасти объясняется то место, которое уроды занимают в человеческом
воображении. Это место Чужого, с которым возможна идентификация. Чужого и 'Я' -
одновременно. Жорж Батай считал, что странное чувство тревоги, которое они
вселяют в наблюдателя, вызвано тем, что 'монстры, точно так же, как и любые
индивидуальные формы, диалектически располагаются на полюсе, противоположном
геометрической регулярности, но у них это положение не может быть изменено'
(Батай 1970: 230).
Эта
сверхиндивидуальность монстра может быть описана в категориях деформации,
изменения 'нормальной', 'естественной' формы. В некоторых случаях урод
действительно принимает облик некоторой природной анаморфозы. Так, например, в
анатомическом трактате Томаса Теодора Керкринга (1729) помещена гравюра,
изображающая урода со всеми чертами именно анаморфного искажения внешности
(Илл. 21).
Считалось,
что 'анаморфоза', производящая монстра, связана с силой воображения. Согласно
представлениям, имевшим широкое хождение в XVIII веке, воображение было
способно изменить 'природную' форму ребенка и произвести на свет урода.
Материнское воображение представлялось основным формообразующим фактором, а
мать оказывалась похожей на художника. В связи с этим возникла дилемма, так
формулируемая Мари-Элен Юэ:
_________
33 Такой же странной двойственностью
отмечены, например, церковные реликвии и даже останки святых, которые можно
было обнаружить у коллекционеров в Венеции. К. Помиан дает следующее объяснение
невероятной эклектике подобных собраний редкостей:
'...Присутствие
некоторых предметов могло быть обосновано двояко, так как они одновременно
принадлежали и природе и истории, тем самым придавая дополнительное измерение
представлению истории портретными галереями знаменитостей и предков, а также
семейными древами' (Помиан 1990: 74).
248
'В
тот самый момент, когда за воображением была закреплена способность творить и
господствовать над сходством, и именно из-за этой самой способности сходство
перестает быть надежным; оно перестает быть доказательством идентичности,
наследования, происхождения и истины. Сходство, создаваемое воображением,
больше не обнаруживает происхождения существ; вместо этого оно маскирует
идентичность...' (Юэ 1993:80-81). Сходство становится своеобразной маской.
Сходные взгляды питали и гипотезу о травматическом генезисе монстров (ср. со
вдавленной щекой на маске Петра). Широкое распространение имело убеждение, что
урод появляется на свет в результате пережитого беременной женщиной момента
ужаса или увиденного страшного сна. Монстр в таком случае оказывается
буквальным слепком образа зрения - воистину естественной анаморфозой. Но
показательно, что этот мистический слепок видения возникает в результате
случайной травмы, мгновения, некоего визуального удара, 'встречи'. Его
формирование несет в себе черты индексальности. Вот, например, как объясняет
Паре возникновение уже упомянутого 'лягушачьего' урода. Накануне зачатия у
матери началась лихорадка, и соседи порекомендовали ей 'лечение лягушкой':
'...Ночью
она легла с мужем, все еще держа в руке ту лягушку; они с мужем стали
обниматься и зачали, и силой воображения был таким образом произведен монстр'
(Макферленд 1979-1980:110).
Урод
возникает даже не просто от воздействия воображения, но от того, что женская
рука в момент зачатия ощупывает лягушку, подобно руке скульптора, вбирая в себя
ее форму. Речь идет о неком сложном процессе, включающем стадию тактильности,
индексальности и затем - воображения. Однако монстр принадлежит и к разряду
своеобразных живых символов. Как и символ (по мнению Вальтера Беньямина), он
формируется 'мгновенно', в некий момент мистического 'озарения'.
Урод-
это абсолютная индивидуальность, тотальное отклонение от геометрической
регулярности, продукт случайности и мгновения. Вместе с тем он весь
ориентирован на некую иную симметрию. Не случайно в коллекциях уродов особое
место всегда занимали сиамские близнецы, двуголовые чудовища и т.д. В 'Восковой
персоне' мотив двуголовости проведен с особой настойчивостью. В Кунсткамере
хранятся две головы: Вилима Ивановича Монса и Марьи Даниловны Хаментовой. В
соответствии с указом о монстрах, 'драгунская вдова принесла двух младенцев, у
каждого по две головы, а спинами срослись' (391). Петру изготовляются две маски
- одна из левкоса, другая из воска, при этом двуголовость Петра оборачивается
призраком монструозности всего его тела: не хватает
249
воска
на ноги. Растрелли говорит Лежандру: 'Но ты [воска] прикупил мало, и теперь
останемся без ног' (402).
Двуголовость
монстра вводит в его тело совершенно особую симметрию, некую неожиданную
геометрическую регулярность. XVIII век зачарован именно симметричными уродами
(Илл. 22,23). Бурную полемику вызывает некий солдат, чьи органы расположены в
теле с полным обращением правой и левой сторон (аналогичный персонаж описан у
Дидро в 'Сне Д'Аламбера' как плотник из Труа). Сам феномен такого зеркального
уродства дает основание для многочисленных спекуляций. Лемери, в 1742 году
специально обсуждавший это явление, предполагал, что рождение монстра можно
понять, если обнаружить некий механизм переноса внутренней симметрии
человеческого тела вовне. Патрик Торт так излагает его аргументацию:
'Левая
рука подобна зеркальному отражению правой, и эта симметрия лежит в основе тела,
притом что зеркало располагается внутри и по центру. Но когда зеркало
экст-равертируется, то человек обнаруживает, как в перевернутом организме
солдата, неистребимое различие, иное
тело, которое в силу своих жизненных проявлений и функций - то же самое' (Торт 1980:133).
Лемери
специально останавливается на уродстве как явлении, возникающем от нарушения
зеркальных осей и симметрий. Монстры, в его представлении, возникают оттого,
что правая и левая рука меняются местами, оттого, что человек наделяется двумя
левыми или двумя правыми руками.
Различие
возникает не просто как некое фантастическое искажение, как гротеск - плод
безудержной фантазии природы или человеческого воображения, но в результате
зеркального отражения, обращения симметрий, подобного тому, что порождается
печатью, отливкой и т. п. Зеркально обращенное зрение - само по себе
монструозно. Монстры начинают связываться с такими видами изображений, которые
подвергаются аналогичным деформациям в процессе своего изготовления. Между
двуглавыми монстрами средневековой орнаменталистики, чудовищами кунсткамер и
восковыми персонами устанавливается странная эквивалентность34. Не удивительно, что монстры-'натуралии'
время от времени становятся объ-
_________
34 Балтрушайтис показал, каким
образом игра симметрий приводит к порождению монстров в средневековой
европейской скульптуре, отмечая при этом, что деформации и диспропорции ищутся
в скульптурных гротесках как чудеса природы (Балтрушайтис 1986). Проведенный
исследователем анализ такого, например, мотива, как двуглавый орел, показывает
его тератологическое происхождение Превращение монструозного тела в аллегорию
само по себе процесс исключительно интересный. Так, в сфере аллегорий
двуголовым уродам кунсткамер соответствует, например, алхимический гермафродит
Rebis. Его 'существование', однако, находится уже вне сферы деформаций. Смысл
тут уже зафиксирован в уродстве, которое не подлежит изменению.
250
ектами
восковых изображений. В популярной книге Никола Франсуа Реньо 'Отклонения
природы, или Собрание основных уродств, производимых природой в человеческом
роде' (1775) опубликовано изображение восковой персоны сросшихся близнецов,
озаглавленное 'Двойной ребенок' (Илл. 24). Воск воспроизводит тут фигуру
маленького монстра, словно и впрямь удвоенную зеркалом, вышедшим наружу изнутри
организма. Правая часть тела урода кажется маской, снятой с левой части. Тело
сформировано так, будто оно постоянно отслаивает от себя собственную восковую
копию.
Разделение
тела надвое в одном из экспонатов Петровой Кунсткамеры приобретает отчетливо
садистические черты. Речь идет о 'господине Буржуа', 'великане французской
породы из города Кале'. Когда великан умер, 'с него сняли шкуру', 'потрошили'.
'Так господин Буржуа был в трех видах: шкура <...>, желудок в банке, скелет на свободе' (386).
Мотив
отделенной от тела кожи хорошо известен искусству и связан в основном с
фигурами св. Варфоломея, Марсия, Камбиза. Загадочное изображение человеческой
кожи, снятой с двойника, можно увидеть в 'Страшном суде' Микеланджело (Илл.
25). Художник придал свои собственные черты снятой с человека коже, которую
держит в руке св. Варфоломей. В данном случае само изображение художника - не
что иное, как снятый с него покров, 'маска', анаморфоза его собственного
взгляда. Я уже отмечал, что скульптор в работе над изображением до некоторой
степени уподобляется отливочной форме, само его тело претерпевает метаморфозу,
преображаясь по законам деформирующего видения35.
Согласно С. Эджертону, в контексте Страшного суда
'кожа жертвы обозначала ее дурной нрав и грехи. Снимая ее, жертва очищалась и
возрождалась; ее лишенное кожи тело символизировало раскрывающуюся правду'
(Эджертон 1985: 206).
Эдгар
Винд связал этот мотив с дионисийскими мистериями, включавшими и ритуал
сдирания кожи, указав при этом, что кожа в данном случае - это символ
метаморфозы, преображения и очищения через смерть. Неожиданным образом он
обнаружил близость содранной кожи и дионисийских ритуалов маске Силена:
'Комическая маска играющего на флейте Силена <...
> представляла ту же тайну, что и Марсий, с которого содрали кожу' (Винд
1958: 146).
_____________
35 Ср. с наблюдением Клода
Гандельмана, связавшего автопортрет Микеланджело на фреске 'Страшного суда' с
теорией скульптора, согласно которой ваяние есть процесс снятия с камня 'кожи'
во имя обнаружения скрытой в нем идеи. - Гандельман 1991 116
251
Лео
Стейнберг показал, каким образом анаморфно искаженное лицо Микеланджело задает
символическую ось всей фреске Страшного суда (Стейнберг 1980).
Эффектное
изображение человека, держащего в руках собственную кожу, было создано в 1560
году Гаспаром Бесерра для анатомического трактата Хуана де Вальверде (Илл. 26).
Здесь кожа предстает как анаморфное искаженное изображение человека, а тело без
кожи - как классическая форма (моделью для изображения служил Аполлон
Бельведерский)36, как аллегория
чистой правды.
Истина,
таким образом, предстает как обнаженное повторение покрова, его дубликат, а
ложь - как анаморфный покров истины, искаженный слепок с нее. Гравюра Бесерра
напоминает о принадлежащем Жилю Делёзу анализе взаимоотношения повторения и
различия:
'Одно
повторение- "обнаженное", другое- "одетое", формирующееся в
процессе одевания, маскировки, травестии. <...> Оба повторения не
независимы друг от друга. Одно - единичный субъект, сердце и внутренность
другого. Другое- лишь внешняя оболочка, абстрактное следствие. Повторение
асимметрии прячется за симметричными совокупностями и эффектами; повторение
значимых точек - за повторением ординарных точек; и всюду Другой таится в
повторении Того же' (Делёз 1968: 37). Это различие внутри удвоения,
обнаруживающееся в повести Тынянова в зеркальной перекличке масок, уродов,
симулякров, живых и мертвых, вписывает в ее структуру диаграммы, возникающие на
тех невидимых границах, где реализуются деформации, где тела расслаиваются в
многообразии слепков и искаженных зрительных образов, разрушающих логику
'линейной перспективы'. Диаграммы возникают там, где барокко предлагает свою
систему повтора, противоположную классическому видению. Диаграммы отмечают
переходы от индексальности к монструозному, от символа к аллегории, от
воображаемого к символическому. Они обнаруживают работу топологического искажения
пространства, которое через анаморфозу, снятую кожу, деформацию маски,
водоворот, смерть стремится проникнуть в сферу языка, пронизанную метафорами,
наслоениями образов, сгущениями и анаграммами.
Работа
эта вовлекает в себя зрение художника, само превращающееся в подобие некой
формы для отливки. Образ художника как некоего включенного в творчество
иллюзорного тела деформируется, то возникая в виде анаморфной фигуры - кожи,
снятой с тела - то превращаясь в двойника собственных творений. Микеланджело
_________
36 Об использовании античной
скульптуры в анатомических иллюстрациях см. Харкурт1987
252
повисает
в руке св. Варфоломея, как снятый с подрамника холст. Растрелли превращается в
Силена собственной работы. Для того чтобы маска Петра заговорила на языке
аллегории, Растрелли должен сам превратиться в камень, стать маской в
искажающем зеркале и окаменевшим двойником самого императора. Кощунственная
работа по созданию Петрова двойника (как кощунственно, согласно Платону, всякое
удвоение мира) неизбежно включает диаграмматическую машину удвоений и
деформаций, в которую попадает и сам художник - живая матрица двойников.
Глава 7. ЛИЦО-МАСКА И ЛИЦО-МАШИНА
1
Удвоение
обыкновенно работает как своеобразная машина. Диаграммы вырабатываются этой
машиной там, где удвоение производит различие, где 'оригинал' деформируется.
Чтение деформации становится возможным только при наличии удвоения. Лишь
двойник позволяет обнаружить диаграмму там, где дублирующая машина вписывает
трансформацию в 'оригинал'.
Такая
модель хорошо работает, когда за телом возникает тень 'демона', когда
производятся маски, когда снятая с тела кожа анаморфно дублирует тело, когда
лицу приписывается чужой голос или различие вписывается в тело отсутствием или
смертью. Однако удвоение является и неизбежной практикой любого актерства, даже
если актер старается избегать лицедейства. Оставшиеся главы книги будут
посвящены актерам, точнее, специальным актерским техникам деформации, с помощью
которых осуществляется самоотчуждение от собственного лица или тела.
В
этой главе речь пойдет о некоторых опытах Льва Кулешова, чье творчество
представляет в контексте этой книги особый интерес. Кулешов рассматривал тело
'натурщика' (кулешовское определение актера) как чисто динамическую
поверхность, функционирование которой может быть сведено к ряду деформаций.
Последовательно опираясь на смесь из систем Дельсарта и Далькроза, Кулешов
разработал собственную сугубо формальную концепцию поведения натурщика, в
идеале 'механизированного', предельно точного существа (см. Ямпольский 199 la).
Этот человек-машина, процесс работы которого Кулешов откровенно называл
'механическим процессом', должен ритмически сворачиваться и разворачиваться,
напрягаться и расслабляться по заданию режиссера. Кулешов писал:
'Человеческое
тело, как всякий живой организм, имеет стремление увеличивать свою площадь в
некоторых случаях жизненного процесса, а в некоторых- уменьшать ее, то есть
обладает способностью свертывания и развертывания. Общую линию свертывания и
развертывания, хотя бы она происходила с нарушениями в движении, легко уследить
и обратно построить. Человек может подниматься и опускаться по отношению к той
поверхности, на которой он работает, он может занимать ударные
254
и
неударные положения, наконец его тело и весь процесс движения происходит в
различных сменах разных напряжений. В нем может быть избыток сил и упадок их,
которые по-разному отразятся на характере жеста. Наконец, натурщик должен знать
психологическое и физиологическое значение движения и распределять гармонически
длительности' (1:3бб)1. Иронический
В.Туркин, процитировав этот абзац, заметил:
'Это
почти и вся "теория" Льва Кулешова в части, касающейся мастерства
кино-актера' (Туркин 1925: 46). Действительно, в текстах Кулешова мы почти
ничего не найдем такого, что касалось бы каких-то иньк выразительных
возможностей человека, кроме заключенных в механизированном жесте свертывания
или развертывания, стягивания к центру или растягивания, то есть чисто
диаграмматической деформации поверхности, отражающей изменение приложенных к
телу сил.
Такое
'раздувающееся' и 'сдувающееся' тело в принципе противостоит всякому
психологическому чтению тех поверхностных событий, театром которых оно
является. Натурщики Кулешова становятся похожими на Алису из сказки Льюиса
Кэрролла, которая то растет, то сжимается, у которой неожиданно вытягивается
шея и т. д. Жиль Делёз, исследовавший поведение такого тела, заметил, что оно
порывает с нормами традиционной причинности, увязывающими всякое изменение
телесной поверхности с причиной, скрытой внутри. Делёз заменяет эту
традиционную причинность иной, когда поверхностные события сополагаются в серии
и ряды. Каузальность в этих сериях не связывает поверхностное событие с
невидимой внутренней причиной, но сцепляет события между собой в цепочки
следствий без внутренних причин:
'..
Тем легче события, всегда являясь лишь
следствиями, могут взаимодействовать друг с другом в функции квази-причин
или вступать во всегда обратимые отношения квази-причинности...' (Делёз 1969:
16) Между тем тело актера имеет по меньшей мере одну часть, которая не может
сворачиваться и разворачиваться, занимать ударные и неударные положения и
которая имеет фундаментальное значение в сфере выразительности, - это лицо.
Лицо оказывается той частью тела, которая в наименьшей степени подвластна
механизации, и в этом смысле на фоне 'конструктивизма' Кулешова и его
соратников оно предстает каким-то неподвластным системе архаическим
________
1 В данной главе тексты Кулешова
цитируются по изданиям: Кулешов 1988, 1989 (при ссылке на это издание в тексте
в скобках указываются том и страница) и Кулешов 1979 (при ссылке на это издание
в скобках в тексте указываются только страницы).
255
элементом,
явно архаическим наследием того 'дурного прошлого', когда движения тела были
безнадежно неорганизованными и неконтролируемыми.
Кулешов
как бы переворачивал ход эволюции человеческого тела. Очевидно, что именно лицо
с его выразительной мимикой является наиболее поздним эволюционным
образованием. Оно отмечает дифференциацию чисто моторной динамики тела от 'выразительных'
движений, мимики, которым отводится специализированная область. 'Выразительные'
движения в основном концентрируются вокруг рта, то есть главного органа
производства речи - еще одной экспрессивной системы. Возникновение мимической
зоны вокруг речевого отверстия отмечает связь мимики с дыханием, с 'пневмой', с
'внутренним', с идущим изнутри. Лицо- пожалуй, единственная часть тела,
сопротивляющаяся делёзовской редукции к чисто поверхностным событиям. Даже
гротескные трансформации лица в карикатурах противостоят чисто 'поверхностному'
чтению, во всяком случае они могут пониматься как процедура подчеркнутой
трансформации внутреннего в чисто внешнее, телесно поверхностное.
То,
что эволюционно является новейшим образованием, для Кулешова - знак архаики.
Новая кинематография, согласно Кулешову, должна строиться на 'точности во
времени', 'точности в пространстве', 'точности организации', это
'кинематография, фиксирующая организованный человеческий и натурный материал'
(118). Никакой точной организации лицо не дает. Оно связано с мистицизмом
психологизма, против которого Кулешов выступал часто и запальчиво и который
связывал с русской психологической драмой, 'ложной с начала и до конца - лгущей
одновременно и кинематографии и жизни' (127).
Как
бы там ни было, при всей неудовлетворенности лицом избавиться от него все же не
представляется возможным. Кулешов неохотно смиряется с его существованием, но
указывает, что по своим возможностям оно не идет ни в какое сравнение с руками
- идеальным аналогом неких механических рычагов. Закономерно режиссер видит в
руках и ногах гораздо более эффективное средство выразительности, чем в лице:
'...Мы
знаем, что руки выражают буквально все: происхождение, характер, здоровье,
профессию, отношение человека к явлениям; ноги - почти то же самое.
Лицо,
по существу, все выражает значительно скупее и бледнее, у него слишком узкий
диапазон работы, слишком мало выражающих комбинаций' (1:110). Отсутствие
'комбинаций' и 'узкий диапазон работы' - это отрицание возможностей лица именно
с точки зрения его механики - лоб или глаз не могут сворачиваться и
разворачиваться в та-
256
ком
пространственно-динамическом диапазоне, как рука и нога. Микродвижения мимики с
ее неисчерпаемым богатством, с точки зрения телесной механики, слишком
незначительны, чтобы принимать их в расчет.
Тем
не менее лицо занимает весьма значительное место в режиссерской практике
Кулешова, начиная со знаменитых фильмов без пленки. Некоторые сцены в них
строятся на навязчивом показе лиц натурщиков. Вот, например, фрагмент либретто
фильма без пленки 'Месть':
'12.
Лицо клерка.
13.
Лица двух.
14.
Лицо машинистки.
15.
Раскрытый шкаф. Клерк у шкафа.
16.
Лицо клерка.
17.
Лицо машинистки.
18.
Лица двух' (222).
Эти
характерные для Кулешова монтажные сюиты лиц, разумеется, противоречат
декларативному недоверию к лицу как органу выразительности. Как же все-таки
мыслит себе лицо в качестве такого органа Кулешов? Мне представляется, что
кулешовские лица можно разделить на две категории. Первую можно обозначить как
'лицо-маску', вторую - как 'лицо-машину'.
Начну
со второй категории, как наиболее полно выражающей утопию кулешовской
телесности. Лицо-машина - это такое лицо, которое вопреки своей анатомической
норме ведет себя по законам механизированного тела натурщика. Это, по существу,
лицо, превращенное в тело-машину. Это лицо, работающее по законам не
свойственной ему телесности, воспроизводящее в своем 'узком диапазоне' работу
рук и ног. Каждая составляющая такого лица превращается в свободный
механический орган. При этом свобода такого органа выражается в его полной
автономии от других 'органов' лицевой выразительности. Системность мимики
нарушается таким лицом, и на месте традиционной экспрессивной системности
возникает делёзовская псевдопричинность, случайная связь чисто поверхностных телесных
событий.
В
книге Кулешова 'Искусство кино' (1929) содержится характерное описание
функционирования лица-машины:
'С
большой осторожностью следует переходить на работу с лицом. Кинематограф не
терпит подчеркнутой, грубой работы лица; театральная техника для экрана
неприемлема, потому что радиус движений на сцене слишком велик. На экране самые
незаметные изменения лица выходят слишком грубыми - зритель не поверит в такую
игру Лицо тренируется рядом упражнений обязательно с учетом метрического и ритмического
времени работы. Лицо может изменяться от работы лба, бровей, глаз, носа,
257
щек,
губ, нижней челюсти. Лоб может быть нормален, приподнят, брови- то же самое,
глаза нормальны, закрыты, полуоткрыты, раскрыты, широко раскрыты, повернуты
вправо, влево, вверх, вниз. Нос может морщиться, щеки надуваться и втягиваться,
губы и рот - сжаты, открыты, полуоткрыты, приподняты (смех), опущены; нижняя
челюсть может быть энергично выставлена вперед, может сдвигаться вправо и
влево. В общем, для работы лица и всех сочленений человека очень полезна
система Дельсарта, но только как учет возможных изменений человеческого
механизма, а не как способ игры' (1:213-214).
Этот
кусок любопытен тем, что он начинается со стандартной для киномысли того
времени установки на табуирование грубых мимических движений на экране, а
кончается надувающимися щеками и карикатурными энергичными движениями нижней
челюсти вперед, вправо и влево. Удивительным образом сам Кулешов, вероятно, не
относил эту гротескную механику к области грубого мимирования. К этой
странности я еще вернусь.
Далее
Кулешов предлагает читателю 'примерный этюд' лицевых движений:
'I)
Лицо нормальное, 2) глаза прищурены, идут вправо, 3) пауза, 4) лоб и брови
нахмуриваются, 5) нижняя челюсть выдвигается вперед, 6) глаза резко
передвигаются вправо, 7) нижняя челюсть влево, 8) пауза, 9) лицо нормально, но
глаза остаются в предыдущем положении, 10) глаза широко открываются,
одновременно полуоткрывается рот и т. д.' (1: 214).
В
этой лицевой физкультуре очевидна ее совершенная психологическая
немотивированность. Лицо расщеплено на совершенно автономные части, которые
движутся по заданию режиссера как части некой машины, не имеющей никакого
смыслового задания. Перед нами не более чем упражнение на динамику механических
частей. То, что лицо-машина работает без всякого выразительного задания
психологического типа, можно подтвердить и следующим фактом. Кулешов особое
значение в механике лица уделял глазам. Это естественно, ведь глаза имеют
гораздо большую механическую свободу движений, чем, например, нос или щеки.
Глаза - самая механическая часть лица. Кулешов отмечал:
'Существует
много специальных упражнений для глаз; например, им очень трудно без толчков,
ровно передвигаться по горизонтальной линии вправо и влево; чтобы достигнуть плавного
движения, надо на вытянутой руке держать карандаш, все время смотреть на него и
водить им перед собой, параллельно полу. Такое упражнение быстро приучает глаз
плавно работать, что на экране выхо-
258
дит
гораздо лучше порывистых, рваных движений (если они, конечно, не нужны
специально)' (1: 214). Кулешов, по-видимому, придавал какое-то особое значение
этой технике плавного движения глаз. В 1921 году он просит выделить ему
небольшое количество пленки для регистрации теоретически наиболее важных для него
экспериментов, среди которых: 'Равномерное движение глаз натурщика' (134).
Это
упражнение демонстрирует несколько существенных моментов. Во-первых, идею
превращения глаза в руку. Движение глаза должно регулироваться не задачей
зрения, но движением руки, с которым оно синхронизируется. Тело (в виде руки)
проникает в поле зрения как объект зрения, но одновременно и как его регулятор.
В принципе моторика тесно связана со зрением. Каждая увиденная вещь в потенции
может быть 'присвоена', к ней можно приблизиться и взять рукой. В данном же
случае рука как бы опережает зрение и ведет его за собой. Но эта перевернутость
классической последовательности только усиливает возможную обратимость видимого
и видящего, заданную связью между рукой и глазом.
Морис
Мерло-Понти так сформулировал один из парадоксов, вытекающих из того, что
человеческое тело одновременно и видит и видимо:
'Поскольку
мое тело видимо и находится в движении, оно принадлежит к числу вещей,
оказывается одной из них, обладает такой же внутренней связностью и, как и
другие вещи, вплетено в мировую ткань. Однако, поскольку оно само видит и само
движется, оно образует из других вещей сферу вокруг себя, так что они
становятся его дополнением или продолжением' (Мерло-Понти 1992: 15).
Как
будет видно из дальнейшего, само отношение между лицом и телом в системе
Кулешова строится почти по схеме Мерло-Понти, когда тело становится как бы
дополнением лица, а невидимое лицо превращается в продолжение тела. Речь идет
об установлении зеркальной зыбкой реверсии между видящим и видимым.
Кроме
того, насильственное безостановочное движение глаза нарушает тот режим
субъективности, который исторически связан с системой линейной перспективы и
неподвижным, фиксированным местом субъекта в ней. По наблюдению Юбера Дамиша,
такая перспектива, хотя и принято идентифицировать ее с всевластным субъектом,
отнюдь не выражает отношения господства над миром. Отношения господства, по
мнению Дамиша, куда более отчетливо вписаны в панорамное движение глаза,
охватывающее все пространство, в которое он помещен:
'В
строго оптическом смысле слова перспектива не придает глазу никаких преимуществ
властвования, но, напротив, навязывает ему такие условия, в которых он
259
может
обладать абсолютно четким зрением лишь в непосредственной близости от центрального
луча, того единственного, который прямо, без всякого преломления, идет от глаза
к объекту' (Дамиш 1993:149). В кулешовском эксперименте парадоксально
сочетается панорамное движение глаза с его фиксацией (на карандаше). В
принципе, несмотря на безостановочное движение, а может быть, именно благодаря
ему, глаз видит только карандаш, то есть только объект, непосредственно
связанный с глазом. Боковое зрение здесь просто элиминировано.
Эти
отношения создают еще большее напряжение между глазом и предметом, между
видимым и видящим, ставя их буквально на край взаимотрансформации.
Гипнотическая привязанность глаза к объекту в какой-то момент производит
реверсию между субъектом и объектом, поражая субъекта слепотой. Превращение
глаза в своего рода протез руки было призвано механизировать движение глаза,
плавность смещения которого придает ему выраженный механический характер. Но
именно эта плавность движения глаза и ослепляет его. Ведь та прерывистость,
которую хочет изгнать Кулешов, задается 'нормальной' работой глаза,
останавливающегося в своих траекториях на некоторых точках, на объектах, с
которыми этот глаз вступает в контакт (прерывистость движения как будто членит
поле зрения на множество едва дифференцируемых друг от друга перспективных
систем). В этом смысле работа глаза регулируется тем вещным миром, который он
ощупывает. Механическая плавность движения делает глаз невидящим, не позволяет
ему задержаться на предмете, объекте зрения. Глаз функционирует как машина,
работающая по неким внутренним законам механики, никак не соотносимым с
процессом зрения и внешним миром.
И
наконец, еще один существенный момент, связанный с утопией плавно скользящего
взгляда. Такой взгляд относится не к человеческой анатомии, а к сфере
механического инструментального зрения. Глаз, движущийся плавно, без скачков, -
это кинокамера, чье движение, хотя и имитирует движение глаз человека, строится
как раз по принципу плавной механической траектории. Человеческий глаз у
Кулешова уподобляется кинокамере
Разумеется,
в своем идеальном виде лицо-машина так и осталось теоретической утопией, но
основные принципы этой утопии все же получили хотя бы частичное воплощение.
Виктор Шкловский в своей статье о Хохловой цитирует впечатления немецкого
театрального критика Пауля Шеффера, который в спектаклях кулешовской мастерской
(фильмах без пленки) отмечает принцип 'ритмизации мимического действия'
(Шкловский 1926: 14). Он же в игре Хохловой видит 'великолепную игру глаз,
неописуемую молниеносность взгляда' (Шкловский 1926: 15). Молниеносность
260
взгляда
- это движение глазного яблока без прерывистости и задержек. Кулешов активно
использовал этот навык Хохловой, в частности, в 'Приключениях мистера Веста'
(1924).
В
том же фильме имеются целые эпизоды, в которых мимическая 'работа' актеров
строится по принципу лица-машины. Это, например, эпизод суда над мистером
Вестом, где переодетые в гротескных большевиков бандиты пугают Веста
невероятной механикой своих лиц, вращая глазами, выдвигая челюсти, бешено
шевеля лбом и т. д. В этом эпизоде в серию машинообразных лиц включен странный,
ничем не мотивированный кадр, демонстрирующий обнаженный торс мужчины, то
надувающего, то втягивающего в себя живот. Эта фантастическая механика живота
по существу ничем не отличается от механики лиц Лицо и тело в этом эпизоде
работают совершенно в одном режиме и могут заменять друг друга. Тело становится
лицеобразным, лицо - теломорфным. То и другое - механическим.
Мимика
такого лица вряд ли может быть названа 'экспрессивной'. Движения лицевых мышц
здесь ничего не выражают, всякая связь с внутренней 'причиной' здесь прервана.
Если и искать причину, вызывающую такие странные лицевые конвульсии, то она,
конечно, находится вне тела - как рука, ответственная за движение глаз. Или,
вернее, где-то на переходе из внутреннего во внешнее - как та же рука,
принадлежащая видящему телу, но от него 'отделяющаяся', превращающаяся в
'видимое'. Импульс как бы приходит изнутри, но преобразившись во внешнее. Рука,
заставляющая двигаться глаз вслед за собой, разумеется, побуждаема волевым импульсом
изнутри, но странным образом отделяющимся от тела и возвращающимся к нему как
бы со стороны, как рука 'другого'.
Это
'овнешнение' внутреннего придает всей мимической системе отчетливо
диаграмматический характер. То, что некогда было знаком внутренних импульсов,
становится механическим продуктом лицевой машины, переводящей внутреннее во
взаимодействие энергий и сил.
2
Теперь
обратимся к другой модели, ко второму типа лица у Кулешова- 'лицу-маске'. В
отличие от лица-машины, лицо-маска специально не описано Кулешовым, оно не
стало предметом его теоретизирования. Интерес к маске возник в России еще в
десятые годы одновременно с ростом интереса к рационализации телесной
экспрессивности. Гордон Крэг, столь популярный в русских театральных кругах,
так мотивировал в 1908 году необходимость маски:
261
'Выражение
человеческого лица по большей части не имеет никакой ценности, и изучение
искусства театра убеждает меня в том, что было бы лучше, если бы на лице
исполнителя (при условии, что оно не скучное) появлялось вместо шестисот
всевозможных выражений только шесть' (Крэг 1988: 237).
Применительно
к кинематографу апология лица-маски характерна для многих теоретиков от Луи
Деллюка до Белы Балаша. Деллюк, рекомендовавший актерам 'создать себе гипсовое
лицо'2, не колеблясь советовал
использовать для этой цели кокаин:
'Порция
кокаина создает маску и придает глазам странную неподвижность, которую в кино
можно только приветствовать' (Деллюк 1985:52).
Между
прочим, соотечественник Деллюка Анри Мишо много лет спустя отмечал, что кокаин
трансформирует лицо в маску в восприятии зрителя, находящегося под воздействием
наркотика. Лицо как бы становится 'ясным', однозначным: 'В лицах не остается
ничего неясного. Они стали говорящими. Я открываю их' (Мишо 1967: 168). И это
открытие лица означает трансформацию физиогномики в некую картину
взаимодействия сил, потоков, напряжений. Мишо описывает проникновение за маску
именно как обнаружение взаимодействия сил.
Маску
в кино пропагандировал соратник Кулешова Валентин Туркин, который в своей книге
о киноактере перечислял классический набор актеров, чье мастерство постоянно
описывалось в категории маски: Чаплин, Аста Нильсен, Конрад Фейдт, Пауль
Вегенер, Вернер Краусс (Туркин 1925: 34-37).
Кулешов
посвятил специальную статью Конраду Фейдту, технику которого он традиционно
сравнивал с техникой Асты Нильсен Он утверждал, что лицо Фейдта
'сконструировано по всем правилам кинематографической
выразительности': 'кривая улыбка, черные зубы, огромный лоб с дрожащими жилами
нервного человека, исключительные для съемки глаза: светлые, стеклянные, почти
белые' (1:92).
Если
для лица-машины чрезвычайно существенно механически плавное движение глаз, то
для лица-маски - их неподвижность, белесость, стекловидность - то есть все то
же отсутствие зрения, слепота. Стекловидная белесость глаз входила в
определенный репертуар черт, считавшихся фотогеничными. Евгений Петров так
объяснял это явление в книге, которую Николай Фореггер назвал 'первой попыткой
конспекта элементарной кинограмоты' в области актерской игры (Фореггер 1926:
4):
'Наиболее фотогеничным будет такой предмет, кото-
______________
2 О концепции лица-маски у Деллюка см
Ямпольский 1993а 52-56
262
рый
отражает от себя сравнительно большее количество ультрафиолетовых лучей, по
цвету- является контрастом с окружающим его фоном, поверхность которого будет
(сравнительно) плотной, ибо лучше выходит предмет с плотной полированной
поверхностью, чем шероховатой (лучше отражает лучи). <...> Наиболее фотогеничным цветом глаз считается черный, но
в некоторых случаях он не достигает желаемого результата, и светлые глаза
производят больший эффект. Поэтому надо считать, что цвет глаз нужно подбирать
согласно с характером исполняемых ролей.
Главное в глазах не цвет, а их блеск, выражение'
(Петров 1926: 21-22).
Петров
приводит суждение, вплоть до сегодняшнего дня господствующее в фотографическом
портретировании. Экспрессивность взгляду придается бликом, то есть максимально
интенсивным отражением лучей от 'полированной поверхности'. Значение бликов
было хорошо известно и до изобретения фотографии. Китайский теоретик
портретирования начала XIX века Дин Гао так суммировал существо процедуры
'оживления' портрета:
'В
середине наметь зрачки, тут нужно удержать блики:
смотри:
наверху, посредине, внизу, по бокам, сталкиваются пять бликов, улови их все и
собери, чтобы создать насыщенное и пышное выражение' (Дин Гао 1971- 32-33). А
вот как формулирует Дин Гао существо 'глаз человека талантливого':
'Когда
эти глаза смотрят на тебя, они сияют пышным блеском; их блики должны быть тонки
и удлиненны. Передал верно - они сами собой будут в живом движении' (Дин Гао
1971:32)
Значение
бликов, обозначающих интенсивное отражение лучей от поверхности глаза, связано
с тем, что глаза являются знаками субъективности, а потому основным фактором, превращающим
лицо в лицо человека Только они обращены из тела человека вовне и прорывают
кожно-телесный покров как внешнюю границу организма. Лучи, отражающиеся от их
поверхности, физически зримо обозначают движение взгляда изнутри вовне. При
этом показательно, что эта 'устремленность' зависит от лучей, падающих на
поверхность глаза извне. Именно чисто внешний фактор ответственен за 'эффект
субъективности'. Блики на глазах превращают их в очаг 'метаболизма' между телом
и миром. Отсюда и отмеченный Дин Гао эффект 'движения' глаз, оживленных бликом.
Закрытие глаз метафорически обозначает превращение лица в 'вещь'.
Белая
стекловидность глаз Фейдта делает их совершенно особыми отражателями лучей. Они
отражают максимальное количество падающих на них лучей, но отсутствие темного
фона роговиц нару-
263
шает
'нормальный' баланс между поглощением и отражением света. В итоге возникает
эффект как бы блокировки взгляда, идущего изнутри (из глубины, из темноты),
взгляд оказывается целиком внешним событием. Он как бы полностью формируется
извне (эта игра отражения и поглощения отчасти и в иной форме напоминает игру
поглощения и извлечения голоса в технике дубляжа - см. главу 5). Глаза Фейдта
как бы лишь имитируют взгляд, испускаемый вовне. В итоге лицо Фейдта
превращается в маску, в лицо-вещь.
В
одном из важных ранних теоретических текстов Кулешов специально останавливается
на связях натурщика с вещью:
'...Наиболее
впечатляет не актер, а вещи. Забытая
перчатка в пустом зале, цветок, присланный любимой, брошенная шаль или кольцо,
снятые отдельно и вмонтированные в ряд сцен, производят определеннейшее
впечатление и 'играют' своим видом и психологическим значением так же, как и
натурщик. То есть значение натурщика и вещи в кино при умелом монтаже может
быть равноценно' (107).
Невидящий
взгляд - это первейшее средство превращения лица в маску, вещь, придания лицу телесности, которая и уподобляет лицо
вещи, натурщика- неодушевленному предмету Жан Эпштейн, особенно чувствительный
к 'физиогномике' предмета на крупном плане, специально отмечал по поводу
крупного плана глаза:
'Крупный
план глаза - это больше не глаз, это НЕКИЙ глаз: то есть миметическая
видимость, за которой вдруг возникает личность взгляда...' (Эпштейн 1988:107).
Именно предельное укрупнение глаза резко меняет его функцию, превращая глаз в
объект, тело, отрывая его от функции взгляда, делающего лицо лицом. Не случайно
Эпштейн не видит существенной разницы между крупным планом глаза и пистолета:
'А крупный план револьвера - это больше не револьвер, это персонаж-револьвер...'
(Эпштейн 1988: 107). Револьвер, напротив, будучи неодушевленной вещью, обращает
к зрителю подобие зрачка- дуло Персонаж-револьвер, по существу, то же самое,
что взгляд-личность, - нечто телесное,
не способное до конца воплотить в себе сущность взгляда, который никак не может
облечься в тело
Слепота
маски отражается на пластике актерского тела Известно, что в театре Но маски
почти ослепляли облаченных в них актеров:
'Глазные
щели в маске чрезвычайно малы, в лучшем случае они позволяют увидеть публику
задних рядов. Пол сцены (лишь весьма ограниченное пространство перед собой)
актер видит через глазные и небольшие ноздревые отверстия. Все, на что способен
исполнитель, начинающий выступать в маске, - не наталкиваться на других
актеров. В театре Но 'чувство сцены' имеет почти ту же
264
природу,
что и восприятие мира слепыми людьми. (Парадоксально, что маски слепых имеют
самые большие прорези для глаз!) Актер учится не только носить маску, но и
воспринимать в ней сцену и зрительный зал, поскольку, надевая ее, он иначе
ощущает сценическое пространство. Отключая зрение, человек острее чувствует,
что он пребывает в пространстве, в космосе и что он должен скоординировать свои
действия, чтобы пребывать в нем' (Анарина 1984: 127-128).
Слепота
заставляет тело обживать пространство, интериоризировать его в качестве некоего
места. Благодаря нарушенному зрению
тело как бы распространяется вовне, вписывает себя во внешние лабиринты. В
результате экспрессия тела пронизывается симбиозом с пространственными
объемами.
Находившийся
под сильным влиянием театра Но Уильям Батлер Йейтс в 1911 году обратился к
Гордону Крэгу с просьбой придумать маску Слепого для пьесы 'On Baile's Strand'.
Крэг сделал набросок странной сморщенной маски и прокомментировал его:
'Глаза
закрыты, они все еще очень сердиты, и я исхожу из того, что этот человек видит
носом. Я воображаю, что он вынюхивает свой путь в темноте, и кажется, что он,
не прекращая, свистит, вытянув рот вперед трубочкой' (Цит. по: Миллер
1977:165).
Гримаса
маски Слепого отмечает перенос ориентации с глаз на иные органы чувств, но
органы эти у Крэга, несмотря на их расположенность на лице, ведут себя не так,
как 'положено' лицу. Нос и рот вытягиваются подобно зачаточным рукам. Маска, в
силу одной только репрезентации слепоты, превращается в гротескную копию тела.
Собственно, искажающая ее гримаса - это признак не 'фациальности', но
телесности.
Может
быть, наиболее выразительно лицо-маска у Кулешова возникает в знаменитом
эксперименте с крупным планом Мозжухина. Для достижения монтажного эффекта было
сознательно выбрано маскообразное лицо актера. Пудовкин вспоминал: 'Мы нарочно
выбрали спокойное, ничего не выражающее лицо'3.
'Ничего
__________
3 Приведу каноническое описание
эксперимента, данное Пудовкиным: 'Мы взяли из какой-то картины снятое крупным
планом лицо известного русского актера Мозжухина Мы нарочно выбрали спокойное,
ничего не выражающее лицо В первой комбинации сейчас же за лицом Мозжухина
следовала тарелка супа, стоящая на столе Выходило, конечно, так, что Мозжухин
смотрит на этот суп Во второй комбинации лицо Мозжухина было склеено с гробом,
в котором лежит умершая женщина В третьей, наконец, за лицом следовала
маленькая девочка, играющая очень смешным игрушечным медведем Когда мы показали
все три комбинации неподготовленной публике, результат оказался потрясающим
Зрители восхищались тонкой игрой артиста Они отмечали его тяжелую задумчивость
над забытым супом. Трогались глубокой печалью глаз, смотрящих на покойницу, и
восторгались легкой улыбкой, с которой он любовался играющей девочкой'
(Пудовкин 1974 182)
265
не
выражающее лицо' - это маска, которая еще не стала лицом в прямом смысле слова,
потому что родовой чертой лица как лица является именно его способность выражать. Это лицо-маска, сквозь которую
еще должно проступить 'лицо-выражение'. Делёз и Гваттари окрестили такое
лицо-маску 'абстрактной машиной лицеобразования' (machine abstraite de
visageite) и отметили, что именно из этой абстрактной машины 'рождаются
конкретные лица' (Делёз - Гваттари 1987: 168; см. главу 2). Согласно Делёзу -
Гваттари, абстрактная машина лица-маски состоит из черной дыры взгляда
(субъективности) и белой стены лицевой поверхности, своего рода экрана. Такое
лицо как будто скрывает в себе модель кинопроекции с остекленевшим взглядом
глаза-камеры и белым экраном. Монтажный опыт Кулешова с лицом Мозжухина и
демонстрирует, каким образом от соположения с изображениями объектов (тарелки
супа, мертвой женщины и т. д.) на экран лица-маски проецируется конкретное
лицо-выражение. Эксперимент с Мозжухиным может быть описан через модель
'абстрактной машины лицеобразования', работающей на основе маски.
Проступание
лица-выражения сквозь лицо-маску, иными словами рождение конкретного лица в
монтаже, связано у Кулешова с процессом превращения лица в тело, в инертный, вещный,
отчужденный от внутренней выразительности объект. Рождение конкретного лица
совершенно не связано у него с идеей некоего проступания смыслов (души) изнутри
на телесную поверхность, оно не связано с классической идеей выразительности -
экс-прессии - как некоего давления изнутри наружу. Кулешов писал:
'...Выражение
какого-либо чувства натурщиков в пределах одной сцены меняется (на экране, а не
во время 'игры' его перед съемочным аппаратом) в зависимости от того, с какой
сменой этот кусок монтируется. <...> Подобный закон наблюдается в театре,
который, правда, выражается в совершенно других моментах. Если мы наденем на
актера маску и заставим его принять печальную позу, то и маска будет выражать
печаль, если же актер примет радостную позу, то нам будет казаться, что маска
радостна'(160).
В
этом рассуждении нужно отметить два момента. Первый - лицо-маска в монтажном
ряду уподобляется маске на теле актера. Таким образом, монтажное окружение
крупного плана натурщика превращается в своего рода тело или, во всяком случае,
функционирует так же как тело. Второй - лицо-маска получает свое значение от
тела, оно как бы изживает в себе все лицевое и служит для растворения лица в
том теле, которое его продолжает. Маска превращается в часть тела. Тело
обладает той механической подвижностью, о которой мы уже говорили, и проецирует
выразительность этой подвижности на статичное лицо-маску. Лицо становится
отростком, органом тела. Можно выразить происходящее и иначе - тело при-
266
обретает
'черты лица', лицо становится телом, между ними происходит обмен (С. Вермель, обыгрывая эту ситуацию обмена, назвал маску
'позой лица' [Вермель 1923. 23]). Делёз и Гваттари отмечали это явление,
обозначенное ими, как 'фациализация тела', например, в изображениях
стигматизации святого Франциска, когда раны, открывающиеся на руках святого,
как бы 'фациализируют' его тело, прорезают в нем глаза. То же происходит и с
нашей одеждой, на которой пуговицы, например, открывают 'глаза', проецируя на
тело выразительность лица (Делёз - Гваттари 1987- 178-181). По мнению
французских теоретиков, означающее может быть спроецировано на тело, только
подвергшееся предварительной фациализации. Однако, как показывает, например,
античный миф о Баубо, лицо всегда фациализировано (например, соски на груди
всегда выступают в качестве потенциальных 'глаз' тела.- Фрейд 1963-Деверё 1983)
Любопытно,
что опыты 'фациализации' тела с помощью лица-маски, которые интересовали
Кулешова, независимо от него и в ином ключе проделывал немецкий актер Вернер
Краусс. Карл Цукмайер вспоминал, что Краусс ненавидел мимическую игру и мечтал
воздействовать на зрителей с помощью маски. Однажды Цукмайер принес Крауссу
маску призрака, которая хранилась у него на чердаке Краусс надел ее и затем с
помощью коротких монологов и жестикуляции рук вызывал у присутствующих
отчетливое впечатление, что маска плачет и смеется (Целлер 1976. 292-293). В
1923 году Фридрих Зибург в статье 'Магия тела' посвятил специальный фрагмент
актерской технике Краусса, где, в частности, замечал.
'Его
телесная интенсивность так велика, что, когда он не располагает в качестве
строительного материала словом, вся его сила устремляется в члены его тела, где
она стремится обрести чисто пантомимическую магию лица' (Зибург1984 424).
Зибург
пишет о магическом превращении в такие моменты всего тела в маску
Трансформация
тела Краусса хорошо вписывается в ситуацию 'обмена' между лицом и телом. Речь
идет именно не просто о проекции телесного на лицевое, но об обмене Жак Копо,
французский далькрозианец и уже в силу одного этого режиссер близкий по своим
установкам Кулешову, использовал маски в основном не для подавления
иррациональной мимики лица, но для раскрепощения тела актера-
'Для
того чтобы раскрепостить людей в моей Школе, я надевал на них маски. И я мог
мгновенно увидеть изменения в молодом актере. Понимаете ли, лицо для нас
мучительно- маска спасает наше достоинство, нашу свободу. Маска предохраняет
нашу душу от гримас А потом, в силу целого ряда последствий, человек в маске
остро чувствует имеющиеся у него возможности телесной экспрес-
267
сивности.
Дело зашло так далеко, что таким образом я вылечил молодого человека,
парализованного удручающей застенчивостью' (Копо 1990: 50-51). По мнению Копо,
раскрепощение тела возможно только через элиминацию мимики. Мимика блокирует
телесную динамику, потому что она оказывается текстом, интерпретирующим ее в
психологических кодах. Именно обнаженное лицо способно 'сместить' интерпретацию
механически движущегося тела из сферы пластического совершенства в область,
например, нелепой неадекватности. Пока не 'уничтожено' лицо, тело не обретет
свободу.
Установка
на маску заставляет тело брать на себя функцию лица, а лицо превращает в тело.
Датский режиссер Урбан Гад, анализируя игру Асты Нильсен (классической актрисы
с лицом-маской), указывал, что само превращение лица в маску производится
благодаря кинематографической технике крупного плана. Это превращение обладает
своей логикой Кинообъектив, обыкновенно описывавшийся как инструмент
сверхобъективного зрения, как будто проецирует свою силу 'объективирования' на
снимаемое им лицо. Оптика объективирует лицо, придавая ему характер маски. Гад
писал:
'Но
главное - это то, что фильм показывает самую незначительную особенность лица
или фигуры в очень усиленном виде. Небольшая округлость ноги изгибает ее,
превращая в саблю, нос с небольшой горбинкой становится крюком. Относительно
большое расстояние между носом и ртом превращается в фильме в настоящую
пустыню, скошенный подбородок создает попугайный профиль. < ...> Можно
подумать, что в камере имеется линза, выточенная из андерсеновского волшебного
зеркала' (Гад 1921:136).
'Объективация'
лица, как уже указывалось, сопровождается 'фациализацией' тела. Такая
трансформация по сути диаграмматична Никакой 'экспрессивности' в такой ситуации
не возникает, возникает иллюзия экспрессивности, симуляция Но симуляция эта
действует так, что результат проекций (например, лица на тело) прочитывается
как экспрессивность Диаграмма в данном
случае выдает себя за означающее. Весь процесс может быть понят как своего
рода 'зазеркаливание' лица и тела. Происходит нечто подобное генезису уродов
через воображаемое зеркало, пронизывающее тело (см. главу 6) Тело как бы
расщепляется надвое, на взаимоотраженные и взаимокопирующие 'собственно тело' и
'лицо'.
Балаш
описывает исполнение Астой Нильсен роли Гамлета в эпизоде встречи Гамлета с
Фортинбрасом:
'Крупный
план лица Асты Нильсен. Она смотрит на Фортинбраса, не узнавая его, пустыми
непонимающими глазами Ее губы в бессмысленной гримасе смеха подражают
приближающемуся королю. Лицо Фортинбраса отражается в ее лице как в зеркале.
Она как бы фотографи-
268
рует
лицо, ныряет в его глубины, возвращается назад, и смех, который был лишь извне
отпечатанной маской, постепенно изнутри теплеет и становится живым выражением
лица. В этом заключается все ее искусство' (Балаш 1982:140-141).
Рождение
конкретного лица, так же как и в эксперименте с Мозжухиным, происходит за счет
отражения в маске ('абстрактной машине лицеобразования') чужого тела. Отрывок
Балаша интересен тем, что зеркальность функционирования маски здесь
непосредственно описывается как киносъемка. Не просто лицо превращается в маску
под воздействием 'объективного' взгляда камеры, но сама маска становится
камерой. 'Пустые, непонимающие глаза', с которыми мы уже сталкивались,
становятся глазом камеры, чья объективность выражается в ее 'слепоте'.
Подавление прерывистости движения глаза, его дискретности окончательно
связывается с объективностью зрения. Объективность зрения - с вещей слепотой
машины.
Взгляд
не просто синхронизируется с движением руки, через эту синхронизацию он
начинает как бы ощупывать мир (в отличие от 'нормального' глаза, который
основывает сканирование на системе точек- остановок-уколов). Через это
ощупывание в иконическом как будто открывается индексальное измерение, непосредственная
физическая связь между репрезентацией и ее объектом. Маска в этом режиме
восприятия как будто становится слепком с ощупываемого глазом объекта,
приобретает отпечаток чужой телесности4 (см.
главу 6).
В
10-20-е годы маска все чаще начинает ассоциироваться с выражением сущности, а
лицо - с ложью. По видимости, такой подход кажется парадоксальным, но за ним
стоит своеобразная логика. Маска соприродна сущности - потому что объективно ее
отражает. Она онтологична. В 1915 году Карл Эйнштейн опубликовал небольшую
книжку 'Негритянская пластика', оказавшую большое влияние на европейское
понимание маски. Эйнштейн отталкивался от анализа татуированного тела как тела,
потерявшего интимный характер и приобретшего своеобразную объективность.
Эйнштейн называл татуировку актом 'самообъективации' тела. Через этот акт
африканец усиливает в себе элементы 'типического', претерпевает превращение в
другого, в том числе и в природный феномен - реку, например. И это
преобразование проецируется на тело извне и не имеет ничего общего с внутренней
трансформацией. Маска, как и татуировка, служит той же цели, она
'объективирует' человека в род, которому он принадлежит, превращает его в
божество. 'Вот почему маска, - замечал Эйнштейн, - имеет смысл только тогда,
когда она
_________
4 Ср. с утверждением Тьерри де Дюва:
'До фотографии и ее производных (кино, телевидения) лишь муляж был способен
производить индексальные иконы и порождать репрезентацию как каузальную
категорию' (Де Дюв 1987: 14).
269
нечеловечна,
безлична' (Эйнштейн 1989: 173). Но это превращение в род или божество и есть
приближение к сущности. В таком контексте лицо и скрывающаяся за ним
'личность', разумеется, выступают как лживость.
Лицо-маска
и лицо-машина у Кулешова лишь по видимости противоположны друг другу. И то и
другое действуют против лица-выражения, лица-личности. И то и другое
устанавливают тесную связь между лицом и телом. Лицо-машина действует по
законам тела, в то время как лицо-маска, сохраняя неподвижность, рефлексивно,
зеркально отражает движения тела. Монтаж служит этой механической
рефлексивности, превращающей и лицо-машину и лицо-маску в метафорические
кинематографические машины.
Любопытно,
что Эйзенштейн в 1929 году в статье 'За кадром' попытался представить актерские
портреты Сяраку и маску театра Но как модели кинематографического монтажа.
'Чудовищная' диспропорция частей лица и несообразно большое расстояние между
ними у Сяраку и в японской театральной маске, по мнению Эйзенштейна, - просто
перенос в единовременность того, что в кино растянуто во временную цепочку:
'И
не то же ли мы делаем во времени, как он [Сяраку] в единовремени, вызывая
чудовищную диспропорцию частей нормально протекающего события, когда мы
внезапно членим на "крупно схватывающие руки", "средние планы
борьбы" и "совсем крупные вытаращенные глаза", делая монтажную
разбивку события на планы?!' (Эйзенштейн 1964:287).
Диспропорциональность
маски оказывается диаграмматической записью временных промежутков,
последовательности разнородных частей. Маска становится в таком понимании диаграммой
процесса, записью восприятия, реакции, движения времени. В каком-то смысле она
вписывает в свои деформации не только соотнесенное с ней тело, но и присутствие
противостоящего ей кинозрителя.
Эти
метафорические киномашины, эти чувствительные, зеркальные маски являются
антропологической утопией, которую Кулешов проецировал на своих учеников и
сотрудников. Кулешов описывал их как неких особых 'футуристических' 'чудовищ',
людей, лишенных обычных человеческих лиц:
'Нам
нужны необыкновенные люди, нам нужны "чудовища", как говорит один из
первых киноработников Ахрамович-Ашмарин. "Чудовища"- люди, которые
сумели бы воспитать свое тело в планах точного изучения его механической
конструкции. <...> И такова наша молодая, крепкая, закаленная и
"чудовищная" армия механических людей, экспериментальная группа
учеников Государственного института кинематографии' (1: 90-91).
270
Человек
без лица - воплощение рода, бога - такое же чудовище, как животное, наделенное
лицом. Мишель Приёр заметил:
'Если
бы животное в своей индивидуальной узнаваемости было опознаваемо по голове,
выделяясь через лицо из своего стада, оно перестало бы быть членом своего рода,
чтобы стать священным животным. Сакрализация животных сопровождалась своего
рода антропоморфным лицеобразованием, накладывающимся на его голову и придающим
ему тератологический статус по отношению к роду, чьим анонимным и
неидентифицируемым представителем оно бы было без этого фантастического
преобразования' (Приёр 1982: 316).
Своеобразие
лишенного лица животного заключается в том, что природное, биологическое здесь
выступает как родовое, как нечто включенное в категорию, в разряд. Природное
здесь выступает, вполне в духе Карла Эйнштейна, как маска. Человек же,
отказываясь от лица во имя маски, напротив, отрицает свою связь с природным,
хаотическим, вписывается в рациональный организм рода, используя выражение
Кулешова, в 'армию'.
Кулешовское
человеческое чудовище, меняющее лицо-машину на лицо-маску, имеет аналога в еще
одном 'монстре', изобретенном XIX веком, - в истеричке. Интерес к истерии не
случайно совпадает с волной интереса к физиогномике. Истеричка проникает в
культуру XIX века как своего рода механический человек, на котором задолго до
конструктивистских утопий моделируется утопия экспрессивных сверхмарионеток.
Жан-Мартен
Шарко, создавший медицинский канон в диагностике и лечении истерии, придавал
особое значение открытой им возможности искусственно вызывать истерические
состояния под гипнозом. Лекции Шарко, собиравшие толпы любопытных, строились
вокруг этих искусственно вызываемых гипнотических состояний, превращенных в
настоящий 'театр', а по выражению Акселя Мунте, в 'абсурдный фарс' истерии
(Мунте 1957: 302)5. Одним из открытий
Шарко, сделанных им на 'механическом' теле загипнотизированной истерички, была
способность пациенток отвечать на любое задаваемое врачом положение тела
изменением мимики лица. Мимирование истеричек происходило без всякого
сознательного их участия. Лицо-маска истерички превращается под воздействием
Шарко и его ассистентов в лицо-машину.
Сотрудник
Шарко Легран дю Солль так описывает этот процесс:
'Положение
члена так тесно связывается с соответствующим выражением лица на основе
привычки, что в каталептическом сне с легкостью и совершенно автомати-
________
5 Мунте дает запоминающуюся картину
клиники Сальпетриер как настоящего цирка Шарко, где истеричек гипнотизируют
направо и налево, а они глотают уголь, изображают самые немыслимые пантомимы и
т. д.
271
чески
формируется большинство тех мускульных сокращений, которые выражают наши
интимные чувства, стоит придать членам соответствующее положение.
Так,
больная начинает улыбаться, когда к ее губам подносят пальцы, обращенные к ней
внутренней стороной; ее лицо становится угрожающим, когда вытягивают вперед ее
руку, сжатую в кулак <...>. Все эти движения лица выполняются спонтанно,
без участия воли или сознания пациентки. Речь идет о совершенно автоматическом
поведении <...>, больная действует машинально, как настоящий автомат, в
тот момент когда приданные ей выражение или движение вызывают активность
системы нервных клеток, отвечающих за данные действия' (Легран дю Солль
1893:187-188).
Истеричка
у Шарко работает совершенно иначе, чем классический актер психологической
школы, чья мимика обыкновенно считается отражением его внутреннего состояния6. Она выражает страсти, не имеющие никакого
отношения к ее внутреннему состоянию и даже недоступные ее сознанию. Шарко
объяснял систему этих механических, чисто рефлекторных движений тем, что они
осуществляются на фоне 'спящего' ego
и затрагивают лишь чрезвычайно узкий спектр изолированных от психической сферы
в широком смысле нервных центров. Центры эти Шарко не относил к коре головного
мозга, а скорее к области спинного мозга и называл связанные с ними ощущения
'мышечным чувством':
'В
подобном каталептическом состоянии в большинстве случаев мы имеем единственную
возможность вступить в отношения с таким образом загипнотизированным человеком:
через мышечное чувство. Только жест
или поза, которую мы придаем субъекту, сообщают ему об идее, которую мы хотим
ему передать. Например, сжимая его кулаки, мы видим, как голова его отклоняется
назад, а лоб, брови и основание носа морщатся в угрожающем выражении' (Шарко
1991:291).
Полнейшая
'изоляция', по выражению Шарко, таких реакций от мира ego отчуждает экспрессивность лица от 'мира души'. Мимика истерички
воспроизводит лишь некую память мышц, 'мышечное чувство' и является поэтому
чисто механическим, мускульным отражением движения тела. И хотя в эти
рефлекторные отражения как бы вписана мышечная память, предшествующий экспрессивный
опыт, они все же почти целиком относятся к моторным автоматизмам. По существу
своему они - амнезичны.
Если
представить мимику в качестве означающего, то ее означаемым будет не 'темная'
область психики, а 'ясная' механическая
_________
6 Я, разумеется, несколько упрощаю.
Джозеф Роч, например, показал, до какой степени история актерской техники
вплоть до Станиславского пронизана идеями механики и 'рефлексологии'. См Роч
1993
272
сфера
оторванной от психики телесности. Знаменитый эксперт по гипнозу доктор Ипполит
Бернхайм утверждал, например, что гипнотизм, провоцирующий состояние
каталепсии, является актом чистого внушения. Фрейд, переведший на немецкий
книгу Бернхайма, так суммировал его доктрину в своем предисловии к переводу:
'...Доктор
Бернхайм утверждает на этих страницах, что все явления гипнотизма имеют одно и
то же происхождение: они возникают из внушения, сознательной идеи, которая была
введена в мозг гипнотизируемого через внешнее влияние и была принята им, как
если бы она возникла спонтанно' (Фрейд 1963д: 30).
Таким
образом, экспрессивная моторика загипнотизированной истерички лишь превращает
чисто 'внешнее' в иллюзорно 'внутреннее'. 'Внутреннего', однако, в
действительности не существует вовсе. Этот акцент на чисто внешнюю стимуляцию
связывает понимание истерички с многовековой философской проблематикой машины,
которая не может функционировать без внешней причины, а потому как модель
человека предполагает наличие Бога (см. Кангилем 1992). Фрейд приложил немалые
усилия, чтобы доказать, что 'внушение не может произвести ничего такого, что бы
не содержалось в сознании или не было в него введено' (Фрейд 1963д: 33).
Лицо
'классической' истерички увязывается со всем телесным механизмом, становясь его
неотъемлемой частью. Такое изменение знаковой функции мимики меняет и ее
механику. Лицо истерички принимает гораздо более отчетливые и неестественные
масочные выражения, которые лишь условно могут быть соотнесены с определенным
психическим состоянием. Эта 'неадекватность' выражения может быть связана с
тем, что Фрейд определял как 'незнание' истерией анатомии нервной системы.
Вслед за Жане Фрейд заметил, что в истерические параличи вовлечены не столько
реальные анатомические части тела, сколько общераспространенные идеи органов
тела:
'Она
[истерия] касается органов в соответствии с общим, популярным значением их
имен: нога - это нога до ее перехода в бедро, рука - это член, расположенный
наверху и очерченный в соответствии с формой нашей одежды' (Фрейд 19б3е: 61).
Этот
факт позволял Фрейду понять телесные симптомы истеричек в терминах ассоциации
идей. В нашем контексте он имеет несколько иное значение. Он отчасти объясняет
'неорганичность' истерической моторики и экспрессивности. Но он же в какой-то
мере показывает и ограниченность чисто механической утопии движения тела. Даже
в самых крайних случаях механизации движения тела мы сталкиваемся с неким
'концептуальным' пониманием его органов. В этом смысле плавное движение глаз,
например, будучи поверхностно механическим, в действительности является 'концептуальным'.
Оно лишь концептуально имитирует представления о
273
механическом
движении при полной несогласованности с подлинно анатомической механикой
глазного яблока.
Телесность
истеричек в большой степени повлияла на театр немецкого экспрессионизма,
выработавший особый конвульсивный тип поведения актера, далекий от рациональной
ритмизации и машинизации тела. Франк Ведекинд, например, сознательно
ориентировавшийся на тип гипнотического поведения, поражал зрителей серией
конвульсий, проходивших по его телу и глубоко деформировавших его природную
органику. Характерно, что в практике экспрессионистского театра большое
значение играла маска (Гордон 1975). Телесность немецкого экспрессионистского
театра как будто заражена 'концептуальностью' истерического движения.
Знаменитым
образцом истерического перформанса были выступления танцовщицы Мадлен,
появившейся в Мюнхене в 1903 году и бесследно исчезнувшей после 1912 года.
Мадлен выходила на сцену с гипнотизером, который вводил ее в транс. Ее танец в
состоянии транса претендовал на то, чтобы быть одновременно спонтанным
самопроявлением ее тела и продуктом внушения гипнотизера (см. об аналогичной
ситуации с Лои Фуллер в главе 8).
Театральный
критик и врач доктор Сайф (S. Seif) так описывал выступление Мадлен в Мюнхене в
1905 году:
'Мадлен
появляется спокойная и ловкая. Однако с того момента, как неподвижный взгляд и
жесты Магнина погружают ее в транс, она впадает в странное состояние, и с ней
происходит полная перемена. Черты ее лица становятся неподвижными, глаза
начинают косить. Ряд очень странных, необычных поз, придаваемых ее членам
экспериментатором, выдают почти полную и лишь слегка изменяющуюся ригидность,
характерную для гипнотической каталепсии. Такого состояния нельзя добиться
одной лишь имитацией.
Вдруг,
при звуках музыки, новое и поразительное изменение происходит во всем облике
Мадлен. Черты ее лица оживают. Мадлен встает и сопровождает музыку и
выкрикиваемые пожелания жестами и пантомимическими выражениями, говорящими о
грусти, блаженстве, восторге, ярости - то есть обо всех эмоциях, - при этом
говорящими весьма точным образом и в соответствии с высотой, громкостью,
окраской звука, интервалами и ритмом. Если же музыка вдруг прерывается, вновь
возвращается каталепсия: последнее движение как будто замерзает' (Маркс 1978:
30).
Поведение
Мадлен на сцене отражает одну существенную особенность истерической телесности.
После того как движение члена прекращалось или приостанавливалось воздействие
электростимуляции на мимические мышцы лица, больная на длительное время сохраняла
без изменений свою псевдоэкспрессивную маску ('за-
274
мерзающее
движение' из рецензии Сайфа). Эту застывшую истеричку Шарко называл
'экспрессивной статуей' и замечал:
'Неподвижность
полученных таким образом поз исключительно благоприятна для фотографического
воспроизведения' (Цит. по: Диди-Юберман 1982:198). Эти благоприятные
обстоятельства Шарко использовал более чем широко, создав впечатляющую
фотографическую иконографию Сальпетриер.
Лицо-маска
истерички оказывается не просто экраном, но живой фотографией, некой
метафорической эмульсией, на которой отпечатываются выражение лица, поза.
Истеричка действует как фотографический аппарат. В этих застывших экспрессивных
позах лицо-маска и лицо-машина объединяются воедино в странном симбиозе.
Псевдомеханическое тело обнаруживает тесную связь между ними. Связь эта прежде
всего возникает благодаря периоду 'потерянного времени' в работе телесной
машины, описанному Гельмгольцем. Гельмгольц измерил время между возникновением
иннервации и сокращением мышцы, время передачи нервного импульса, во время
которого мускул сохраняет пассивность. Это 'потерянное время' всегда вписано в
работу любого живого механизма7, а по
мнению последователя Гельмгольца и одного из создателей хронофотографии Этьена
Марея, это время, 'состоящее в отношении между длительностью и тратой энергии,
<...> является фундаментальным компонентом экономики тела. Время,
расходуемое на любую деятельность, или время реакции - это функция внутренних
законов энергии и движения, присущих телу' (Рабинбах 1990:93).
Фотографирование,
также основанное на 'времени реакции' или 'потерянном времени', вступает, таким
образом, в отношения органической связи с телом-машиной и лицом-маской.
Согласно справедливому наблюдению Хиллеля Шварца, пластика 'идеального' телесного
поведения оказывается в прямой зависимости от типа регистрирующей его
технологии. Она меняется от 'живой картины' к 'современному танцу' вместе с
развитием фотографии, а затем и появлением кинематографии (Шварц 1992:
100-101). Экспрессивность человеческого тела в таком контексте действительно
зависит от некой механической диаграмматической машины, детерминирующей его
динамику.
Лицо
истерички сохраняет все свойства лишенной выразительности маски, ее статичность
и пустоту, и одновременно отмечено энергичным отпечатком механического
мускульного движения
________
7 Ср. с требованием Копо принимать в
расчет это 'потерянное время' как момент особой 'негативной' экспрессивности:
'И время между каждым положением
должно быть хорошо учтено (мускульное время, как в чисто акробатических
упражнениях)' (Копо 1990: 34).
275
лица-машины.
Механика лица-машины здесь как бы преобразуется в серию фаз-масок. Речь как бы
идет о фотографировании движущейся машины, которая может быть остановлена в
любой момент своего движения.
Показательно,
что в 1922 году Кулешов начинает регулярно фотографировать своих натурщиков.
Хохлова вспоминала:
'В
это время Кулешов начал снимать актеров мастерской у себя дома на фото. Он
снимал нас в разных этюдах, в разных ракурсах, в разном освещении. Из этих
фотографий был составлен альбом, который он называл "прейскурант
мастерской", демонстрирующий ассортимент наших актерских возможностей'
(150).
Среди
фотографий натурщиков значительное место занимают изображения гримас,
подчеркнутых до гротеска мимических движений лица. Эти фотографии имеют мало
общего с традиционными изображениями актеров в роли, как правило,
акцентирующими экспрессивность мимики. Перед нами скорее 'экспрессивные статуи'
Шарко, демонстрирующие пиковые фазы лицевой механики, возможности мускульного
механизма лица. При всех поправках и отличиях, иконография натурщиков Кулешова
лежит в той же плоскости, что иконография истеричек Шарко.
И
это неудивительно: за фотографиями французского психиатра и советского
режиссера стоит во многом сходная идеология. Такое утверждение может показаться
странным, особенно если принять в расчет то, что 'новый' человек советской
утопии - это сверхрациональное существо, способное к тотальному сознательному
контролю своего поведения, в то время как истеричка ~ не более чем
бессознательный автомат, управляемый извне. Но эта противоположность на деле
оказывается куда менее фундаментальной. Сверхрационализация конструктивистского
человека осуществляется за счет элиминации того темного психического
образования, которое называется 'душой'. Поведение человека отчуждается от
любой случайности, любой непредсказуемости, от связи с психологическим
мистицизмом. Новый человек советской утопии призван управлять собой как другим,
тем самым превращая свое тело в некое подобие марионетки. При этом разум,
управляющий телом как механическим агрегатом, приобретает некий безличный
характер, он становится разумом 'другого'. Осуществляется как бы уже знакомое
нам раздвоение, столь характерное для ситуации истерички, традиционно описывавшейся
в терминах 'диссоциации'. Странным образом натурщик как бы объединяет в себе и
волю врача и тело пациентки, поскольку и разум и тело выступают в нем как разум
и тело другого.
Конструктивистский
принцип уравнивания тела с механизмом неожиданным образом перекликается не
только с картезианством, но и с определенным типом психозов, которые начинают
привлекать внимание психиатров и психоаналитиков в конце XIX - нача-
276
ле
XX века. Психоанализ как будто открывает конструктивистского человека в
параноике и шизофренике почти одновременно с теоретиками и практиками
искусства.
В
ранних 'Исследованиях истерии' Фрейд и Брейер уже описывали этиологию истерии
через метафору
'чужого
тела, которое долгое время спустя после проникновения [в живую ткань] все еще
продолжает быть работающим агентом' (Фрейд - Брейер 1983:57). Механика истерии
оказывается действительно сходной с механикой картезианского автомата,
приводимого в действие извне, 'чужим телом'.
В
1911 году Фрейд обратился к анализу болезни Даниэля Пауля Шребера, параноика,
считавшего, что Бог с помощью нервов-проводов-лучей лишает его воли и руководит
его действиями. Провода-лучи машины-Бога превращают Шребера также в своего рода
машину. 'Влияющая машина' становится объектом рассмотрения ученика Фрейда Виктора
Тауска, опубликовавшего в 1919 году свое исследование. Именно в это время
Кулешов приступает к своим первым экспериментам. Тауск описывает случаи
шизофрении, при которых пациенты считают, что на них влияет некая машина,
лишающая их воли и самих их превращающая в механических кукол. Любопытно, что в
эссе Тауска 'влияющая машина' описывается как кинематограф:
'...Эта
машина - обычно волшебный фонарь или кинематограф <...>. Она производит
или уничтожает мысли и чувства с помощью волн и лучей или таинственных сил,
которые не могут быть объяснены на основании познаний пациента в физике. В
подобных случаях машина часто называется "аппаратом внушения". Ее
конструкция не может быть объяснена, но ее функция состоит в том, чтобы
передавать или "выкачивать" мысли или чувства <...>. Она
производит моторные движения в теле' (Тауск 1988: 50).
Тела,
подверженные воздействию 'влияющей машины', сами становятся похожими на нее,
симулякрами этой машины. Шизофреническая машина Тауска, воплощенная в
кинематографе, действительно воздействует на тело. Лицо-машина и лицо-маска
натурщиков Кулешова, работая как камера и экран, неожиданным образом
воспроизводят работу кинематографа. Истеричка Шарко преображается в
светочувствительную пластинку. Невротик, как и конструктивистский натурщик,
оказываются в сфере воздействия 'влияющей машины' кинематографа. Изобретение
кино, изобретение истерии и психоанализа вырабатывают новый антропологический
миф, который, обогатившись новыми эстетическими идеями, отражается в утопии
механического 'чудовища' Кулешова.
Глава 8. ТАНЕЦ И МИМЕСИС
1. Фильм Патэ
Тело
актера может быть 'аналогом' самых разных машин. Но оно может быть
смоделировано и по типу некоего физического процесса, заключающего в себе
своеобразный репрезентативный механизм. Среди репрезентативных техник,
введенных в оборот в 90-х годах прошлого века, кино сегодня представляется едва
ли не самым существенным. Одновременно с ним, однако, появились на свет иные
визуальные машины, позволяющие регистрировать вновь открытые невидимые глазу
излучения- рентген (открыт в 1895 г.) и радиацию (серия открытий, начиная с
опытов Беккереля в 1894 году и открытия радия супругами Кюри в 1898-м). На
столь впечатляющем фоне реформа танца, произведенная молодой американкой Лои
Фуллер, кажется совсем незначительной. Фуллер придумала свой 'серпантинный'
танец в 1891 году и в 1892 году показала его с оглушительным успехом в Париже.
Помимо прочего эксперименты Фуллер представляют особый интерес еще и потому,
что они сознательно соотносят тело американской танцовщицы с различными
репрезентативными машинами своего времени.
Кинематограф,
едва родившись, начал искать способ для регистрации рентгенограмм; рентген одно
время конкурировал с ним в балаганах (Ремси 1983; Цивьян 1992). Почти
одновременно появились первые фильмы, запечатлевающие последовательниц (или
эпигонов) Лои Фуллер. Связь между рентгеном и серпантинным танцем, едва ли
очевидная для сегодняшнего наблюдателя, была для современников, вероятно, менее
призрачной.
К.
В. Серам упоминает два ранних 'документальных' фильма, зафиксировавших
серпантинный танец. Один был снят Максом Складановским в 1896 году и показывал
госпожу Ансион, второй был изготовлен в том же году фирмой Эдисона и назывался
'Анабель, танцовщица'; он изображал Анабель Уитфорд Мур (Серам 1966: ил.
210-211). Фильм Эдисона был показан в Koster and Bial's Music Hall в Нью-Йорке
23 апреля 1896 г. в связи с первой проекцией фильмов эдисоновского кинетоскопа
с помощью витаскопа (vitascope) Томаса Армата.
Странным
образом сама Лои Фуллер, несмотря на свою славу, не сохранилась в ранних
киноизображениях. До нас дошел ее танец, зафиксированный в короткой ленте
производства Патэ (1906?). Ти-
278
пичный
маленький фильм Патэ этого времени1.
Он начинается с того, что на фоне рисованного задника появляется кукла летучей
мыши, выделывающей в воздухе пируэты. Она на мгновение садится на невысокую
балюстраду и 'превращается' в Лои Фуллер, вылетающую из-за балюстрады в широком
плаще, имитирующем крылья. Фуллер исполняет свой танец; с помощью спрятанных в
тканях бамбуковых палок она приводит в движение обильные драпировки,
окутывающие ее тело. Ткани, находящиеся в беспрерывном движении, беспрестанно
меняют свой облик. Тело же Фуллер почти неподвижно, ноги едва движутся. Но вот
она воздевает руки над головой, и лицо ее исчезает в тканях, драпировки
колышутся так, как будто восходят к небу столбом дыма. Какой-то странный
пароксизм движения, и тело буквально растворяется в воздухе, исчезает - старый
трюк с двойной экспозицией.
Описывать
особенно нечего. С точки зрения кинематографа- фильм банален, все строится на
тривиальном сочетании примитивных трюков и танца. Танец - непременный атрибут
кинематографа девятисотых: просто надо было, чтобы в кадре что-то двигалось.
Движение все еще кажется главным объектом нового зрелища. Да и сама Фуллер,
грузная, отнюдь не грациозная, лишенная своей обычной осветительной машинерии
(один только ее знаменитый 'Танец огня' обслуживали 14 электриков-осветителей),
не особенно поражает. Не очень понятно, почему Малларме возвел ее в ранг символа
нового искусства, почему ее рисовал Тулуз-Лотрек и посвящал ей стихи Уильям
Батлер Йейтс.
В
этой встрече Лои Фуллер и кинематографа прочитывается, однако, некий взаимный
тропизм.
2. Новое излучение
В
своих мемуарах Фуллер описывает изобретение серпантинного танца так, как если
бы речь шла о неком научном открытии. Она вспоминает о том, как, репетируя в
1891 году танец для сцены, изображавшей сеанс гипноза, в пьесе 'Доктор Куок',
она задрапировала свое тело в большой кусок тонкого индийского шелка и увидела в
зеркале силуэт своего тела, высвеченный солнцем сквозь желтый шелк:
'Это был момент сильного переживания. Бессознательно я
поняла, что передо мной великое открытие, которому предначертано открыть путь,
по которому я с тех пор шла. Легко, почти с религиозным чувством, я привела
шелк в движение и увидела, что получила колебания, чьи свойства были ранее
неизвестны' (Фуллер 1978: 33).
_________
1 Копия этого фильма хранится в
Линкольн-Центре в Нью-Йорке.
279
Великое
открытие, 'неизвестные колебания' - все это заимствования совсем не из
хореографического лексикона. Фуллер явно моделирует свое поведение по
стереотипу ученого-физика нового типа, а именно первооткрывателя нового
излучения. Дальнейшее поведение Фуллер (во всяком случае так, как она его
описывает в 1913 году) подтверждает, что в ее сознании серпантинный танец-
нечто совершенно отличное от традиционной хореографии:
'Наконец
я достигла такой точки, когда каждое движение тела находило выражение в
складках шелка, в игре цветов и драпировок, которые могли быть математически и
систематически просчитаны. <...> Я добилась спирального эффекта, держа
руки поднятыми, покуда сама я вращалась2.
<...> Я изучила каждое из моих характерных движений, которых
насчитывалось по меньшей мере двенадцать. Я расклассифицировала их, как Танцы ?
1, ? 2, и т. д. Первый должен был исполняться в синем свете, второй - в
красном, третий - в желтом' (Фуллер 1978: 33-34).
Хотя,
разумеется, танцы Фуллер по большей части интересовали художников, она явно
тяготела к ученым. Она гордилась дружбой с известным астрономом и спиритом
Камилем Фламмарионом. Среди многочисленных квазинаучных экспериментов
Фламмариона Фуллер особенно выделяла опыты по влиянию световых лучей различного
цвета на живые организмы. Особую главу в ее биографии составили отношения с
супругами Кюри. Фуллер стала искать контактов с ними вскоре после того, как они
открыли радий. В одном из первых писем Фуллер объясняет причину ее интереса:
'Ей нужны крылья бабочек из радия'. Фуллер явилась к Кюри в сопровождении
целого отряда электриков и показала знаменитым физикам программу своих танцев.
Затем, по ее заверениям, она организовала в Париже свою собственную физическую
лабораторию с шестью сотрудниками, в которой занималась опытами по изучению
флюоресценции. Результатом этой работы было создание светящейся в темноте ткани
и танца, который Фуллер назвала 'Танцем радия' (Radium Dance)3.
Эта
разработка новых танцев в лаборатории - не просто дань фуллеровскому
эксцентризму или моде. Фуллер действительно воспринимала свой танец как некое
научное достижение, которое она пыталась осмыслить в терминах вибраций,
излучений, колебаний, волновых эффектов - всего того научного инструментария,
который приобрел особую популярность в конце XIX столетия. Она действительно
пыталась мыслить свою хореографию в категориях близких рентгену.
________
2 Этот эффект Фуллер демонстрирует в
фильме Патэ.
3 Об этой стороне
деятельности Фуллер см. де Морини 1978: 214-215.
280
Фуллер
изложила некое подобие теории, лежащей в основе ее танцев:
'Что
такое танец? Это движение. Что такое движение? Это выражение ощущения. Что
такое ощущение? Реакция человеческого тела, вызванная впечатлением или идеей,
воспринятыми психикой.
Ощущение - это реверберация, распространяющаяся на
тело, от попадания впечатления в психику' (Фуллер 1978:70).
Танец
есть, в конце концов, специально настроенная система ревербераций и колебаний,
выражающих впечатление. Впечатление, образ вызывают в мозгу колебание, которое
как бы распространяется из мозга в тело. Танец - выявитель этих невидимых колебаний.
В
своих рассуждениях Лои Фуллер мыслила совершенно в русле определенного типа
психологии своего времени, который я бы назвал 'вибрационной психологией'.
'Вибрационная психология' имеет длинную историю, она восходит едва ли не к
средним векам, когда складывается теория сохранения изображений в неких
телесных гуморах или парах. Так, Альберт Великий считал, что меланхолики
обладают повышенной способностью фиксировать 'фантазмы', потому что их гуморы
дают сухие пары. Виднейший же представитель флорентийского неоплатонизма
Марсилио Фичино утверждал, что фантазмы лучше всего фиксируются черной желчью
(Агамбен 1993: 24-25).
Сама
форма этой фиксации постепенно начинает увязываться с представлением о
вибрациях4. Одним из наиболее
активных проповедников такой теории был, например, английский философ Дэвид
Гартли, сформулировавший ее в 1749 году в труде 'Размышления о человеке':
'Внешние
предметы, запечатленные во внешних чувствах, вызывают сначала в нервах, в
которых они запечатлены, а затем в головном мозгу вибрации малых и, можно даже
сказать, бесконечно малых мозговых частиц.
Эти
вибрации представляют собой движение назад и вперед малых частиц; они такого же
рода, как и колебания маятников и дрожание звучащих тел. <... >
Что
внешние предметы вызывают вибрационные движения в мозговом веществе нервов и
головного мозга <...>, явствует из сохранения ощущений <...>; ибо
ни одно движение, кроме вибрационного, не может сохранять-
________
4 Конечно, существенное значение тут
имели представления о функции музыки в гармонизации мира. См. Шпитцер 1963. В
итоге на протяжении столетии существовала практика лечения больных музыкой,
иначе говоря, звуковыми колебаниями. Считалось, что гармонизированные звуковые
колебания могут непосредственно воздействовать на тело. См. Кюммель 1977.
281
ся
в какой-либо части тела [даже] в течение кратчайшего промежутка времени.
Внешние предметы, будучи телесными, могут воздействовать на нервы и головной
мозг, которые тоже телесны, только запечатлевая движение в них' (Гартли 1967:
204-205).
Согласно
Гартли, любое восприятие может быть сведено к динамическому воздействию и некой
деформации воспринимающего тела. При этом сама деформация может иметь только
вибрационный характер.
Идеи
эти в XIX веке обогатились новыми физическими представлениями. Высказывания Лои
Фуллер полностью вписываются в их контекст. Она, например, почти дословно
повторяла положения Жюльена Пиоже, изложенные им в 1893 году в работе
'Вибрационная теория и органические законы чувствительности', где идеи,
изложенные за полтора столетия до него Гартли, связывались с волновой теорией
света и новыми достижениями оптики. Согласно Пиоже, волновая природа света
может быть идеальной моделью для объяснения психических процессов. Световые
волны каким-то образом регистрируются в нашем оптическом аппарате, который
функционирует совершенно сходно с фотографическим аппаратом. Зарегистрированные
психическим аппаратом колебания хранятся в нем в состоянии, напоминающем
консервы:
'...Наши
внутримозговые клише должны рассматриваться как накопление визуальных волн в
состоянии, известном физике под названием состояния напряжения. Отсюда, с одной
стороны, возможность их усиления сходными волнами, поступающими снаружи
(повторение ощущений, оживляющих память и усиливающих наши воспоминания), а с
другой стороны, возможность для тех же волн переходить из состояния напряжения
в состояние разрядки, то есть вступать в игру и вызывать то, что мы называем
феноменами внутреннего возбуждения...' (Пиоже 1893:248)
Если
мозг напоминает фотографическую пластинку, то усиление зафиксированных в нем
колебаний похоже на процесс проявления скрытого изображения5. Танец легко вписывается в такую перспективу
именно как некая практика реверберации, обнаружения скрытых волн, переходящих
из невидимого состояния напряжения в некую обнаружимую глазами колебательную
разрядку. Тем самым танец легко вписывается в общую диаграмматическую картину
мира, возникающую в тотализирующей теории вибраций.
Любопытно,
каким образом физиологические вибрационные теории начинают непосредственно прикладываться
к области танца.
________
5 Ср. с описанием проявления
фотографий у Поля Валери: 'Мало-помалу, тут и там, подобно первым прерывистым
звукам пробуждающегося сознания, появляются несколько пятен', и т. д. (Валери
1980- 198)
282
Сошлюсь
на характерное эссе Альбера де Роша (1898). Де Роша считал, что извилины в
мозгу - это некие зоны, в которых, в виде латентных вибраций, накапливаются
впечатления. Сам механизм регистрации, как его представляет себе де Роша, похож
на принцип фонографа; характерно, что границы между извилинами он определял как
'борозды'. Эссеист считал, что 'вибрации нот некой арии могут состоять с
вибрациями, свойственными различным мозговым извилинам, в таких отношениях, что
они могут их усиливать или противоречить им, и в результате увеличивать или
уменьшать их действие' (де Роша 1898:598).
Этот
процесс де Роша сравнивает с электрической индукцией. Для ее проверки он
предлагает и особый 'механизм', а именно погруженных в гипноз
сверхчувствительных истеричек, способных служить природным усилителем для
невидимых вибраций. Автор заходит так далеко, что предлагает испытывать на
истеричках балетную музыку с точки зрения ее, так сказать, вибрационной
эффективности6.
Истеричка
для де Роша - это усилитель, делающий видимым невидимое - резонанс колебаний,
пронизывающих материю. В этом он следовал экспериментам Шарко и его
ассистентов, демонстрировавших реакции истеричек на определенную высоту тона.
Шарко писал:
'Я
сажаю двух этих истеричек на резонаторный ящик большого камертона. Как только я
придаю вибрацию камертону, они на ваших глазах мгновенно впадают в каталепсию.
Прекратим колебания камертона, они впадают в сомнамбулизм. Вновь придадим
камертону вибрацию, каталепсия возвращается' (Цит. по: Диди-Юберман 1982:
206-208).
Великое
открытие Лои Фуллер того же свойства. Она также обнаружила усилитель вибраций,
делающий видимым невидимые колебания. Но работает механизм Фуллер иначе.
Истерички реагируют на определенную высоту звука, как бы фиксируя ее в
статуарной, каталептической позе своего тела. Сама неподвижность тела истерички
выражает идею Гартли о возможности телесной фиксации движения в вибрации.
Движение здесь как бы преобразуется в неподвижность, обозначающую сам эффект
консервации. Принцип Фуллер - иной. Ее усилитель - ткани, драпировки, в
изобилии окутывающие тело танцовщицы. Та запись вибраций, которая в мозгу
пребывает в состоянии молекулярного напряжения, разряжается в колебаниях
тканей, обнаруживающих и усиливающих любое дви-
________
6 Одна из наиблее популярных
парижских танцовщиц конца века Джейн Авриль лечилась у Шарко в Сальпетриер,
страдала хореей и истерией и может считаться таким представителем
'истерического балета'. - См. Кермод 1976: 29-30.
283
жение
тела, мельчайший жест руки. 'Научное открытие' Фуллер - это открытие миметического
усилителя телесных вибраций.
В
этом смысле ткани ведут себя аналогично фотоэмульсии, которая обладает в
научной мифологии конца века такой же полумистической способностью. Стараясь
визуализировать невидимое, врач-психиатр Ипполит Барадюк (Hippolyte Baraduc)
целиком опирался на эту способность фотоэмульсии. Известный факт, что на
фотографиях часто возникают вуали и ореолы, он интерпретировал как способность
фотоаппарата регистрировать ауру- своего рода магнитное поле, окружающее живые
организмы. Аура описывалась Барадюком как 'вибрация жизненной силы' (vibration
de force vitale) и выглядела как некая колеблющаяся вуаль с отчетливым волновым
рисунком, сквозь которую проступали изображения тел и предметов (Диди-Юберман
1982: 88-97; Диди-Юберман 1987; Дюбуа 1986: 47-49). Аура Барадюка - это некий
невидимый свет, некий луч, производимый вибрациями и фиксируемый
фотопластинкой, которая, как и мозг, предстает особой материей, в которой
вибрации как бы замерзают и проявляются7.
Вместе с тем аура Барадюка внешне напоминает тюль, газ, развевающуюся
полупрозрачную ткань. Изображение ткани здесь как бы возникает из самой химии
фотоэмульсии.
Культура
XIX века вне всякой очевидной связи с наукой искала форм выражения невидимого в
тканях. Бодлер, для которого современность - это 'преходящее, ускользающее',
утверждал, что его современницы иначе, чем в старину, производят складки на
платьях, будто сама физика женского тела изменилась так, что придает платью
новую жизнь и физиономию (Бодлер 1962: 467). Гармония движений женщины
передается тканям одежды и выражается в колебаниях газа и муслина, 'окутывающих
ее обширных и переливающихся облаков тканей' (Бодлер 1962: 488). Женщина
превращается в какой-то вибрирующий центр, как будто исчезающий в тканевом
облаке, растворяющийся в вибрациях, расходящихся от нее вовне. При этом сами
ткани начинают походить на новое излучение.
_________
7 Гастон де Павловски в своей
философской сатире 'Путешествие в страну четвертого измерения' (1895-1912)
описывает специальный институт Фотофониум, в котором с помощью специальных
приборов афаноскопов делались видимыми невидимые глазу излучения (в том числе и
рентгеновские). В результате происходит разрушение ощущения времени и наступает
чудовищная перцептивная сумятица:
'...Они видели, как перед их взором неожиданно возникали все вибрации,
накопленные в воздухе за столетия, все ненужные слова, когда-либо
произнесенные, все дурные влияния, желания и неприязни, фантоматические видения
старых идей и их ужасающих последствий в будущем' (Павловски 1962: 156).
Таким
образом, материя, согласно Павловскому, может накапливать колебания, невидимые
глазу. Как будет видно из дальнейшего, Ледантек, например, считал эту память
живой материи существенной для ее сохранения.
284
Женщина
оказывается лишь выражением общего состояния мира, вибрирующего и
распространяющегося вовне. Жорж Пуле так описывает мир Бодлера:
'Вещи
вибрируют, мысль вибрирует. Вибрация - в каждом внешнем контуре, звуке или
цвете, в каждой внутренней идее. Или, вернее, нет ни внутреннего ни внешнего,
но лишь мгновенное и множественное явление, где-то в поле восприятия, все той
же вибрирующей интенсивности' (Пуле 1979: 407).
Когда
Флоберу нужно было найти образ для изображения умершей Эммы Бовари, он построил
его вокруг такой разрастающейся вибрации:
'По
атласному платью, матовому, будто свет луны, пробегали тени. Эммы не было видно
под ним, и казалось Шарлю, что душа ее неприметно для глаз разливается вокруг и
что теперь она во всем: в каждом предмете, в ночной тишине, в пролетающем
ветерке, в запахе речной сырости' (Флобер 1989: 287).
Эмма
исчезает в тканях, по которым пробегает тень, но след ее присутствия,
усиливаясь в складках атласа, распространяется вокруг, реверберируя в природе.
Это
распространение колебаний вовне позволяет мыслить своего рода новую
транссубстанциацию, изменение существа материи и превращение видимого в
невидимое и наоборот'8. Рильке уже в
20-е годы пишет о 'работе постоянного трансформирования любимых и осязаемых
вещей в невидимую вибрацию и возбудимости нашей природы, вносящей новые
"частоты" в пульсирующие поля мироздания. (Поскольку различные
материалы мироздания - это лишь различные коэффициенты вибрации, мы строим
таким образом не только духовные интенсивности, но также - кто знает? - новые
тела, металлы, туманности и звезды)' (Рильке 1988а: 394). У Рильке газ-ткань
превращается в газовую туманность. Исчезновение, смерть в вибрации становятся
своего рода перемещением тела в некие невидимые сферы, тела лишаются своего
места, но отпечатывают себя вовне, творят новые формы. Это описанный Арто (см.
главу 3) процесс экстатической проекции тела человека вовне, процесс,
фиксирующийся в следах-графах, выступающих как новые или архаические
материальные формы.
________
8 Диалектика видимого и невидимого
иногда описывалась в терминах отношений звука и света, двух волновых феноменов.
Август Стриндберг, экспериментировавший с фотографией, например, утверждал, что
рентгеновские лучи, проникая сквозь твердую материю, выявляют свое сходство со
звуковыми волнами. Таким образом, обнаружение незримого описывается в терминах
звука, незримого по существу. См. Стриндберг 1992: 175.
285
Фуллер
находит возможность превратить газ и муслин Бодлера, атлас Флобера в основу
своего танца. Процитирую типичный отклик современника на ее хореографическую
технику:
'С
помощью движений ног и рук, колебаний торса, гармонии жестов танцовщик
испускает в пространство вибрации, волны музыки, позволяющие ему выражать все
человеческие эмоции. Танец - это визуальная музыка, разворачивающаяся в
пространстве' (Фуллер 1914). Вибрации, о которых идет речь, 'испускались в
пространство' танцовщиками и до Фуллер, но ее ткани впервые сделали эти
колебания видимыми. При этом тело ее как будто растворилось в этом потоке
вибраций, лишь генерируя свой след (колебание тканей) вовне. Танец Фуллер по
существу разворачивается в месте отсутствия или исчезновения танцовщицы. В этом
смысле он весь пронизан смертью, квазирадиоактивным 'распадом' телесности.
Мопассан
описал в чем-то сходный распад, растворение телесности в системе музыкальных
резонансов, в романе 'Монт-Ориоль':
'Когда
я слушаю любимую вещь, то первые же звуки как будто срывают с меня кожу, вся
она тает, растворяется, словно и нет ее на моем теле; все мои мышцы, все нервы
обнажены и беззащитны перед натиском музыки. <... > Я воспринимаю музыку
не только слухом, я ощущаю ее всем телом, и оно вибрирует при этом с ног до
головы' (Мопассан 1954: 609).
Вибрация
уничтожает границы тела, растворяет кожу и делает неразличимыми тело и
окружающее его пространство.
Активно
экспериментируя с цветными прожекторами, Фуллер стремилась усилить тот или иной
тип вибраций, так как, по ее мнению, цвет возникает в результате дезинтеграции
светового пучка под воздействием резонансов и колебаний (Фуллер 1978: 65). И
вся эта колебательная машинерия призвана в итоге подействовать на психику
зрителя, вызывая в нем также своего рода вибрационный резонанс.
Сказанное
позволяет понять еще одну причину взаимного притяжения между танцами Лои Фуллер
и ранним кинематографом. Кинематограф, еще ощущающий свою связь с наукой и
хромофотографией, на первых порах также выступает как выявитель невидимого, как
аппарат некоего сверхзрения. Не случайно, конечно, один из пионеров
хронофотографии Этьен-Жюль Марей специально пытается зафиксировать на
фотопластинку вибрации9 (сохранились,
________
9 Первые опыты по визуализации
акустических колебаний восходят к концу XVIII - началу XIX века (Эрнст Хладны,
Феликс Савар). Конец XIX века, однако, свидетельствует об оживлении интереса к
этой проблематике. В 1891 году Уоттс Хьюз изобретает 'эйдофон', представляющий
'голосовые фигуры' (voice figures). См. Сурио 1969: 223-235.
286
например,
его фотографии 1887 года, где он приводит в колебание длинный деревянный шест).
Не менее показателен и пристальный интерес Марея к регистрации птицы в полете.
Движения крыльев для него интересны прежде всего с точки зрения аэродинамики,
они по-своему отражают невидимое глазу действие воздушных потоков10. В 1900 году Марей делает серию снимков
движения воздушных потоков вокруг препятствий. На этих фотографиях струйки
дыма, делающие эти потоки видимыми, предстают в едва заметном колебательном
движении. Танцы Фуллер неожиданно и причудливо вписываются в туже традицию.
3. Резонансы
Существенный
вклад в становление 'вибрационной эстетики' (за неимением лучшего используем
это диковатое определение) внесли старые (восходящие к концу XVIII века)
исследования химического воздействия света на тела. Попытки объяснить
химические трансформации в телах простым воздействием колеблющегося эфира (как,
например, понимал свет Гюйгенс) уже в 1798 году подверг сомнению Гелен.
Возникла теория некоего сродства между светом разного цвета и разными типами
материи. Немецкий физик Кристиан Самуэль Вайс так описывал в 1801 году
химическое действие света на органические тела:
'Свет
действует как возбудитель на жизненные силы органов и, в результате, выделения
пигмента демонстрируют изменения на поверхности. Пигмент получает специальную
примесь, которая усиливает его способность (affinity) высвобождать световую
субстанцию...' (Цит. по:Эдер 1978- 130)
Тело
в данном случае действует совершенно как фотографическая пластинка. Процессы
же, протекающие в нем, могут быть определены как некая цепочка очищений,
освобождений и ревербераций. Свет, то есть колебания эфира, воздействует на жизненные
силы органа, те вызывают изменения в пигменте, который получает специальную
примесь. Эта примесь в каком-то смысле усиливает сродство ткани со светом, и в
результате свет также в свою очередь претерпевает изменения, связанные с
высвобождением световой субстанции, как бы вновь излучаемой из тела вовне.
Одновременно
с обнародованием открытия Рентгена в 1896 г.
___________
10 Марей был президентом французского
Общества авианавигации, он построил аэродинамическую трубу, в которой обдувал
модель птичьего крыла, пытаясь зарегистрировать и описать движение воздушных
потоков (Този 1984 245) В каком-то смысле эта сторона деятельности Марея
напоминает интерес Леонардо к гидродинамике и фиксации водных потоков (см главу 6)
287
французский
эссеист и физик-любитель Гюстав Лебон выступил перед членами Французской
академии с сообщением об открытии им так называемого 'черного излучения'.
Черное, невидимое излучение, по мнению Лебона, возникает в телах, когда они
подвергаются воздействию солнечного света. Это как бы вторичное, 'резонирующее'
излучение, своего рода высвобожденная 'световая субстанция' Вайса. Сообщение
Лебона вызвало интерес Пуанкаре, Беккереля, Кюри. Беккерель показал, что черные
лучи Лебона- не что иное, как инфракрасное излучение (Най 1974:175).
Тот
факт, что видимый свет оказался среди множества иных невидимых излучений-
рентгеновских, инфракрасных, ультрафиолетовых, а также постепенно
утверждающееся понимание света как электромагнитного явления отрывает саму идею
света от чистой визуальности11.
Название лебоновских лучей - 'черные' в этом смысле характерно. По мнению
Джонатана Крери, постепенный отрыв идеи света от идеи зрения, видимости
отмечает коренной перелом в самом понимании видения (Крери 1990:88). Идея же
вторичного, резонирующего излучения в значительной степени отрывает идею света
от того неоплатонического мира, который связывает видимость и свет с внешними,
объективными формами вещей. Излучение теперь как бы несет в себе информацию о
каком-то внутреннем, спрятанном криптомире. Оно относится уже не столько к миру
видимых явлений, сколько к миру непостигаемой, непроницаемой внутренней
'темноты'. Метафорически луч начинает репрезентировать внутреннее (а потому
также и субъективное) в той же мере, что и внешнее.
Показательно,
что славу Лебону принесли не его опыты в физике (которые, возможно, оказали
влияние на культуру своего времени [Митчелл 1977])12,
а книга 'Психология толп' (на которую позднее ссылался Фрейд), также
напечатанная в 1896 году. Поведение толпы здесь во многом описывалось в
квазифизических категориях взаимодействия тела и света. Толпа мгновенно
возбуждается и реагирует на слова и изображения бессознательными поступками.
Поведение толпы предельно миметично, как и поведение материи под воздействием
света. Толпа лишь реагирует и резонирует. Составляющие ее люди теряют волю,
становясь похожими на загипнотизированных истеричек. Человек, попавший в толпу,
_______
11 Морис Метерлинк, например, в конце
концов приходит к мнению, что мир, окружающий нас, по преимуществу невидим
'если мы не видим даже света, который есть единственное, что, нам казалось, мы
видим, можно сказать, что вокруг нас существует только невидимое' (Метерлинк
1913 241) Такого рода высказывания знаменуют конец многовековой европейской
неоплатонической традиции
12 Стриндберг, например,
считал, что открытие Лебона полностью затмило открытие Рентгена - Стриндберг
1992: 176
288
'под
действием испускаемых ею выделений, или какой-то иной, еще неизвестной,
причины, впадает в состояние очень похожее на состояние загипнотизированного в
руках гипнотизера' (Лебон 1934:18).
Эти
'неизвестные выделения' очень похожи на вибрации де Роша или действие
солнечного света на тела в физической теории самого Лебона (не случайно,
конечно, в клинике Шарко гипнотическая каталепсия вызывалась как ослепительно
ярким светом, так и звучанием мощного камертона.) Эманации толпы провоцируют в
массе некую вторичную вибрацию, на сей раз репрезентирующую чисто внутреннее,
психологическое состояние. Правда, само это состояние описывается как
разрушение индивидуальной психологии под воздействием внешних 'вибраций'.
Фуллер
понимает изобретение ею серпантинного танца именно как результат такого
гипнотического резонирования. Приведу ее описание этого эпизода:
'В
конце пьесы ["Доктор Куок"], в вечер первого представления мы
показали нашу сцену гипноза. Сцена, изображавшая сад, была залита
бледно-зеленым светом. Доктор Куок таинственно вошел, и затем приступил к
внушению. Оркестр очень мягко наигрывал грустную мелодию, а я постаралась
сделать себя как можно более легкой, чтобы произвести впечатление трепещущего
тела, послушного приказам доктора. Он поднял свои руки. Я подняла свои. Под
влиянием внушения, впав в транс- так, по крайней мере, это выглядело - со
взглядом, прикованным к его взгляду, я повторяла каждое его движение.
<...>
Вдруг из зала послышалось неожиданное восклицание:
-
Это бабочка! Это бабочка!
Я повернула обратно и побежала от одного края сцены к
другому, и вдруг последовало второе восклицание:
-
Это орхидея!
К
моему великому удивлению, раздались неумолкающие аплодисменты. Все это время
доктор скользил по периметру сцены, ускоряя шаги, а я следовала за ним все
скорее и скорее. Наконец, парализованная экстазом, полностью погруженная в
облако легкого материала, я позволила себе упасть к его ногам' (Фуллер 1978:
31-32). Изобретение танца описывается Фуллер как миметический транс. Доктор
заставляет тело Фуллер с абсолютной пластичностью вибрировать в такт его
ускоряющимся движениям вплоть до некоего фундаментального преображения тела, которое
неожиданно исчезает, растворяясь в облаке легкой ткани, но одновременно
возникает фантастический образ бабочки и орхидеи. Доктор, по существу,
воздействует на Фуллер так, как потом будет действовать вызывающий
289
вторичные
колебания свет. Он своей волей приводит ее в вибрацию. Любопытно, что ее
экстатический мимесис постепенно распространяется на толпу, также впадающую в
экстаз. Каким-то образом доктор Куок через тело Фуллер гипнотизирует зал.
Система резонансов здесь представлена с полной наглядностью.
Жак
Бриё опубликовал в 1897 году статью о фиксации ауры, излучаемой различными
телами. В опытах, которые он описывает, 'экспериментаторы использовали
экстрасенсов вместо фотографических пластинок' (Бриё 1897: 262)13. Выяснилось, что аура тел была цветной; так,
например, левая часть тела представала голубой, правая - красной, а середина -
желтой. 'В истерии красный примешивается к синему и превращается на лице в
фиолетовое пятно' (Бриё 1897: 262). Любопытно, однако, что наиболее сильное
излучение испускали люди в состоянии 'летаргии' (a 1'etat lethargique), то есть
гипноза. По существу загипнотизированная истеричка оказывается не только
наилучшим приемником, но и наилучшим генератором ауры. В принципе
воспринимающий становится как бы двойником излучающего. В этой системе
резонансов любая вибрация усиливает зависящую от нее иную вибрацию. При этом
излучение оказывает воздействие и на восприятие, как бы усиливая его. Марсель
Пруст так характеризует, например, роль некоего первичного возбуждения,
участвующего в этом резонирующем восприятии:
'Оно
(подобно тому, как повышенное натяжение струны или более быстрая вибрация нерва
производят иное звучание или иной цвет) в основном придавало иную тональность
тому, что я видел, оно вводило меня наподобие актера в неизвестный и куда более
интересный мир...' (Пруст 1977: 281)
Гипнотизер,
хотя и кажется важным элементом в этой системе, может быть заменен любым
источником вибраций, любым миметическим источником вообще, например, просто
цветным лучом. В дальнейшем Фуллер и будет действовать как приемник и генератор
вибраций одновременно. Для этого она встраивает себя в некую оптическую
систему, в которой луч света падает на ее тело, а то в свою очередь выделяет
некое иное свечение, генерация вибрации оказывается одновременно перцепцией
иной вибрации. Фуллер живо интересовалась странными опытами Фламмариона,
который часами выдерживал добровольцев в лучах различного цвета, изучая
воздействие цвета на организм. На характерном для нее псевдонаучном жаргоне
Фуллер объясняет:
'Цвет - это разложенный на составляющие свет. Лучи
света, дезинтегрированные вибрациями, касаются того
___________
13 Среди экспериментаторов, о которых
пишет Бриё, - известный нам Альбер де Роша.
290
или иного предмета, и эта дезинтеграция,
сфотографированная на сетчатке, химически всегда является результатом изменений
в материи и в луче света. Каждый из таких эффектов определяется под именем
цвета' (Фуллер 1978:65).
Сетчатка
фиксирует какие-то трансформации в луче, и формы, которые воспринимаются
зрителем, таким образом, как бы являются лишь фиксациями этих трансформаций
(вибраций, дезинтеграций). Мир предстает как бы миметической копией света, хотя
и подверженного деформациям при взаимодействии с материей Цвет, как видно из
приведенной цитаты, не просто результат изменений в теле под воздействием
света, но и результат трансформаций в самом луче, как бы под воздействием его
собственного преломления и отражения. Эта идея занимает промежуточное положение
между некой квазифизикой и теологией. Она напоминает средневековую метафору
непорочного зачатия как луча, проходящего через цветное стекло, которая
разобрана Миллардом Майсом Майс цитирует ев Бернарда.
'Как
чистый луч проникает в оконное стекло и выходит из него незапятнанным, но
окрашенным в цвет стекла <...> Сын Божий, войдя в непорочное лоно Девы,
вышел из него чистым, но приобрел цвет Девы, то есть природу человека и красоту
человеческой формы, и он облачил себя в нее' (Майс 1976: 7).
Луч
этот, однако, не просто имитирует форму, через которую он проходит, он эту
форму и порождает, будучи Логосом, творящим лучом Бога По существу, он
растворяется ('дезинтегрируется') в форме, которую сам же порождает
Божественный Луч одевает себя в форму, которая как одежда лепит себя из него,
проявляя в копии (человеческом теле) субстанцию, скрытую в луче, - так сказать,
невидимый, 'черный свет' божественного промысла Луч окрашивается потому, что он
проходит сквозь цветное стекло, но цветное стекло становится цветным потому,
что через него проходит луч Луч как бы приобретает в стекле те качества,
которые он этому стеклу сообщил
Чрезвычайно
существенным, однако, становится сам процесс прохождения через стекло или через
тело Вибрация приобретает некие 'онтологические свойства' того тела, в котором
она возникла или через которое прошла Она начинает выражать его сущностные
качества Ж. Комборье так сформулировал эту идею.
'Почему, когда ударяешь по звучащему телу, некоторые
гармоники выходят из него, а другие - нет? Это, разумеется, связано с
молекулярным строением тела, которое было приведено в вибрацию. Отсюда,
по-видимому, следует, что тембр звуков выражает скрытую природу
291
предметов, их тайную жизнь, одним словом proprium quid, отличающий их от других
предметов. В таком случае исследование музыкального выражения, во всяком случае
с этой точки зрения, должно было бы слиться с онтологией - если бы онтология
существовала' (Комборье 1893:137).
Предметы,
тела находятся между собой в отношениях некоей гармонической ритмической
соотнесенности Некоторые ученые обнаружили химические соотношения, выражающиеся
пропорциями золотого сечения, которые якобы определяют собой гармонию мировых
ритмов Швейцарский исследователь А. Денереаз, например, утверждал, что
микродвижения одноклеточных - тропизмы - определяются химией среды, в
частности, содержанием кислорода и его отношением к другим газам Поскольку эти
пропорции могут быть описаны в терминах золотого сечения, то и тропизмы как бы
подчиняются тем же ритмическим, гармоническим законам.
'Если
тропизмы могут основываться на золотых ритмах, инстинктивные реакции отразят их
гармонию Но более того, сама материя организма, позаимствованная у окружающих
его молекул, должна быть гармонизирована точно так же, как гармонизированы
между собой эти молекулы' (Денереаз 1926: 59)
Весь
мир пронизан единой структурой воспроизводящих друг друга музыкальных вибраций.
Производя вибрации или испуская лучи, тело беспрерывно с равной частотой,
вписанной в 'онтологию' его материи, воспроизводит себя в симулякрах, копиях В
конце века, когда в эту всеобъемлющую систему производства симулякров
вписываются и кинематограф, и психология, и рентгеновские лучи, и даже танец,
возникает возможность унифицировать картину мира Мироздание теперь может
описываться как система разного рода взаимосвязанных вибраций, колебаний и
лучей, в равной мере существенных как для работы сознания, так и для физики
неодушевленной материи Изобретатель катодной трубки Уильям Крукс составил даже
таблицу всевозможных вибраций, отличавшихся между собой лишь частотой Телепатия
как психический феномен вписывалась в ту же систему вибраций, что и
рентгеновские лучи (Хендерсон 1988 326). Мир предстает как машина, производящая
колебания и вписывающая их в тела, как система вибраций и вызываемых ими
деформаций, записываемых на 'плоти мира' в качестве бесконечно разветвленной
сети диаграмм Все похоже друг на друга, потому что все вибрирует И эти
вибрационные диа1рам-мы в пафосе всеобщей соотнесенности элиминируют видимое
разнообразие форм мира, их несводимость друг к другу Вопреки совершенной
несхожести мира, он оказывается пронизанным тотализирующим диаграмматическим
миметизмом.
292
4. Миметизм и творчество
В
такой перспективе мир оказывался настолько миметичным, что Бергсон даже счел
необходимым оспорить миметические отношения между мышлением, сознанием,
воспоминаниями и вибрациями в мозгу:
'...Природа
не должна была предоставить себе роскошь повторять в языке сознания то, что
кора головного мозга уже выразила в терминах атомных или молекулярных движений'
(Бергсон 1982: 72).
Он
утверждал, что невозможно уподобить воспоминания следам световых или звуковых
колебаний на фотопластинках или дисках фонографа. Феномены сознания следовало,
по мнению Бергсона, диссоциировать от механики мозга, которая принципиально не
отличается от регистрирующих вибрации машин14.
Бергсон утверждал, что мозг не фиксирует воспоминаний в виде образов, но лишь
сохраняет некие следы моторности, некие структуры движений, которые не
находятся в миметических отношениях с изображениями:
'В
целом при работе мысли, так же как и при вспоминании, мозг предстает попросту
ответственным за вписывание в тело движений и положений, которые разыгрывают то, что дух мыслит или то, что обстоятельства
призывают его мыслить. Это то, что в ином месте я выразил, называя мозг
"органом пантомимы"' (Бергсон 1982: 74). Бергсоновское определение
мозга как 'органа пантомимы' по существу означает, что мозг имеет дело лишь с
копиями вибраций и их записями, что в этой системе бесконечного
репродуцирования колебаний мозг может лишь отвечать за движения (вибрации) тела
и не более. В такой закрытой системе симуляций мысль не может не выражать
фундаментального разрыва с универсальным миметизмом, этой вечной взаимной
пантомимой материи и мозга. Согласно Бергсону, образы памяти не могут возникать
из вибраций, они лишь стимулируются движениями тела и как бы возникают из их
структуры.
Загадка
первого танца Фуллер, как она о нем сообщает, заключается как раз в странном
возникновении каких-то новых образов из чистого миметизма колебаний. Откуда
вдруг из повторения колебаний, навязанных гипнотизером, возникают формы бабочки
и орхидеи, о появлении которых Фуллер, по ее сообщению, даже и не догадывалась?
_________
14 Такого рода понимание мозга
характерно, например, для 'церебральной механики' Шарля Кро или просвечивает на
некоторых страницах 'Евы будущего' (1886) Вилье де Лиль-Адана, положившего в
основу функционирования придуманного им андроида цилиндр с записью неких
вибраций и два фонографа.
293
Вопрос
о возникновении новых форм в мире, пронизанном вибрационными повторениями,
занимал многих в конце века. Габриэль Тард опубликовал в 1890 году влиятельный
социологический трактат 'Законы имитации', в котором вся социальная жизнь в
каком-то смысле выводилась из неких первичных колебаний материи. Чтобы
объяснить загадку генерации новых форм, Тард вынужден был ввести понятие
'свободного волнообразования', характерного для живых организмов:
'В
то время как волны сцеплены между собой - изохронные и прилегающие друг к
другу, - живые существа, весьма различной длительности жизни, отделяются друг
от друга и расстаются; они тем более независимы, чем более развиты. Порождение
- это свободное волнообразование, чьи волны составляют особый мир' (Тард 1890:
37). 'Свободное волнообразование' Тарда, конечно, мало что объясняет, однако
оно приписывает живому организму какую-то внутреннюю резистенцию окружающим
ритмам. Более внятно на эту тему высказался влиятельный философ и биолог Феликс
Ледантек, начавший разрабатывать свою философию природы в середине 1890-х
годов. Согласно Ледантеку, жизнь отличается от смерти способностью к адаптации,
ассимиляции в окружающей среде. Живая материя обладает специальным телом,
приспособленным для имитации и адаптации, - это клеточная протоплазма, в
основном состоящая из сложных коллоидных растворов. Коллоиды - это идеальные
резонаторы, абсолютные имитаторы ритмов:
'...Живые
протоплазмы, очень сложные коллоиды, способны имитировать <...> цвета и звуки. <...>
Живая протоплазма, которая долгое время находилась в присутствии звуковых
вибраций, световых и иных излучений, коллоидов с разнообразными ритмами, в
результате тех состояний, в которые она была последовательно включена, и
отпечаток которых сохранила, является складом записанных резонансов' (Ледантек
1913: 171-173). В результате постоянного воздействия внешних вибраций она,
резонируя с ними в унисон, становится похожей на окружающую среду, которую она
имитирует чуть ли не до полной неотличимости от нее. Однако, указывает
Ледантек, пределом такой имитационной адаптации является смерть, когда организм
полностью подчиняет себя неодушевленной среде и поэтому становится мертвой
материей. Для Ледантека смерть - это идеальная имитация организмом окружающей
среды15. Для того чтобы уцелеть,
живая материя долж-
_______
15 Этот процесс в терминах мимикрии
позже описал Роже Кайуа, утверждавший, что мимикрия напоминает психастеническую
потерю личности и растворение в окружающем пространстве. 'Это растворение в
пространстве обязательно сопровождается уменьшением чувства личности и жизни. <...> Жизнь отступает на шаг'
(Кайуа 1972:110).
294
на
не только воспринимать окружающие ритмы, но и бороться с ними;
'...Живое
существо под угрозой смерти навязывает свой ритм среде. Эта борьба за
коллоидный ритм и составляет основной феномен жизни' (Ледантек 1913:174).
Ледантек
сравнивает протоплазменный коллоид с оркестром, в котором разные инструменты
пытаются подчинить себе агрессивный ритм внешней среды, заставить его биться в
унисон себе.
Ледантек
рисует сложную картину имитаций, когда внешний фактор, хотя и формирует живую
ткань, в конце концов вынужден подчиниться ей. Жизнь, будучи миметической по
своей природе, вынуждена нарушать изоморфность миметических процессов, вводить
различие в колебания просто во имя своего существования16. Новая форма, таким образом, возникает из
старой (внешней) именно при соприкосновении с деформирующим живым генератором
вибраций. Но и этот новый тип вибрации в действительности не что иное, как
некая старая, зарегистрированная в прошлом вибрация, однако действующая против
новой. В каком-то смысле этот процесс противоборствующих мимикрий можно описать
как навязывание стереотипов памяти реально действующим ритмам. Жизнь продлевает
себя в той мере, в какой ритм, записанный в памяти, может навязать себя среде,
в какой прошлое навязывает себя настоящему.
Живой
генератор новых форм и может определяться как мистическая душа. Критик Джильсон Мак-Кормак так, например, писал о Лои Фуллер
(в чем он не был, конечно, оригинален):
'Имя
Лои Фуллер навсегда будет ассоциироваться с развевающимися тканями и окрашенным
светом, но и ткани и освещение малого стоят без души, оживляющей протеивидный
плащ танцовщицы' (Мак-Кормак 1928).
Именно
эта загадочная душа и порождает те
живые отклонения от внешнего, миметического ритма, которые и рождают новые
формы- бабочку и орхидею. Зритель наблюдает творческий эффект органического,
живого резонатора, на который воздействуют музыка и свет.
Ритмы
могут не просто выявлять эту живую душу, они по-своему создают эффект рентгена,
они делают прозрачными внеш-
_______
16 Приятель Фуллер Фламмарион,
например, описывал микродвижения растений как выражение их жизненного порыва.
Он, в частности, описывал цветок desmodie
oscillante, 'лепестки которого постоянно производят маленькие вздрагивания,
весьма похожие на секундную стрелку часов. <... > В Индии было
зарегистрировано до шестидесяти регулярных вздрагиваний в минуту' (Фламмарион
б.г.: 195) Цветы Фламмариона не просто производят некий регулярный вибрационный
ритм, они по существу превращаются в часы, задавая вибрацию как манифестацию
вре-
295
ние
формы17, сквозь которые проступает
органический принцип мироздания - душа. В 20-е годы Эли Фор, чья эстетика явно
восходит к концу века, попытался связать кино и танец как две формы выявления
органоморфных ритмов, скрытых в телах. Согласно Фору, кинематограф, фиксируя
ритмическую хореографию тел (в том числе и неорганических), подвергает тела
некой глубинной трансформации:
'Непрозрачность
форм исчезает, открывая по ту сторону самых твердых поверхностей и самых
плотных объемов, которые, казалось бы, определены навсегда, некие формы, все глубже
и глубже уходящие в тайну формирующейся жизни' (Фор 1927: 246).
Коллоиды
как идеальные вибраторы участвуют и в фотографическом процессе. В 1847 году Луи
Менар открыл светочувствительный коллодий- прозрачный желатин, фиксирующий
изображения. Коллодий ведет себя сходно с живыми коллоидами Ледантека - он
аккумулирует и сохраняет следы световых лучей только для того, чтобы в
дальнейшем противостоять новым внешним воздействиям. Светочувствительный
желатин действует как память. В 1910 году Раймон Руссель опубликовал роман
'Впечатления об Африке', где он описал некое светочувствительное растение,
которое действует как живая фотография. Это растение проходит через
'регистрирующую фазу' (la phase enregistrante) своего развития и затем уже, как
в кино, сохраняет отпечатавшиеся в нем изображения. Изменение изображений в его
тканях описывается в категориях молекулярных вибраций:
'Вдруг в тканях светового растения произошло
молекулярное движение. Изображение потеряло чистоту колорита и контуров. Атомы
вибрировали все вместе, как будто стремясь к новому неотвратимому расположению'
(Руссель 1963:137). Любопытно, что открывший это растение Фогар манипулирует
____________
17 К числу таких трансформируемых
вибрацией 'основных' органических форм относятся в первую очередь цветы, о
которых еще Бодлер в 'Вечерней гармонии' писал, что они 'испаряются, вибрируя
на стебле' ( vibrant sur sa tige / Chaque fleur s'evapore ainsi qu'un
encensoir) (Бодлер 1961. 52) Фуллер также иногда изображалась как испаряющееся
в вибрации тело. Так, немецкий художник Томас Теодор Хайне изобразил ее
взлетающие вверх ткани на фоне курящихся благовоний, явно использованных в
качестве аналога телесной трансформации танцовщицы См. Кермод 1986- VIII.
Любопытно, что еще до изобретения рентгена начали поступать сообщения о
естественном явлении излучения, испускаемого растениями. Лондонский
'Telegraphic Journal', например, подтвердил в 1877 году 'хорошо проверенный
факт, что некоторые цветы, такие как ноготки, подсолнечники и маки, по
свидетельствам очевидцев, в редкие моменты испускают небольшие вспышки света'
(Цит. по Мервин 1988: 118). Эти вспышки объяснялись индуктивным воздействием
атмосферного электричества Речь шла, собственно, все о той же индукции
излучения через взаимодействие вибраций.
296
им
в состоянии гипнотической летаргии, 'близкой к смерти', - все та же мифологема
сверхчувствительности загипнотизированного медиума-истерички, все та же
метафора смерти. Манипулятор должен подавить в себе собственные ритмы жизни,
чтобы стать идеальной регистрирующей машиной. Имитационная адаптация тут
действительно напоминает умирание. И именно тогда, когда воля практически
гаснет, система вибраций порождает некий новый фантастический мимесис,
открывающий по ту сторону видимых форм новый истинный мир.
5. Исчезающее тело
Модель
живой протоплазмы становится расхожей для описания искусства в рамках такого
типа мимесиса18. Тулуз-Лотрек
изобразил Лои Фуллер как странную, почти фаллическую по своим очертаниям,
разбухающую кверху инфузорию. Но, может быть, самую эксцентрическую метафору
танцовщицы предложил Поль Валери:
'Самый
свободный, самый гибкий, самый сладострастный из возможных танцев предстал
передо мной на экране, на котором показывали больших Медуз: они не были
женщинами и они не танцевали.
Не
женщины, но существа, [созданные из] несравнимой субстанции, прозрачной и
чувствительной, из до безумия возбудимой стеклянной плоти, купола плывущего
шелка, стекловидные короны, длинные живые гривы, по которым пробегали быстрые
волны, собираемые и расправляемые бахрома и оборки; в то же время они
вращаются, изменяются, улетают, столь же текучие, как и та текучая масса,
которая их сжимает, принимает их форму, поддерживает со всех сторон, уступает
им при малейшем сгибе и замещает их в их форме. <...> В их теле, сделанном
из эластичного кристалла, <...> нет ничего твердого, нет костей,
суставов, неизменных связей, частей, которые можно было бы пересчитать' (Валери
1965: 27). Медуза Валери - идеальная танцовщица прежде всего потому, что она не
имеет тела, она вся - лишь движение, лишь вибрация, лишь процесс. 'Несравнимая
субстанция', о которой говорит Валери, это субстанция прозрачная, исчезающая,
снимающая любые различия между внешней средой и телом. Именно в этой субстанции
обмен колебаниями между организмом и средой становится наиболее полным их
взаимопроникновением, приводящим практи-
________
18 Одним из наиболее приверженных к
плазматической эстетике художников был Сергей Эйзенштейн, осмысливавший свои
рисунки в категориях динамизма, метаморфизма и плазматичности. См. Эйзенштейн
1985: 269-276.
297
чески
к едва ли не окончательному исчезновению различия между ними. Используя
метафору, принятую в предыдущих главах, исчезает различие между лабиринтом, местом и телом, между телом и его
демоном. При этом вся эта 'хореография' возможна только благодаря существованию
некой тонкой мембраны, отделяющей протоплазму от среды. Мембрана эта -
поверхность, 'место' (см. Введение) - делает возможной непрерывную игру
деформаций, и составляющую 'танец'.
В
конце XIX века получают популярность идеи немецкого физиолога и цитолога Макса
Ферворна относительно механизмов движения органических тел. Ферворн свел эти
механизмы к неким законам движения одноклеточных. Первый 'закон' - это движение
вовне, целиком зависящее от внешней среды, и соответственное ему формирование
вытянутых протоплазменных тел, например тонких прозрачных нитей у фораминифер.
Пропагандист Ферворна во Франции Жюль Сури так описывает это первичное
движение:
'Подчиняясь,
как и любые жидкие или полужидкие массы, физическим законам текучих масс, голая
протоплазма истекает и создает течения' (Сури 1893: 37). Первичный закон ее
движения как бы целиком определяется осмотическими отношениями с внешней
средой. Однако это бесконечное истечение вовне сменяется сжатием, возвращением
протоплазмы к ядру, которое также вырабатывает химические вещества, необходимые
для существования протоплазмы. Поэтому закон клеточного движения - это
истечение вовне, неотделимое от сжатия. Клетка ведет себя так же, как
балерина-медуза у Валери, чьи складки стягиваются к центру и как бы
одновременно расправляются.
Айседора
Дункан построила свою 'концепцию' танца на переживании этого двойного движения
- центростремительного и центробежного одновременно:
'Я
<...> видела, как источник духовного выражения вливается в телесные
каналы, наполняя тело вибрирующим светом - центростремительной силой,
отражающей видение духа. Через много месяцев, когда я научилась концентрировать
всю мою силу в этом едином Центре, я обнаружила, что отныне, когда я слушала
музыку, музыкальные лучи и вибрации устремлялись к этому источнику света во мне
- здесь они отражались в Духовном Видении, в зеркале души, а не мозга, и уже
исходя из этого видения я могла выражать их в Танце...' (Дункан 1968: 72) Если
представить себе поведение такого тела в терминах мимесиса, то оно
действительно принимает форму среды, которая в момент сжатия как бы
транслируется внутрь, и одновременно форму ядра, которую оно передает наружу.
Важно, однако, подчеркнуть то, что ядра в той прозрачной форме, которую
воображает Валери, по существу нет - здесь нет ничего твердого, отделимого,
сочленяю-
298
щего.
Ядро исчезает в самом процессе передачи вибраций вовне (как тело мертвой Эммы
Бовари), который вместе с тем является и сжатием к центру.
Ядро
в данном случае имеет значение лишь потому, что оно является физической
манифестацией центра - этой геометрической фикции. Рудольф Арнхейм заметил, что
утверждения многих современных танцоров, будто движения их тела должны исходить
из центра, в принципе не соответствуют телесной механике:
'Обычные волевые акты не требуют участия всего тела. С
художественной же точки зрения такая локализация не удовлетворительна. Прежде
всего, экспрессия должна вовлекать в себя весь объем представленного' (Арнхейм
1966:263).
Центр
в такой системе имеет смысл лишь постольку, поскольку он как бы расширяет поле
экспрессивного, при этом создавая необходимое пространство для
'распространения', для развертывания и манифестации. Вместе с тем центр, хотя и
является мнимостью, геометрической фикцией, в такой миметической системе
неожиданно приобретает зримость. Когда Эли Фор захотел продемонстрировать,
какого рода форма возникает в результате фиксации вибраций (вместо твердых и
непроницаемых поверхностей тел), он привел в качестве примера так называемую
'стереодинамику цветочных формул'19.
Эти графы - просто сложные цветочные узоры, возникающие в результате
взаимоналожения повторяющихся ритмов. Все эти узоры, как и изображения
расходящихся волн, строятся вокруг центра - точки угасания и нейтрализации
колебаний. Таким образом, материальное тело, ритмизованное кинематографом и
танцем, по мнению Эли Фора, исчезает, являя образ некой геометрической мнимости
с ярко выраженным центром, который просто - иллюзия20.
Характерно,
что Дункан описывает свой 'центр' как источник света, а возникающий из него
танец как 'медленное движение к свету'. Идеальное женское тело заключает в себе
огонь, его же и сжигающий. Идеал женщины для Дункан - это сгорающая женщина. В
таких терминах она описывает, например, поразившую ее воображение Берту Бэди, в
которой она видела 'страстное пламя женщины, готовой быть уничтоженной огнем'
(Дункан 1968: 81). Такая женщина напоминает гофмановскую саламандру, сгорающую
в собственном пламени (подобные фантазии были определены Гасто-
_________
19 Формы, возникавшие в танце Фуллер,
в частности цветочные формы, относятся к той же категории динамических
вибрационных узоров Малларме определял их как элементарные формы, возникающие
из 'вращательной темы' - Малларме 1976 198
20 О центре как о фундаментальной
иллюзии, организующей восприятие изображений, см Арнхейм 1988
299
ном
Башляром как 'комплекс Гофмана')21.
То же самое она обнаруживает и в Лои Фуллер: '...она стала жидкой; она стала
светом; она стала всеми цветами и пламенем и в конце концов превратилась в
волшебные спирали огня, взлетающие к Бесконечности' (Дункан 1968:89).
Это
исчезновение тела и репрезентация процесса, как бы отменяющего само наличие
тела, по мнению Мэри Лайдон, и делает Лои Фуллер привлекательной для
символистов и, в частности, для Малларме, который в письме к Казалису так
сформулировал сущность символизма: 'Живописать не вещь, но тот эффект, который
она производит' (Лайдон 1988: 158). В описании Фуллер, сделанном Малларме,
доминируют два момента. Первый - это одновременная разнонаправленность движений
и ритмов, которые проявляются в теле танцовщицы. Благодаря разлетающимся тканям
ее тело как бы распространяется вовне, но это распространение постоянно
принимает форму сжатия, возвращения к центру. В этом смысле Малларме близок
теории органического движения Ферворна. Он описывает танец как постоянный отлет
вовне и 'возвращения, вибрирующие как стрела' (Малларме 1976:193). И вторая
черта - исчезновение собственно тела за этими разнонаправленными и
противоборствующими волнами. По мнению Малларме, тело танцовщицы 'возникает
лишь как ритм, от которого все зависит и который скрывает тело' (Малларме 1976:
201). Эта загадочная формула становится понятной в свете более поздних
разъяснений Эли Фора.
Разрушительное
для тела самообнаружение ритма, пожалуй, лучше всего видно именно в теле огня,
которое Валери определил как 'неуловимую и гордую форму самого благородного
разрушения' (Валери 1970: 143). Один из наиболее известных танцев Фуллер
назывался Танец Огня. Фуллер впервые применила здесь цветное освещение снизу.
Для исполнения этого танца в полу вырезался люк, который покрывался толстым
стеклом, на котором и появлялась Фуллер в свете восходящих кверху лучей,
окруженная пеной легких тканей. Рецензенты единодушно отмечали поразительный
эффект пламени, которого добивалась танцовщица:
_________
21 Башляр определил как 'комплекс
Гофмана' фантазии, в которых главным качеством огня является текучесть, связь с
жидкостью, например спиртом К этому же комплексу он отнес старый и устойчивый
миф о самовозгорании человеческих тел (Башляр 19б5а 139-159) Описания
самовозгорания человеческих тел можно найти у Диккенса, Мелвилла, Золя Одно из
самых странных описаний этого явления можно обнаружить в раннем американском
романе Чарльза Брокдена Брауна 'Виланд, или Превращение' (1798) Самовозгорание
здесь сопровождается оглушительными взрывами и необычными физическими явлениями
такого, например, рода 'Сияние, распространившееся и вдаль и вширь, в один
момент исчезло, но здание было наполнено лучами' (Браун 1926- 18). Самовозгорание
тела у Брауна - прежде всего зрелище, манифестация тела в причудливых формах, в
том числе и в формах излучения.
300
'...Мощный поток огня как будто поглощал ее, освещая
ее драпировки снизу, изнутри ее юбок в той же степени, что и снаружи. Она
казалась массой живого огня, а ее шарфы - большими языками пламени' (Цит. по:
Соммер 1975:60). В какой-то момент казалось, что огонь иссякает:
'Тогда
на вуаль падали тени, которые в точности воспроизводили тяжелый черный дым,
неожиданно снова превращающийся в жгучее пламя, как будто огонь разгорелся
вновь' (Сайнтифик Американ 1896)22.
Огонь манифестирует себя, разрушая свой собственный источник. В каком-то смысле
он репрезентирует то, что разрушает. В нем явление принимает форму сокрытия23. Сгорающее являет себя в наиболее
впечатляющей форме только для того, чтобы исчезнуть. Валери, сравнивший
танцовщицу с огнем24, писал, что
пламя - это само воплощение момента (Валери 1970: 143). Валери прав в том
смысле, что огонь выражает идею становления, идею существования во времени. Он
отрицает понимание тела как неизменности, а потому отчасти и само тело как
таковое25 Огонь - одновременно и
отрицание любой формы и совокупность всех возможных, всех потенциальных форм26. Пиромания рубежа веков явно смаковала этот
формальный парадокс. Д'Аннунцио в романе 'Огонь' (1908) дает характерное
описание огненного миража, порожденного отблеском солнца в зеркале венецианской
лагуны. Существенно, что сам эффект огня создается за счет умножения, отражения
'вокруг глубокого зеркала, умножавшего чудеса', по выражению Д'Аннунцио. Сам
эффект огня возникает отчасти за счет миметических процессов, вводящих
дублирование и искажение:
'Удивленные глаза не отличали больше ни контура, ни
качества составных частей, все они, подвешенные в вибрирующем эфире, были
зачарованы подвижным видением, в котором формы жили ясной и текучей жизнью
<...>; пучки пламенеющих стеблей с непрекращающимся треском сходились в
зените и распускались розами, лилиями, пальмами, создавая воздушный сад,
беспрерывно саморазрушавшийся и возобновлявшийся во все более пышном и странном
цветении' (Д'Аннунцио б.г.. 95-96)
_________
22 Выражаю благодарность Джули
Андерсон, указавшей мне на эту статью
23 См замечания Хайдеггера о
понимании огня у Гераклита (Хайдеггер 1984 117,121)
24 По мнению Фрэнка Кермода, Валери
имел в виду Лои Фуллер (Кермод 1976 45)
25 Беттина Кнепп подчеркивает, что
танцор для Валери - это еще не реализовавшееся тело, 'образ до образа', 'след
памяти, несформировавшаяся субстанция, нематериализованная энергия, материя,
еще не распавшаяся на частицы', одним словом, чистая потенциальность (Кнепп
1983 138)
26 О протеизме огня см Эйзенштейн
1985а 224-236
301
Любопытно,
что очертания, возникающие в этом огненном мираже, те же, что в танцах Фуллер,
- это прежде всего растительные формы, легко создаваемые вращением.
Формы
эти оживают в огне, танец же является знаком такого метаморфического анимизма,
как, например, в описании пожара у Рашильд:
'Алые
потоки вихрями спускались с потолков, где лепнина и розетки оживали, наделенные
фантастической жизнью. Все жестикулировало. Золоченая и разрумяненная мебель
танцевала в странном танце, сдвинутая с места могучими руками' (Рашильд 1897:
374).
В
огне формы оживают и удваиваются, они анимируются, приобретая отчетливый
оттенок двойничества. Горящее тело всегда как бы находится рядом с самим собой,
вне 'места' своего обычного расположения. Не случайно в древности существовали
представления о пламени, встающем над головою героев, как проявлении их
демонических двойников27.
Это
двойничество связано с тем крохотным промежутком времени, в который вписывается
отлетающая от тела огненная форма. Огонь функционирует как исчезающая в
пространстве и времени память, ведь каждый фрагмент его неуловимого тела значим
лишь в той мере, в какой он родился при разрушении тела, в какой он несет
память об этом разрушении. Но эта 'память' о разрушении - не просто нечто
исчезающее, но, как подобает памяти, постоянно возобновляющееся, воистину
манифестирующее становление. Во втором описании Танца Огня каждое исчезновение
огня в дыме - некое вторичное превращение знака, еще одно указание на
разрушение (разрушение самого огня) - вызывает новую его вспышку. Огонь как
будто сам порождается через собственное исчезновение. Исчезновение с неизменной
повторяемостью выступает как источник явления Кроме того, отлетание огня от
центра сочетается с неудержимым стремлением к центру. Огонь действительно
центростремителен и центробежен одновременно28.
Время
играет большую роль в этой игре явлений и сокрытий по нескольким причинам. С
одной стороны, движение складок тканей всегда манифестирует только прошедшее и
будущее, их настоящее
___________
27 Представления о таком свечении
закрепились в изображениях нимбов, ореолов над головами святых История этих
представлений изложена в работе Онианс 1954 148-167 28 Станислас Бретон пишет о способности огня
'одновременно выходить из себя и оставаться в себе' (Бретон 1988 100) Бретон
указывает на связь взлетающего пламени с некой тяжестью, гнетущей огонь к земле
'Не является ли пепел той подвижной почвой, в которой он нуждается для того,
чтобы вновь подняться в ритме arsis'a
и thesis'a, укоренения и восхождения?
Тогда из мифа в миф будет воспроизводиться эта связь тяжелого и легкого,
тяжести и невесомости и, если уж на то пошло, материи и света' (Бретон 1988 98)
302
эфемерно,
как эфемерен статус любой репрезентации. Кеннет Кларк заметил по поводу складок
на одежде античных скульптур:
'Драпировка,
облегающая плоскость или контур, подчеркивает вытянутость или поворот тела;
развевающаяся драпировка делает видимой линию движения, через которую тело
только что прошло. <...> Драпировка, выявляя линии сил, указывает на
прошлое и возможное будущее любого действия' (Кларк 1956: 245).
Линии
сил или 'видимая линия движения' в реальности не существуют, они являются
порождением аккумуляции прошлых моментов в рисунке драпировок. Драпировки
действуют как симулякры, отлетающие от тела, но не исчезающие мгновенно, а как
бы накапливающиеся в самой материи тканей в виде линий. Делёз заметил по поводу
симулякров у Лукреция (которые исходят из тела подобно вибрациям и излучениям
Ледантека), что их связь с тем телом, которое они репрезентируют, укоренена во
времени, в скорости производства этих симулякров. Поскольку симулякр
репрезентирует лишь кратчайшее, неуловимое для восприятия мгновение, он
остается невидимым для глаза:
'Таким
образом, симулякр чувственно не воспринимаем, воспринимаем лишь образ, который несет качество и который
состоит из очень быстрой последовательности, из совокупности множества
идентичных симулякров' (Делёз 1969:371).
Линии,
прочерчиваемые движением в ткани, принадлежат именно образу. Но это означает, что вибрация тканей отсылает к чему-то
необнаружимому в самом теле. Само определение драпировок Фуллер как усилителя,
делающего видимым невидимое, предполагает некое отсутствие, некую неполноту в
самом теле, компенсируемую наличием тканей. Ткань, вуаль, отделяющая нас от
тела, раскрывает в теле нечто без нее не обнаружимое. Сокрытие тела делает
возможным видение. Но тело выявляет нечто к нему уже непосредственно не
относящееся, нечто существующее вне его или данное ему в виде отсутствия (вроде
'центра' Дункан)29.
В
танце Фуллер ткани вибрируют из центра, вписанного в тело танцовщицы, но вместе
с тем они не повторяют контуров тела. Тело, выявляя себя в движении драпировок,
полностью исчезает за ними, исчезает за репрезентацией вибраций, которые телом
не являются, которые в каком-то смысле внешни по отношению к нему. Жак Деррида,
обсуждая драпировки, отлетающие от тела как некие parerga по отношению к телу как ergon'y,
заметил:
________
29 Арнхейм указывал, например, на
способность драпировок создавать центр тела: 'Драпировки на Артемиде
подчеркивают мощь центра в середине тела. Любое изменение формы или позы,
однако, может смещать композиционные центры или создавать новые' (Арнхейм 1988.
27).
303
'Отсутствие
или квазиотделение проявляются внутри произведения (или, что то же самое, когда
речь идет об отсутствии, не проявляются) не потому, что они [одежды]
отделяются, а потому, что они отделяются с трудом. В parerga их превращает не просто их положение внешнего привеска, они
связаны с отсутствием внутри ergon'a структурной
связью' (Деррида 1978: 69).
Эта
структурная связь с неким зиянием внутри 'привязывает' драпировки к отсутствию
в теле30, а в случае с Фуллер эта
связь устанавливается с неким вибрирующим центром. Отлетающие ткани порождают
само понятие центра как место встречи
вибраций - то есть как некое пустое пространство - отсутствие.
Существенно,
что ткани в танце Фуллер не отражают форму тела. Именно потому, что они
автономны от всякой скрытой в них телесной формы, они репрезентируют вибрации как таковые, ритм как таковой.
В постклассический период ткани начинают играть в изображениях роль не меньшую,
чем тело. Постепенно происходит процесс их автономизации от тела. Согласно
замечанию Анн Холландер, 'природа человека и природа одежды отныне не
рассматривались как восходящие к единому источнику' (Холландер 1980: 15).
Одежды в отличие от тела начинают репрезентировать духовную субстанцию и
приобретают как бы большее благородство, чем грешная и смертная плоть31. Но для того, чтобы репрезентировать
духовное, а не телесное, ткани должны нарушать отношения простой имитации по
отношению к телу. Они должны обрести ту независимость по отношению к скрытому в
них телу, которая характеризует их, например, на полотнах Эль Греко32. Ткани, первоначально осмысливаемые как
'двойник', как 'демон', как симулякр тела, постепенно заменяют свой собственный
оригинал. Диаграмматичность в них
окончательно порывает с традиционной семиотикой. Означаю-
_______
30 Рашильд дает хорошую тому
иллюстрацию. В романе 'Les hors nature' герои Поль играет с белым дамасским
шёлком, складки которого как бы оживают и являют его взору некое отсутствующее
тело, вписанное в драпировки именно как манифестация отсутствия тела, то есть
бытие и небытие одновременно. Рашильд описывает возникающее псевдо-тело как
'мертвую красоту' и определяет видение как 'иллюзию иллюзии' (Рашильд 1897:
78-80).
31 Холландер приводит
пример использования ткани в ренессансных изображениях ангелов. 'Казалось бы,
безногие ангелы ренессансного искусства поднимаются вверх не столько силой
крыльев, сколько торжественно собранными массами юбок, скрученных в узлы, юбок,
которые не одевают, но, по видимости, замещают собой неангельские и неуклюжие
конечности. Одежда не только лучше плоти, не только отмечена более чистой
красотой, её можно также рассматривать как более святую, а потому и более
подходящую для изображения всего райского. В конце концов, она не подвержена
греху' (Холландер 1980: 16). Этот пример любопытен тем, что показывает, как
ткани не просто прикрывают тело, но буквально вводят в него 'отсутствие', они буквально уничтожают ноги.
32 См. об этом, а также
о репрезентации транссубстанциации через изображение одежды в работе: Перниола
1989
304
щее
больше не отсылает к телу как означаемому. Комплекс ткани - тело, возникающий
как диаграмматическая машина, начинает работать в непредвиденном режиме,
отрицающем сдвоенность конституирующих ее частей. Ткани должны перестать
репрезентировать что-либо иное кроме самих себя. Гипнотический эффект, который
производит движение складок (близкий гипнотическому эффекту пламени), отчасти
связан с этим саморазоблачением репрезентативности. Ведь по своей природе
складки тканей должны, казалось бы, обнаруживать что-то лежащее за ними вроде
тела, или хотя бы некую формирующую их абстракцию- вроде линии сил или следа
движения. Но след сил и движения оказывается лишь нерепрезентативной
диаграммой.
Олдос
Хаксли оставил интересный документ, описание своих ощущений, возникших в
результате употребления мескалина. Чувственный мир под воздействием наркотика
изменился, и в нем неожиданно большое место заняли складки тканей. По сравнению
с нищетой гладкой видимой плоти складки предстали как некое буйство фантастической
экспрессивности. По мнению Хаксли, интерес складок заключается как раз в том,
что они 'нерепрезентативны' (non-representational). Они странны, абстрактны,
излишни, но только не репрезентативны:
'Для
художника, как и для того, кто принимает мескалин, драпировки - это живые
иероглифы, которые с какой-то странной экспрессивностью выражают невыразимую
тайну чистого бытия' (Хаксли 1959: 29).
Именно
поэтому танцовщица, исполняющая серпантинный танец, может быть кем угодно, но
только не самой собой. Малларме задолго до Хаксли назвал Лои Фуллер
'иероглифом', который может принимать обличие разных элементарных форм, который
может быть бабочкой, цветком, чем угодно, но только не танцовщицей. Становление
выражает себя в формах аннигиляции телесности. Хайдеггер, комментируя
Парменида, заметил, что Бытие дается нам неотрывно от его забвения в виде некой
двусторонней складки, на которой небытие, темнота неотделимы от света и Бытия
(Хайдеггер 1984: 87). Огонь постоянно дублируется исчезновением, невидимым,
неявленным. И ткань, полет ее складок - хорошая тому метафора.
И
это вновь возвращает нас к тропизму между серпантинным танцем и кинематографом.
Кинематографический образ по своей 'онтологии' оказался созвучен образам
хореографии Фуллер. Он также возникает как совокупность множества мгновенных
симулякров, отделяемых от тела со сверхвысокой частотой (24 симулякра в
секунду). Но, что самое важное, он также манифестирует бытие в формах
аннигиляции телесности. Правда, в хореографии Фуллер исчезновение тела и
подмена его некой образной фикцией, неким
305
мистическим
'излучением' составляет основной сюжет танцев. В кино дело обстоит иначе.
Фикция, подменяющая тут тело, старается скрыть свою фиктивность. В этом смысле
танец Фуллер откровенней и наглядней выражает парадоксы репрезентации, которым
причастен и кинематограф.
***
В
танце Фуллер мы имеем диаграмму, отрывающуюся от тела. Тело исчезает, оставляя
след своих вибраций, постоянно изменяющееся место деформаций, складку, ткань,
поверхность, ленту. Тело не просто получает здесь некоего внетелесного
двойника-демона. Исчезая, оно теряет глубину. Вибрационная машина здесь
действует таким образом, что дублирующий тело след оказывается чистой
поверхностью, по существу не соотнесенной с телом, границей сред, отражающей на
себе силы и напряжения. Трехмерное тело уплощается и исчезает, 'удваиваясь' в
ленте.
Как-то
Жан-Франсуа Лиотар попытался описать 'либидинальное тело' как 'лабиринтную'
ленту Мёбиуса, гигантскую мембрану:
'Она
сделана из самых разнородных фактур, костей, эпителия, листов писчей бумаги,
газов, предназначенных для вибрации, металлов, стекла, людей, трав, холстов,
готовых для живописи. Все эти зоны соединены друг с другом на ленте, не имеющей
оборотной стороны, на ленте Мёбиуса, интересной не тем, что она замкнута на
себя, а тем, что одностороння, коже Мёбиуса, но не гладкой, а (возможно ли это
с точки зрения топологии?) наоборот, покрытой неровностями, закоулками,
складками, пещерами...' (Лиотар 1974:11)
Это
воображаемое ленточное тело Лиотара все испещрено деформациями на грани
топологически возможного. Неровности, складки, пещеры - это следы силовых
воздействий, следы вибраций, сохраняющиеся на границе. Фуллер, исчезающая в
колебаниях тканей, предлагает эстетизированный вариант такой телесной
метаморфозы в качестве своего 'открытия', эстетической революции, превращающей
диаграмму в основное содержание нового зрелища.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тело
движется в лабиринте, в пространстве, расчерченном маршрутами. Тело вписывается
в некое место, трансформируется от обживания этого места. Оно деформируется,
становится непохожим на самого себя и как бы удваивается 'собой прошлым',
двойником, демоном. Тело исчезает в лабиринте, умножается им и оставляет вместо
себя свое миметическое подобие, двойника, демона.
Такого
рода ситуации часто встречаются в разного рода текстах. Кто же этот демон
деформаций и диаграмм, возникающий в текстовом лабиринте? Иногда мы можем дать
ему имя персонажа или даже 'столкнуться' с ним лицом к лицу, как это случилось
с героем джеймсовского 'Веселого уголка' (см. главу 4). Порой персонаж как
будто удваивается и обнаруживает своего двойника в зеркале (Чичиков, Голядкин).
Иногда этим двойником оказывается сам повествователь, как в романе Рильке. И
хотя Рильке пытается представить в качестве 'демона' странного больного субъекта,
которого он преследует, демоном оказывается он сам, его alter ego, ведущее
рассказ. Именно рассказчик подвержен мании миметического копирования.
Но
чаще всего демон лабиринта не возникает на страницах повествования, на экране
или на сцене. Этим невидимым демоном является сам читатель или зритель. Именно
он должен так войти в пространство текста, так превратить его в 'место' своего
пребывания, чтобы начать миметически испытывать игру сил на своем собственном
теле. Именно читатель или зритель связан с персонажем или повествователем
связью 'бесперспективного видения'. Именно он бредет за Жаном Вальжаном в
парижских катакомбах, именно он загипнотизированно следит за движением складок,
скрывающих исчезающее тело Фуллер, именно он проецирует 'гримасы' с тела на
лицо у Кулешова. Диаграмма в таком контексте оказывается не просто следом
деформации, она оказывается прописью деформации, миметически переживаемой
читателем или зрителем. Читатель оказывается в положении двойника, демона,
'преследователя' и тем самым вписывает в свое тело текст как лабиринт
собственной памяти. Память текстов вписывается в опыт читательского тела как
диаграмма.
Диаграмматическое
переживание текста первично, оно предшествует любому акту понимания и
преобразует текст в опыт телесности, который не может быть стерт. Когда
рильковский 'субъект' выполняет непредсказуемые конвульсивные антраша, он
навязывает идущему за ним автору и читателю такое же конвульсивное поведе-
307
ние,
смысл которого именно в непредсказуемости и амплитуде телесных деформаций. Эти
чисто энергетические, силовые характеристики существенны потому, что, в отличие
от плавного и автоматизированного поведения, они нарушают привычную схему тела,
а потому вписывают различие в телесную диаграмму, делают ее неповторимой, индивидуальной,
незабываемой.
Опыт
чтения тем интенсивней вписывается в тело зрителя, чем меньше он нагружен
интеллектуально и обращается к рассудку. Знаки, тропы только присоединяются к
диаграмме, организующей чтение.
Эмблематически
ситуация взаимоотношений персонажей, автора и читателя выражена в 'Голоде'
Гамсуна, некоторые фрагменты которого как будто предвосхищают рильковские
'Записки Мальте Лауридса Бригге'. Гамсун был особенно чувствителен к ситуациям
странных, непредвидимых встреч. В 'Голоде' он описал злоключения неудачливого
молодого литератора, как и в романе Рильке, двойника самого автора. Гамсун
уделил большое место блужданиям героя по улицам Христиании, часто строя эти
блуждания по модели невротического двойничества. В самом начале романа герой (он
же рассказчик, он же писатель) бредет по улице за старым калекой, постоянно
преграждающим ему путь:
'Но
старый калека все так же шел впереди меня, уродливо напрягаясь на ходу. В конце
концов меня стало раздражать, что старик все время идет передо мною. <...
> Я так разволновался, что мне казалось, будто на каждом перекрестке он
замедляет шаг и как бы ждет, куда я поверну, а потом он вскидывал свой узел
повыше и прибавлял шагу, чтобы опередить меня. Я иду, всматриваюсь в этого
несчастного калеку и проникаюсь все большим и большим ожесточением против него.
<...> Он был похож на огромное искалеченное насекомое, которое упорно и
настойчиво стремится куда-то и занимает собой весь тротуар' (Гамсун 1991: 23).
Естественный
ритм движения героя нарушается от встречи с калекой, который навязывает
рассказчику невротический ритм своего больного и старого тела. Эта встреча
меняет все поведение рассказчика, который через короткое время встречает
молодую даму в сопровождении спутницы. Он называет ее про себя несуществующим именем
Илаяли и начинает ее преследовать. Прежде всего он резко подходит к ней и
говорит: 'Вы потеряете книгу, фрекен'. За этой странной репликой (в руках
женщины нет никакой книги) следует непредсказуемая хореография преследования
дамы:
'Но
злобное упорство не покидало меня, и я пошел за ней. Конечно, в тот миг я
вполне сознавал, что совершаю безумство, но был не в силах преодолеть его;
волнение влекло меня вперед, заставляло делать нелепые движения,
308
и
я уже не владел собою. Сколько ни твердил я себе, что поступаю как идиот, ничто
не помогало, и я корчил за спиной дамы преглупые рожи, а обогнав её, громко
кашлянул. Теперь я медленно шел впереди, держась в нескольких шагах от нее,
чувствовал ее взгляд у себя на спине и невольно потупил голову от стыда, что
так отвратительно веду себя с нею. Мало-помалу мною овладевает странное
ощущение, что я где-то далеко отсюда, во мне рождается смутное чувство, что не
я, а кто-то другой идет по этим каменным плитам, потупив голову.
Через
несколько минут, когда дама подошла к книжному магазину Паши, я уже стоял у
первой витрины, шагнул ей навстречу и повторил:
-
Вы потеряете книгу, фрекен.
-
Но какую книгу? - спрашивает она в испуге. - О какой он книге говорит?
И
она останавливается. <...> Ей не понять той отчаянности, которая движет
мною; у нее нет решительно никакой книги, ни единого листка, но она все-таки
ищет в карманах своего платья, смотрит себе на руки, вертит головой,
оглядывается назад, напрягает свои нежные мозги, пытаясь понять, о какой книге
я говорю. Она то краснеет, то бледнеет, на лице одно выражение сменяется
другим, я слышу, как тяжело она дышит <...>. Как ни был я в тот миг далек
от самого себя, совершенно подчиненный странным незримым силам, все же ничто
вокруг не могло ускользнуть от моего внимания. <...> У обеих дам,
стоявших предо мною, были синие перья на шляпах и шотландские шелковые шарфы на
шее. Мне показалось, что они сестры' (Гамсун 1991: 26-27).
Деформированность
телесной пластики, спровоцированная калекой, порождает немотивированные ужимки
и гримасы рассказчика, которые как бы дистанцируют повествователя от него
самого, вызывают у него ощущение, что он находится где-то далеко, что по улице
вместо него идет кто-то другой, а сам он подчиняется действию неконтролируемых
внешних сил. Этот другой - уже трансформированная, демоническая ипостась
автора, это уже читательская тень его. Читательская тень окончательно
материализуется возле книжного
магазина и в связи со странным мотивом падающей книги. Теперь в игру двойников вовлекается прохожая, которой передается
конвульсивность тела рассказчика. Органика поведения Илаяли также миметически
нарушается, она нервно ищет несуществующую книгу, 'смотрит себе на руки, вертит
головой, оглядывается назад', 'то краснеет, то бледнеет, на лице одно выражение
сменяется другим' и т. д. Сквозь тело ее явно идут токи чужого тела, она в свою
очередь подвергается деформации и обретает собственного двойника - спутницу,
неожиданно обнаруживающую с ней сходство.
309
Мотив
несуществующей книги в руках Илаяли представляется мне эмблематичным во всей
этой цепочке мимикрий и деформаций. Женщина, конечно, не может найти книги,
потому что ее физически нет. Но одновременно она сама попадает в книгу,
становится и ее персонажем и ее читателем. И эта трансформация, этот
удивительный опыт чтения связан с той пантомимой, которую навязывает ей
рассказчик. Илаяли не имеет книги, но безнадежно ищет ее, вписывая ее
отсутствие в моторику своего тела в качестве жестов, исследующих пустоту.
Несуществующая книга вписана в тело Илаяли в виде невидимой диаграммы. Не имея
книги, женщина как будто читает ее. Позже, когда герой вновь встречается с
Илаяли и пытается сблизиться с ней, закономерным образом отсутствие всяких
жестов кажется ему непременным условием их отношений. Он как будто боится
пробудить фальшивую литературность той моторики, которую он уже вписал в Илаяли
в качестве нестираемой диаграммы:
'Я
даже не показываю пальцем, право, даже не показываю, не делаю этого, чтобы не
испугать вас, я только киваю и устремляю туда взгляд, вот так!' (Гамсун 1991: 126).
Лабиринт
рассматривался на страницах этой книги как мнемонический образ, как
экстериоризированная память другого, в которую погружается идущий по нему.
Деформация телесного образа, жестикуляция могут быть такими мнемоническими
лабиринтами. Лабиринт - это прежде всего диаграмма, 'каллиграмма' текста. Но и
человек (автор, читатель, персонаж) может быть вписан в текст на правах
каллиграммы (ср. с каллиграммой чеховского тела в фильме Сокурова). В рассказе
Борхеса 'Сад расходящихся тропинок' есть образ лабиринта-книги, созданной
китайским каллиграфом Цюй Пэном. Я хочу кончить свою книгу цитатой из Борхеса,
относящейся к созданию Цюй Пэна:
'...Однажды Цюй Пэн сказал: "Я ухожу, чтобы
написать книгу", а в другой раз: "Я ухожу, чтобы построить
лабиринт". Всем представлялись две разные вещи; никому не пришло в голову,
что книга и лабиринт - одно и то же' (Борхес 1984:90).
ПРИЛОЖЕНИЕ*
1. Антонен Арто. 'СТРАДАНИЯ 'DUBBING'A'
Звуковое
кино оказалось свидетелем рождения странных профессий, странных должностей и
странных видов деятельности. К их числу относится некая гибридизированная
процедура, не признаваемая хорошим вкусом, не удовлетворяющая ни глаз, ни слух,
но тем не менее насаждаемая Америкой и признаваемая широкой французской
публикой, - это то, что называют на киножаргоне 'dubbing'ом' и что
соответствует французскому слову 'дубляж', правда с оттенком чего-то более
совершенного и более ученого, нежели простой дубляж.
Хронологически
'dubbing' появляется вслед за обыкновенной синхронизацией. Звуковому кино
кажется, что оно добилось абсолютной синхронизации звука и изображения, но
очень часто в момент их совместного представления они отделяются друг от друга,
дело не ладится, и в кино чаще, чем об этом думают, обращаются к обычному
дубляжу, звуки накладывают на изображение после съемок, а актеров просят у
микрофонов и без камер повторять те сцены, которые требуют абсолютной
одновременности. Простой дубляж, обыкновенную синхронизацию использовали в
хвост и в гриву. В звуковые фильмы на всех языках, в том числе и на языках с
тоническим ударением, требующих от актеров удивительной гимнастики лицевых
мышц, постарались внедрить определенное произношение, единообразное французское
произношение, монотонное и ничем не нарушаемое, производящее такое же
впечатление, как если бы великолепная гроза попискивала каким-то 'пи-пи'.
Это
было время, когда французские фирмы-однодневки, бывшие акробаты, в одночасье
ставшие торговцами фильмами и все еще колесящие со своим кинематографическим
хламом, оптом покупали на ярмарках и рынках скота немые ленты и дублировали их
с помощью какой-нибудь звезды провинциальной сцены. Впрочем, фильмы эти так
никогда и не вышли за пределы провинции.
Там,
где на экране немецкая или американская звезда вскрикивала и закрывала рот, в
динамиках слышался рокот раскатистого ругательства. Там, где звезда, покусывая
губы, издавала что-то вроде присвиста, слышался гулкий бас, шепот или бог знает
что. Если
_________
* Переводы М. Ямпольского.
311
случайно
дублированный подобным образом фильм показывался в кинотеатре на бульварах или
в ином месте, зрители с полным на то основанием поднимали ор. В начале
звукового кино в залах переломали немало мебели.
Но,
совершая глупость за глупостью, кино в конце концов ощутило себя
изобретательным. За редким исключением, никому не приходило в голову делать
хорошие фильмы во Франции. К тому же у нас нет своей манеры. Иными словами,
традиции. В Америке были и традиция и техника. Не будешь же в конце концов
отказываться от звуковых американских фильмов под тем предлогом, что они
сделаны на языке, непонятном во Франции. С другой стороны, было уже невозможно
предлагать зрителям эти приблизительные дубляжи, ограничивавшиеся переложением
текста с одного языка на другой. И тогда в Америке родилась новая
изобретательная идея: Америка придумала 'dubbing'. 'Dubbing' означает дубляж,
но с соответствием звука и произношения. Это было просто! Мы все об этом
думали. Но нужно было это осуществить, и Америка это сделала.
Отныне
в тонстудиях стали думать о лицевых мышцах актеров. Определенному открытию рта
на языке оригинала, на котором снимался фильм, должно было соответствовать
такое же открытие рта, аналогичный трепет лица в языке синхронизатора. И именно
тогда-то и началась комедия. Не экранная, но жизненная. Комедия актеров всех
мастей, которые жаждут синхронизировать просто потому, что отныне повсюду
синхронизируют, комедия бессилия, страданий и нелепостей 'dubbing'a'.
Прежде
всего, есть трагикомедии 'Метро-Голдвина', 'Юниверсал' или 'Фоке', нанимающих
французских актеров и актрис за ничтожные деньги в сто двадцать - сто пятьдесят
долларов в неделю, а затем увольняющих их по истечении трех месяцев. Кто эти
актеры? Бездари? Вроде бы нет. Неудачники? Возможно! Авантюристы? Кое-кто.
Известные актрисы, но уже не созвучные ни эпохе, ни репертуару, чей буйный
темперамент не может приладиться к нашему театру провинциальных вуаеров или
вышедших в отставку и лишенных воображения садистов. Эти актрисы отправляются в
Америку в каютах второго класса, увозя с собой гардероб, чьи цвета не осмелится
выжечь никакое солнце. Они вложат свои французские голоса в тяжелый рот Марлен
Дитрих, в мясистый и твердый- Джоан Кроуфорд, в лошадиный рот Греты Гарбо. Для
женщины, привыкшей играть всем своим телом, для актрисы, думающей и чувствующей
всей своей внешностью в той же мере, что и головой и голосом, для актрисы,
вкладывающей все во внешность, привлекательность и знаменитый 'sex-appeal',
подобная жертва очень тяжела. Но она еще сносна по сравнению с тем ужасом, с
моей точки зрения, совершенно дьявольским, который уготован настоящим актерам
директорами американских фирм и, в частности, г-ном Аленом
312
Биром
из парижского 'Метро-Голдвин-Майер' (я расспрашивал его по этому поводу),
ужасом, которого они не намерены признавать. Речь идет о личности и, я бы
сказал, о душе, существование которых столь развитая американская цивилизация
считает полезным для себя отрицать. Или, вернее, она отрицает их, когда это
выгодно для ее бизнеса. Тогда же, когда речь идет о более или менее
сфабрикованной личности звезды, обожаемой толпами, Америка готова сжечь любые
иные соображения на алтаре этой личности. Она считает правильным и совершенно
оправданным, чтобы эта личность, новый Молох, поглотила все остальное.
(Арто 1978: 85-87)
2.
Хорхе Луис Борхес. ПО ПОВОДУ ДУБЛЯЖА
Комбинаторные
возможности искусства не бесконечны, но часто они пугающи. Греки породили
химеру, чудовище с головами льва, дракона и козы; теологи II века - Троицу, в
которой неразделимо сочленены Отец, Сын и Дух; китайские зоологи - Цзы-ян,
сверхъестественную пурпурную птицу с шестью лапами и четырьмя крыльями, но без
лица и глаз; геометры XIX века -
гиперкуб, четырехмерную фигуру, содержащую бесконечное количество кубов и
ограниченную восемью кубами и двадцатью четырьмя плоскостями. Голливуд обогатил
этот бесплодный тератологический музей; благодаря хитрости, называемой
'дубляжом', он предлагает нам чудовищ, сочетающих знаменитые черты Греты Гарбо
с голосом Альдонсы Лоренсо. Как же не обнародовать того изумления, которое мы
испытываем перед лицом этого удручающего чуда, перед этими хитроумными
фонетико-визуальными аномалиями?
Сторонники
дубляжа (возможно) приведут тот довод, что возражения, которые он вызывает,
могут быть в равной мере приложимы к любому случаю перевода. Этот довод
игнорирует или обходит стороной главный недостаток дубляжа: произвольную
пересадку иного голоса и чужой речи. Голос Хепберн иди Гарбо не является чем-то
несущественным: для мира он один из атрибутов, их определяющих. Следует также
напомнить, что мимика английского языка отличается от мимики испанского1.
Говорят,
в провинции дубляж пришелся по вкусу. Но это не более чем довод силы; что же
касается меня, то до тех пор, покуда соб-
___________
1 Многие зрители задаются вопросом:
коли существует узурпация голоса, почему бы не быть узурпации внешности? Когда
же эта система будет доведена до совершенства? Когда же мы непосредственно
увидим Хуану Гонсалес в роли Греты Гарбо в роли шведской королевы Кристины?
313
ственные
умозаключения connaisseurs из Чилечито или Чивилькоя не опубликованы, я не
отступлюсь от своего. Говорят, что дубляж кажется изумительным или хотя бы
терпимым тем, кто не знает английского. Мое знание английского менее
совершенно, чем незнание русского; но несмотря на это я соглашусь пересмотреть
'Александра Невского' только на том языке, на котором он был снят, и я с
энтузиазмом посмотрю его в девятый или в десятый раз, если он будет идти на
языке оригинала или на том языке, который я сочту за язык оригинала. Это
последнее замечание существенно: общее сознание подмены, обмана хуже дубляжа, хуже
той подмены, которую дубляж в себе заключает.
Нет
такого сторонника дубляжа, который бы в конце концов не вспомнил о
предначертанности и предопределенности. Они клянутся, что это средство - плод
неумолимой эволюции и что скоро мы окажемся перед выбором: либо смотреть
дублированные фильмы, либо не смотреть фильмов вовсе. Принимая во внимание
упадок мирового кино (которому едва ли в состоянии противостоять одинокие
исключения вроде 'Маски Димитрия'2),
второй вариант - не особенно болезненный. Ахинея последнего времени - я имею в
виду 'Дневник нациста'3 из Москвы и
'Историю доктора Васселя'4 из
Голливуда - делает второй вариант чем-то вроде негативного рая. Sight-seeing is
the art of disappointment5, - заметил
Стивенсон; это определение подходит кинематографу, а также - удручающе часто-и
тому непрерывному упражнению, которое нельзя перенести на потом и которое
называется 'жизнь'.
(Борхес 1979: 87-89)
____________
2 Фильм режиссера Ж. Негулеско, США, 1944. (Прим. пер.)
3
Испанское прокатное название 'Боевого киносборника' ? 9, реж. М. Донской и И.
Савченко, 1942. (Прим. пер.)
4
Фильм реж. С. Де Миля, США, 1944. (Прим.
пер.)
5
Осмотр достопримечательностей - это искусство разочарования (англ.).
Абраам-Торок 1987: Nicolas
Abraham, Maria Torok. L'ecorce et le noyau. Paris, Flammarion.
Абрамс 1973: M. H.
Abrams. Natural Supernaturalism. Tradition and Revolution in Romantic
Literature. New York, Norton.
Августин 1963: The
Confessions of St. Augustine. New York- Scarborough, New American Library.
Агамбен 1993:
Giorgio Agamben. Stanzas: Word and Phantasm in Western Culture. Minneapolis -
London, University of Minnesota Press.
Адорно 1990:
Theodor W. Adorno. The Curves of the Needle. - October, n 55, Winter 1990, p.
49-55.
Аксаков И. С. 1981:
Несколько слов о Гоголе. - В кн.: К. С. Аксаков, И. С. Аксаков. Литературная
критика. M., Современник, 1981, с. 250-252.
Аллен 1983: -
Suzanne Allen. Petit traite du noeud. - In: Figures du baroque. Paris, PUF, p.
183-251.
Анарина H. Г. 1984:
Японский театр Но. M., Наука.
Анненков П. В.
1952: H. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. - В кн.: Гоголь в воспоминаниях
современников. M., Гослитиздат, с. 230-315.
Ариес 1981:
Philippe Aries. The Hour of our Death. New York, Vintage.
Аристотель 1975:
Метафизика. Пер. А. В. Кубицкого. - В кн.: Аристотель. Сочинения, т. 1. M.,
Мысль, с. 63-368.
Аристотель 1981:
Физика. Пер. В. П. Карпова. - В кн.: Аристотель. Соч. в 4-х томах, т. 3. M.,
Мысль, с. 59-262.
Арнхейм 1966:
Rudolf Arnheim. Toward a Psychology of Art. Berkeley- Los Angeles, University
of California Press.
Арнхейм 1988:
Rudolf Arnheim. The Power of the Center. Berkeley- Los Angeles-London,
University of California Press.
Арто 1971: Antonin
Artaud. Les Tarahumaras. Paris, Gallimard.
Арто 1977: Antonin
Artaud. Nouveaux ecrits de Rodez. Paris, Gallimard.
Арто 1978: Antonin
Artaud. Oeuvres completes, t. 3. Paris, Gallimard.
Арто 1979: Antonin
Artaud. He1iogabale ou 1'Anarchiste соuronne. Paris, Gallimard.
Архипов H. И.,
Раскин А. Г. 1964: Бартоломео Карло Растрелли. Л.-М., Искусство.
Бак-Морсс 1989:
Susan Buck-Morss. The Dialectics of Seeing. Walter Benjamin and the Arcades
Project. Cambridge, Mass. - London, The MIT Press.
Бак-Морсс 1992:
Susan Buck-Morss. Aesthetics and Anaesthetics: Walter Benjamin's Artwork Essay
reconsidered. - October, n° 62, Fall 1992, p. 3-42.
315
Балаш 1982: Bela Balazs. Schriften zum Film. Bd. 1. Berlin,
Henschelverlag.
Балтрушайтис 1957:
Jurgis Baltrusaitis. Aberrations: quatre essais sur la legende des formes.
Paris, Olivier Perrin.
Балтрушайтис 1967:
Jurgis Baltrusaitis. La quete d'lsis. Essai sur la legende d'un mythe.
Introduction a 1'Egyptomanie. Paris, O. Perrin.
Балтрушайтис 1984:
Jurgis Baltrusaitis. Anamorphoses ou Thaumaturgus opticus. Paris, Flammarion.
Балтрушайтис 1986:
Jurgis Baltrusaitis. Formations, deformations. Paris, Flammarion.
Бальзак Оноре 1954:
Блеск и нищета куртизанок. - В кн.: О. Бальзак. Собр. соч. в 15 томах, т. 9.
M., Гослитиздат, с. 5-523.
Бальзак Оноре 1955:
Шагреневая кожа. - В кн.: О. Бальзак. Собр. соч. в 15 томах, т. 13. M.,
Гослитиздат, с. 5-250.
Барбье 1859:
Auguste Barbier. lambes et poemes. Paris, E. Dentu.
Барт Ролан 1989:
Избранные работы. Семиотика. Поэтика. M., Прогресс.
Бартон 1977: Robert
Burton. The Anatomy of Melancholy New York, Vintage.
Батай 1970: Georges
Bataille. Oeuvres completes, t. 1. Paris, Gallimard.
Батай 1973: Georges
Bataille. Le coupable. - In: G. Bataille. Oeuvres completes, t. 5. Paris,
Gallimard, p. 235-392.
Батай 1979: Georges
Bataille. Attraction et repulsion. I. Tropismes, sexualite, rire et larmes.-
In: Denis Hollier. Le College de la sociologie. Paris, Gallimard, p. 189-207.
Бахтин M. 1972:
Проблемы поэтики Достоевского. M., Худлит.
Бахтин Михаил 1975:
Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура). - В кн.: M.
Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. M., Худлит, с. 484-495.
Бахтин Михаил 1990:
Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. M.,
Худлит.
Башляр 1965: Gaston
Bachelard. La terre et les reveries du repos. Paris, Jose Corti.
Башляр 1965а:
Gaston Bachelard. La psychanalyse du feu. Paris, Gallimard.
Башляр 1994: Gaston
Bachelard. The Poetics of Space. Boston, Beacon Press.
Белый Андрей 1994:
Символизм как миропонимание. M., Республика.
Бенеш Отто 1973:
Искусство Северного Возрождения. M., Искусство.
Бенуа-Леви 1929:
Edmond Benoit-Levy 'Les Miserables' de Victor Hugo. Paris, E. Malfere.
Беньямин 1972:
Walter Benjamin. Sens unique precede de Une enfance berlinoise. Paris, Maurice
Nadeau.
Беньямин 1977:
Walter Benjamin. The Origin of German Tragic Drama. London - New York, Verso.
Беньямин 1986:
Walter Benjamin. Reflections. Ed. by Peter Demetz. New York, Schocken.
316
Беньямин 1989:
Walter Benjamin. Paris, capitate du XIXe siecle. Le livre des passages. Paris,
Cerf.
Берг H. B. 1952:
Воспоминания о Гоголе. -- В кн.: Гоголь в воспоминаниях современников. М.,
Гослитиздат, с. 499-510.
Бергсон 1982: Henri
Bergson. L'6nergie spirituelle. Paris, PUF.
Бернарден де
Сен-Пьер 1959: Bernardin de Saint-Pierre. Paul et Virginie. Paris, Robert
Laffont.
Берте 1854: Elie
Berthet. Les Catacombes de Paris, Bruxelles, s.a.
Берте 1885: Elie
Berthet. Paris avant 1'histoire. Paris, Jouvet.
Беттельхайм 1967:
Bruno Bettelheim. The Empty Fortress: Infantile Autism and the Birth of the
Self. New York, The Free Press.
Бирс 1956: Ambrose
Bierce. Ambrose Bierce's Civil War. Los Angeles - Chicago - New York, Gateway.
Бликсен Карен 1990:
Пир Бабетты. М., Известия.
Блондель 1882: S.
Blondel. Les modeleurs en cire. - Gazette des Beaux-Arts, 24e annee, t. 26, 2e
periode, n0 5, 1 nov. 1882, p. 493-504.
Блондель б.г.: S.
Blondel. Ceroplastique. - La grande encyclopedie. Inventaire raisonne des
sciences, des lettres et des arts par une societe des savants et des gens de
lettres, t. 10. Paris, s. a., p. 65--67.
Бодлер 1961:
Baudelaire. Les Fleurs du Mal. Paris, Gamier.
Бодлер 1962:
Baudelaire. Curiosites esthethiques. L'art romantique. Henri Lemaftre, ed.
Paris, Gamier.
Бодлер Шарль 1970:
Цветы зла. М., Наука.
Бомпиани 1989:
Ginevra Bompiani. The Chimera Herself. - In: Fragments for the History of the
Human Body, part 1, ed. by Michel Feher et al. New York, Zone Books, p.
364-409.
Борхес 1979: Edgardo Cozarinsky. Jorge Luis Borges sur le cinema. Paris,
Albatros. Борхес Хорхе Луис 1984: Проза разных лет. М., Радуга.
Борхес - Герреро
1978: Jorge Luis Borges with Margarita Guerrero. The Book of Imaginary Beings.
New York, Dutton.
Брайен-Балл 1978:
Clifford R. Brian and Ray Bull. The Psychology of Person Identification. London
- Henley- Boston, Routledge and Kegan Paul.
Браун 1926: Charles
Brockden Brown. Wieland, or The Transformation together with Memoirs of Carwin
the Biloquist. New York, Harcourt, Brace & World.
Браун 1968: Sir
Thomas Browne. Selected Writings. Ed. by Sir Geoffrey Keynes. Chicago, The
University of Chicago Press.
Бретон 1988:
Stanislas Breton. Poetique du sensible. Paris, Cerf.
Бриё 1897: Jacques
Brieu. Esot6risme et spiritisme. - Mercure de France, t. 24, Oct. 1897, p.
260-263.
Брок 1972: Numa
Broc. La geographic des philosophes. Geographes et voyageurs francais au XVIII
siecle. These de doctorat. Lille.
317
Бромберт 1984: V. Brombert. Hugo: L'edifice du Livre.-
Romantisme, n 44, 1984 p. 49-56.
Брох 1986: Hermann
Broch. The Sleepwalkers. London - New York, Quartet Books.
Брюне 1989: F.
Brunet. Picture Maker of the Old West: W. H. Jackson et la naissance des
archives photographiques americaines. - Revue francaise d'etudes am6ricaines,
n° 39, fevr. 1989, p. 13-28.
Бубер 1958: Martin
Buber. Moses. The Revelation and the Covenant. New York, Harper and Row.
Бунин И. А. 1955: О
Чехове. Нью-Йорк, Издательство имени Чехова.
Буркерт 1983:
Walter Burkert. Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial
Ritual and Myth. Berkeley - Los Angeles - London, University of California
Press.
Бюси-Глюксман 1986:
Christine Buci-Glucksmann. La folie du voir. De l'esthetique baroque. Paris,
Galilee.
Вагинов Константин
1989: Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бамбочада. М., Худлит.
Валери 1965: Paul
Valery. Degas Danse Dessin. Paris, Gallimard.
Валери 1970: Paul
Valery. Eupalinos, L'Ame et la danse, Dialogue de 1'arbre. Paris, Gallimard.
Валери 1980: Paul
Valery. The Centenary of Photography (Centenaire de la Photographie]. - In:
Classic Esays on Photography. Ed. by Alan Trachtenberg. New Haven, Leete's
Island Books, p. 191-198.
Вебер 1988: Eugen
Weber. In search of the Hexagon. - Stanford French Review, v. XII, n° 2-3,
fall-winter 1988, p. 372-380.
Векслер 1982:
Judith Wechsler. Human Comedy. Physiognomy and Caricature in 19th Century
Paris. London, Thames and Hudson.
Вергилий 1971:
Энеида. Пер. С. Ошерова. - В кн.: Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М.,
Гослитиздат.
Вересаев В. 1990:
Гоголь в жизни. М., Московский рабочий. Вермель С. 1923: Алхимия театра.
Берлин, Academia.
Вернан 1971:
Jean-Pierre Vernant. Figuration de 1'invisible et cathegorie psychologique du
double: le colossos. - In: J.-P. Vernant. Mythe et pensee chez les Grecs, t. 2.
Paris, Maspero, p. 65-78.
Вернан 1979:
Jean-Pierre Vernant. A la table des hommes. Mythe de la fondation du sacrifice
chez Hesiode. - In: Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant. La cuisine du
sacrifice en pays grec. Paris, Gallimard, p. 37-132.
Вернан 1985:
Jean-Pierre Vemant. La mort dans les yeux. Paris, Hachette.
Вернан -
Видаль-Наке 1988: Jean-Pierre Vemant, Pierre Vidal-Naquet. Myth and Tragedy in
Ancient Greece. New York, Zone.
Вернер 1948: Heinz
Werner. Comparative Psychology of Mental Development. New York, International
Universities Press.
Винд 1958: Edgar
Wind. Pagan Mysteries in the Renaissance. London,
Faber.
318
Виноградов В. В. 1976: Эволюция русского натурализма. - В
кн.: В. В. Виноградов. Поэтика русской литературы. М., Наука, с. 4-187.
Виньи 1965: Alfred
de Vigny. Oeuvres completes. Paris, Seuil.
Вирт 1979: Jean
Wirth. La jeune fille et la mort. Recherches sur les themes macabres dans 1'art
germanique de la Renaissance. Geneve, Droz.
Виттковер 1951:
Rudolf Wittkover. Bernini's Bust of Louis XIV. London - New York - Toronto,
Oxford University Press.
Виттковер 1977:
Rudolf Wittkover. Allegory and the Migration of Symbols. London, Thames and
Hudson.
Вуатюрон 1862: P.
Voituron. Etudes philosophiques et litteraires sur 'Les Miserables' de Victor
Hugo. Paris, s. e.
Гад 1921: Urban
Gad. Der Film: seine Mittel - seine Ziele. Berlin, Schuster und Loeffler.
Гайденко П. П.
1980: Эволюция понятия науки. М., Наука.
Гамсун Кнут 1991:
Голод. Пер. Ю. Балтрушайтиса. - В кн.: К. Гамсун. Избранное. Л., Лениздат, с.
19-154.
Гандельман 1991:
Claude Gandelman. Reading Pictures, Viewing Texts. Bloomington - Indianapolis,
Indiana University Press.
Гарелли 1982:
Jacques Garelli. Artaud et la question du lieu. Paris, Jose Corti.
Гартли Д. 1967:
Размышления о человеке, его строении, его долге и упованиях. Пер. E. С.
Лагутина. - В кн.: Английские материалисты XVIII в., т. 2. М., Мысль, с.
193-374.
Гегель 1932: Лекции
по истории философии, кн. 2. - В кн.: Гегель, Сочинения, т. 10. М., Партиздат.
Гей 1988: Peter
Gay. Freud: A Life for our Time. Nerw York - London, Norton.
Гёльдерлин 1969:
Сочинения. М., Худлит.
Гёте Иоганн
Вольфганг 1976: Из моей жизни. Поэзия и правда. Перевод Наталии Ман. - В кн.:
И. В. Гёте. Собр. соч. в 10 тт., т. 3. М., Гослитиздат.
Гобино 1968:
Gobineau. Le mouchoir rouge et autres nouvelles. Paris, Gamier.
Гоголь H. B. 1952,
1953: Собр. соч. в шести томах. М., Гослитиздат.
Гоголь 1988: -
Переписка H. В. Гоголя. М., Худлит.
Гоголь H. В. 1992:
Духовная проза. М., Русская книга.
Гомбрих 1976: E. H.
Gombrich. The Heritage of Appeles. Studies in the Art of the Renaissance. New
York - Ithaca, Cornell University Press.
Гомер 1978: Илиада.
Пер. H. Гнедича. М., Худлит.
Гордон 1975: Mel
Gordon. German Expressionist Acting. - The Drama Review, v. 16, n° 3, Sept.
1975, p. 34-50.
Гребенюк 1979:
Панегирическая литература петровского времени. Издание подготовил В. П.
Гребенюк. М., Наука.
Гулд - Уайт, 1974:
Peter Gould, Rodney White. Mental Maps. Harmondsworth, Penguin Books.
319
Гюго 1930: Victor Hugo. La legende des siecles. Paris,
Nelson.
Гюго Виктор 1953:
Собор Парижской богоматери. - В кн.: В. Гюго. Собр. соч., т. 2. М.,
Гослитиздат.
Гюго Виктор 1955:
Человек, который смеется. - В кн.: В. Гюго. Собр. соч. в 15 томах, т. 10. М.,
Гослитиздат.
Гюго Виктор 1956:
Париж. - В кн.: В. Гюго. Собр. соч., т. 14. М., Гослитиздат.
Гюго 1965: Victor
Hugo. Les Contemplations. Paris, Gallimard- Librairie G6n6rale Francaise.
Гюго Виктор 1979:
Отверженные, М., Худлит.
Гюго б.г.: Victor
Hugo. Les rayons et les ombres. Paris, Hetzel, s.a.
Гюго б.г a: Victor
Hugo. Alpes et Pyrenees. Paris, Hetzel, s. a.
Гюисманс 1896:
J.-K. Huysmans. La-Bas. Paris, Stock.
Гюисманс 1912:
J.-K. Huysmans. A Rebours. Paris, Charpentier.
Дагонье 1982:
Francois Dagognet. Faces, surfaces, interfaces. Paris, Vrin.
Дамиш 1993: Hubert
Damisch. L'origine de la perspective. Paris, Flammarion.
Д'Аннунцио б.г.:
Gabriele D'Annunzio. Le Feu. Paris, Calmann - Levy, s.a.
Девере 1983:
Georges Devereux. Baubo: Lavulve mythique. Paris, Jean-Cyrile Godefroy.
Деги 1984: Michel
Deguy. Le Grand-dire: Pour contribuer a une relecture de pseudo-Longin. -
Poetique, n0 58, Avril 1984, p. 197-214.
Де Дюв 1987: Thierry de Duve. Essais
dates I: 1974-1986. Paris, Editions de la difference.
Делёз 1968: Gilles
Deleuze. Difference et repetition. Paris, PUF.
Делёз 1969: Gilles
Deleuze. Logique du sens. Paris, Ed. de Minuit.
Делёз 1983: Gilles
Deleuze. Nietzsche and Philosophy. New York, Columbia University Press.
Делёз 1988: Gilles
Deleuze. Foucault. Minneapolis, University of Minnesota Press.
Делёз 1988a: Gilles
Deleuze. Le pli. Leibniz et le baroque. Paris. Ed. de Minuit.
Делёз-Гваттари 1983: Gilles Deleuze and Felix Guattari.
Anti-Oedipus. Minneapolis. University of Minnesota Press.
Делёз - Гваттари
1986: Gilles Deleuze, Felix Guattari. Kafka: Toward a Minor Literature.
Minneapolis - London, University of Minnesota Press.
Делёз- Гваттари
1987: Gilles Deleuze, Felix Guattari. A Thousand Plateaus. Minneapolis -
London, University of Minnesota Press.
Деллюк 1985: Louis
Delluc. Ecrits cinematographiques I. Le Cinema et les cineastes. Paris,
Cinematheque francaise.
Де Ман 1983: Paul
de Man. Blindness and Insight. Minneapolis. University of Minnesota Press.
Де Морини 1978:
Clare de Morini. Loie Fuller: the Fairy of Light. - In: Chronicles of the
American Dance. From the Shakers to Martha Graham. Ed. by Paul Magriel. New
York, Da Capo Press, p. 203-220.
320
Денереаз 1926: Alex. Denereaz. Rythmes humains et rythmes
cosmiques. - In: Compte rendu du ler Congres du Rythme tenu a Geneve du 16 au
18 Aout 1926. Ed. par Albert Perimmer. Geneve, L'lnstitut Jacques-Dalcroz, p.
39-69.
Де Роша 1898: Albert de Rochas. Les
sentiments, la musique et le geste. - La Nouvelle Revue, t. 114, oct. 1898, p.
588-602.
Деррида 1967: Jacques
Derrida. L'ecriture et la difference. Paris, Seuil.
Деррида 1972:
Jacques Derrida. La dissemination. Paris, Seuil.
Деррида 1973:
Jacques Derrida. Speech and Phenomena and Other Essays on Husserl's Theory of
Signs. Evanston. Northwestern University Press.
Деррида 1976:
Jacques Derrida. Of Grammatology. Baltimore- London, The Johns Hopkins
University Press.
Деррида 1976a:
Jacques Derrida. Fors. - In: Nicolas Abraham et Maria Torok. Cryptonomie. Le
verbier de 1'Homme aux loups. Paris, Aubier-Flammarion.
Деррида 1978:
Jacques Derrida. Laverite en peinture. Paris, Flammarion.
Деррида 1987:
Jacques Derrida. The Post Card. Chicago- London, The University of Chicago
Press.
Деррида 1989:
Jacques Derrida. How to Avoid Speaking: Denials. - In: Languages of the
Unsayable. The Play of Negativity in Literature and Literary Theory. Ed. by
Sanford Budick and Wolfgang Iser. New York, Columbia University Press, p. 3-70.
Деррида 1993:
Jacques Derrida. Memoirs of the Blind: The Self-Portrait and Other Ruins.
Chicago - London, The University of Chicago Press.
Деррида 1993 a: Jacques
Derrida. Khora. Paris, Galilee.
Де Серто 1980: Michel de Certeau.
L'invention du quotidien. 1. Arts de faire. Paris, UGE.
Де Серто 1982:
Michel de Certeau. La fable mystique. Paris, Gallimard.
Де Серто 1988:
Michel de Certeau. The Writing of History. New York, Columbia University Press.
Детьен 1977: Marcel
Detienne. The Garden of Adonis. Princeton, Princeton University Press.
Детьен, 1989:
Marcel Detienne. L'ecriture d'Orphee. Paris, Gallimard.
Джеймисон 1991:
Frederic Jameson. Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham,
Duke University Press.
Джеймс Генри 1974:
Повести и рассказы. М., Худлит. Джемс 1969: William James. Psychology (Briefer
Course). London, Collier Books.
Джонс 1974: Ernest
Jones. The Madonna's Conception through the Ear. - In: E. Jones. Psycho-Myth,
Psycho-History, v. 2. New York, Hillstone, p. 266-357.
Джюдовиц 1993:
Dalia Judowitz. Vision, Representation, and Technology in Descartes. - In:
Modernity and the Hegemony of Vision. Ed. by David Michael Levin. Berkeley- Los
Angeles - London, University of California Press, p. 63-86.
Диди-Юберман 1982:
Georges Didi-Huberman. Invention de 1'Hysterie. Charcot et 1'iconographie
photographique de la Salpetriere. Paris, Macula.
321
Диди-Юберман 1987: Georges
Didi-Huberman. Photography- Scientific and Pseudo-scientific. - In: A History
of Photography: Social and Cultural Perspectives. Ed. by J.-C. Lemagny and A.
Rouillfc. Cambridge, Cambridge University Press.
Диди-Юберман 1992:
Georges Didi-Huberman. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Paris, Ed. de
Minuit.
Дидро 1968: Denis
Diderot. Les bijoux indiscrets. Paris, Garnier-Flammarion.
Дин Гао 1971:
Трактат о портрете. - В кн.: Китайские трактаты о портрете. Пер. К. И.
Разумовского. Л., Аврора, с. 17-47.
Дионисий Ареопагит
1990: О божественных именах (2, 644В).
Пер. Л. Н. Лутков-ского. - В кн.: Общественная мысль: исследования и
публикации. Вып. 2. М., Наука, с. 156-227.
Донская М. Г. 1990: Тайны загадочного жанра. М.,
Искусство.
Достоевский Ф. М.
1956: Собр. соч. в десяти томах. М., Гослитиздат.
Дункан 1968: Isadora
Duncan. Isadora [My Life]. New York - London, Awards Books - Tandem Books.
Дэвис Натали Земон
1990: Возвращение Мартена Герра. М., Прогресс.
Дэвис 1993: Paul
Davies. The Face and the Caress: Levinas's Ethical Alterations of Sensibility.
- In: Modernity and the Hegemony of Vision. Ed. by David Michael Levin,
Berkeley- Los Angeles- London, University of California Press, 1993, p.
252-272.
Дюбуа 1986:
Philippe Dubois. Le corps et ses fant6mes. - La recherche photographique, n°
l.Oct. 1986, p. 41-50.
Дюкан 1875: Maxime
Du Camp. Paris, ses origines, ses fonctions et sa vie dans la seconde moiti6 du
XIXe siecle. Paris, Hachette.
Дюма Александр
1955: Граф Монте-Кристо, М., Гослитиздат. Дюма б.г.: Alexandre Dumas. Les
Mohicans de Paris. Paris, Calmann-Levy, s. a.
Дюпон 1989:
Florence Dupont. The Emperor-God's Other Body. - In: Fragments for a History of
the Human Body. Part 3. Ed. by М. Feher and al. New York, Zone, p. 396-419.
Дюрэм 1993: Scott
Durham. From Magritte to Klossowski: The Simulacrum, between Painting and
Narrative. - October n° 64, Spring 1993, p. 23-33.
Жанмер 1951: Henri
Jeanmaire. Dionysos. Histoire du culte de Bacchus. Paris, Payot.
Женетт 1976: G6rard
Genette. Figures I. Paris, Seuil. Женни 1982: Laurent Jenny. La terreur et les
signes. Paris, Gallimard. Жиль 1985: Jose Gil. Metamorphoses de corps. Paris,
Ed. de la Difference.
Жолковский A. K.
1994: Блуждающие сны и другие работы. М., Наука.
Жюстен 1991: Henri
Justin. Lesjeux du corps et la conscience dans les contes de Рое. - In: Les
figures du corps, ed. by Bernard Brugiere. Paris, Sorbonne, p. 237-246.
Зибург 1984:
Friedrich Sieburg. Die Magie des Korpers. Betrachtungen zur Darstellung in
Film. - In: Kein Tag ohne Kino: Schriftsteller uber den Stummfilm.
Heraus-gegeben von Fritz Gutinger. Deutsches Filmmuseum Frankfurt. Frankfurt am
Main, S. 419-425.
322
Зиммель 1980: Georg Simmel. Rodin's Work as an Expression of
the Modern Spirit. - In: Rodin in Perspective. Ed. by Ruth Butler. Englewood
Cliffs, Prentice-Hall, p. 127-130.
Зингер 1955: Isaac
Bashevis Singer. Satan in Goray. New York, Noonday Press.
Ибсен 1958: Four
Great Plays by Ibsen. New York, Bantam.
Изаковер 1938: Otto
Isakower. A Contribution to the Patho-Psychology of Phenomena Associated with
Falling Asleep.- International Journal of Psychoanalysis, v. 19, 1938, p.
331-345.
Изер 1993: Wolfgang
Iser. The Fictive and the Imaginary: Charting the Literary Anthropology.
Baltimore - London, The Johns Hopkins University Press.
Ирвин 1992: John Т.
Irwin. The Quincuncial Network in Poe's Pym. - In: Poe's Pym:Critical
Explorations. Ed. by Richard Kopley. Durham - London, Duke University Press,p.
175-187.
Ирвин 1994: John Т.
Irwin. The Mystery to a Solution. Рое, Borges, and the Detective Story.
Baltimore - London, The Johns Hopkins University Press.
Йейтс 1966: William
Butler Yeats. A Vision. New York, Collier Books. Йейтс 1969: Frances A. Yates.
The Art of Memory. Harmondsworth, Penguin Books.
Казенав 1983: A.
Cazenave. Miroirs, Masques, Simulacres. - In: Figures du baroque. Ed. parJ.-M.
Benoist. Paris, PUF, p. 149-163.
Кайуа 1964: R.
Caillois. The Mask of Medusa. London, Victor Gollancz.
Кайуа 1972: Roger
Caillois. Le Mythe et 1'homme. Paris, Gallimard.
Канетти Элиас 1990:
Человек нашего столетия. Пер. М. Харитонова. М., Прогресс.
Кангилем 1992:
Georges Canguilhem. Machine and Organism. - In: Incorporations. Ed. by Jonathan
Crary and Sanford Kwinter. New York, Zone, p. 45-69.
Кант 1966: Критика
способности суждения. - В кн.: Иммануил Кант. Собр. соч., т. 5. М., Мысль.
Канторович 1957: Е.
Н. Kantorowicz. The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology.
Princeton, Princeton University Press.
Карл 1991:
Frederick Karl. Franz Kafka: Representative Man. New York, Fromm.
Карразерс 1990:
Mary Carruthers. The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture.
Cambridge, Cambridge University Press.
Кассирер 1955:
Ernst Cassirer. The Philosophy of Symbolic Forms, v. 2: Mythical Thought.
Transl. by Ralph Manheim. New Haven - London, Yale University Press.
Кафка 1971: Franz Kafka.
Tha Complete Stories. New York, Schocken Books.
Кафка Франц 1991: Замок. Новеллы и притчи. Письмо к
отцу. Письма к Милене. М., Политиздат.
Кевелл 1994: Stanley Cavell. A Pitch of Philosophy.
Cambridge, Mass.,- London, Harvard University Press.
Кейси 1993: Edward S. Casey. Getting Back into Place.
Toward a Renewed Understanding of the Place-World. Bloomington - Indianapolis,
Indiana University Press.
323
Кемп 1972: Martin Kemp. Dissection and Divinity in Leonardo's
Late Anatomies.- Journal of the Warburg and Courtaud Institutes, v. 35.1972, p.
200-225.
Кереньи 1949: Karl Kerenyi. Mensch und Maske. -
Eranos-Jahrbuch 1948, Bd. 16. Zurich, Rhein-Verlag, S. 183-208.
Кермод 1976: Frank Kermode. Poet and Dancer Before Diaghilev.
- Salmagundi, n° 33-34, Spring-Summer 1976, p. 23-47.
Кермод 1986: Frank Kermode. Romantic Image. London, ARK.
Кестл 1988: Terry Castle. Phantasmagoria: Spectral
Technology and the Metaphorics of Modern Reverie. - Critical Inquiry, v. 15, n°
1, autumn 1988, p. 26-61.
Килгур 1990: Maggie Kilgour. From Communion to Cannibalism:
An Anatomy of Metaphors of Incorporation. Princeton, Princeton University
Press.
Киттлер 1990: Friedrich A. Kittler. Discourse Networks
1800/1900. Stanford, Stanford University Press.
Кларк 1935: Kenneth Clark. A Catalogue of the Drawings of
Leonardo da Vinci in the Collection of His Majesty the King at Windsor Castle.
Cambridge. At the University press.
Кларк 1956: Kenneth Clark. The Nude. Garden City,
Doubleday. Клейн 1960: Melanie Klein. The
Psychoanalysis of Children. New York, Grove Press.
Клейн 1977: Melanie Klein. Envy and Gratitude and Other
Works 1946-1963. New York, Delta.
Клеман 1975: Catherine Clement. Miroirs du sujet. Paris,
UGE.
Клоссовски 1969: Pierre Klossowski. Nietzsche et le
cercle vicieux. Paris, Mercure de France.
Клоссовски 1972: Pierre Klossowski. La revocatiom de
1'Edit de Nantes. Paris, Ed. de Minuit.
Клоссовски 1990: Pierre Klossowski. Diana at her Bath.
The Women of Rome. Boston, Eridanos Press.
Кнепп 1983: Bettina L. Knap. Archetype, Dance, and the
Writer. Troy, NY., The Bethel Publishing Co.
Книппер-Чехова О. Л. 1960: О А. П. Чехове. - В кн.: А.
П. Чехов в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, с. 680-704.
Кожев 1968: Alexandre Kojeve. Introduction a la lecture de
Hegel. Paris, Gallimard.
Комборье 1893: J. Comborieu. L'expression objective en musique
d'apres le langage in-stinctif. - Revue philosophique, t. 35,janv.-juillet
1893, p. 124-144.
Kono 1990: Copeau.
Texts on the Theatre. Ed. by John Rudlin and Norman Н. Paul. London - New York, Routledge.
Корнер 1986: Joseph Leo Koerner. Rembrandt and the Epiphany
of the Face.- Res, n° 12, Autumn
1986, p. 5-32.
Коэн 1973: К. Cohen.
Metamorphosis of a Death Symbol. The Transi Tomb in the Late Middle Ages and
the Renaissance. Berkeley - Los Angeles - London, University of California
Press.
Kpaycc 1986:
Rosalind Е. Krauss. The Originality of
the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Mass. - London, The MIT
Press.
324
Крелль 1990: David Farell Krell. Of Memory, Reminiscence,
and Writing: on the Verge. Bloomington - Indianapolis, Indiana University
Press.
Крери 1990: Jonathan Crary. Techniques of the Observer. On
Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Cambridge - London, MIT Press.
Крис 1967: Ernst Kris. Psychoanalytic Explorations in Art.
New York, Schocken.
Крэг Эдвард Гордон
1988: Воспоминания, статьи, письма. М., Искусство.
Кулешов Л. В. 1979:
Статьи. Материалы. М., Искусство.
Кулешов Лев 1987,
1988: Собрание сочинений в трех томах. М., Искусство, т. 1, 1987; т. 2, 1988.
Куприн А. И. 1957:
Олеся. - В кн.: А. И. Куприн. Собр. соч. в шести томах, т. 2. М., Гослитиздат,
с. 249-329.
Курилюк 1987: Е.
Kuryluk. Salome and Judas in the Cave of Sex. Evanston, Northwestern University
Press.
Курциус 1986: Е. R.
Curtius. La litt6rature europeenne et le moyen-age latin. Paris, PUF.
Кьеркегор 1964:
S0ren Kierkegaard. Repetition: An Essay in Experimental Psychology. New York -
Evanston - London, Harper & Row.
Кьеркегор 1968:
S0ren Kierkegaard. Concluding Unscientific Postscript. Princeton, Princeton
University Press.
Кьеркегор 1971:
Soren Kierkegaard. The Concept of Irony. Bloomington- London, Indiana
University Press.
Кьеркегор 197 la:
S0ren Kierkegaard. Either/Or, v.1. Princeton, Princeton University Press.
Кюммель 1977:
Werner Friedrich Kummel. Musik und Medizin. Munchen, Verlag Karl Alber
Freiburg.
Лавджоц 1960: A. 0.
Lovejoy. Essays in the History of Ideas. New York, G. P. Putnam's Sons.
Лайдон 1988: Mary
Lydon. Skirting the Issue: Mallarme, Proust, and Symbolism. - Yale French
Studies, n° 74,1988, p. 157-182.
Лакан 1970: Jacques Lacan. Ecrits I. Paris, Seuil.
Лакан 1971: Jacques Lacan. D'une position preliminaire a
tout traitement possible de la psychose. - In: J. Lacan. Ecrits II. Paris,
Seuil, p. 43-102.
Лакан 1975: Jacques Lacan. Le Seminaire. Livre XX. Encore.
Paris, Seuil.
Лакан 1990: Jacques
Lacan. Le Seminaire. Livre XI. Les quatres concepts fondamentaux de la
psychanalyse. Paris, Seuil.
Ландольфи 1963:
Tommaso Landolfi. Gogol's Wife and Other Stories. Norfolk, New Directions, p.
1-16.
Лапланш - Понталис
1973: J. Laplanche, J.-B. Pontalis. The Language of Psycho-analysis. New York,
Norton.
Лафонтен 1964:
Любовь Психеи и Купидона, пер. А. А. Смирнова и Н. Я. Рыковой. М.-Л., Наука.
Лебон 1934: Gustave
Le Bon. Psychologie des foules. Paris, Fe1ix Alcan.
325
Левайн 1985: D. М. Levin. The Body's Recollection of
Being: Phenomenological Psychology and the Deconstruction of Nihilism. London,
Routlege & Kegan Paul.
Левинас 1990:
Emmanuel Levinas. Totalite et infini. Essai sur l'ext6riorit6. Paris Kluwer
Academic.
Леви-Стросс 1962: Claude
Levi-Strauss. La pensee sauvage. Paris, Plon.
Леви-Стросс 1964:
Claude Levi-Strauss. Le Cru et le Cuit. Paris, Plon.
Легран дю Солль
1893: Dr. Legrand du Saulle. Les Hysteriques. Paris, Bailliere et fils.
Ледантек 1913: Fe1ix Le Dantec. De 1'Homme a la Science. Paris, Flammarion.
Леонардо 1954: The
Notebooks of Leonardo da Vinci. Ed. by Edward MacCurdy. New York, George
Braziller.
Лессинг Г. Э. 1953:
Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. Пер. Е. Эдельсона. - В кн.: Г. Э.
Лессинг. Избранные произведения. М., Гослитиздат, с. 385-516.
Либман М. Я. 1988:
Вид Венеции в 'Паломничестве' Бернгарда фон Брейденбаха и панорама Якопо деи
Барбари: два раннеренессансных изображения 'царицы морей'. - В кн.: Искусство
Венеции и Венеция в искусстве. М., Советский художник, с. 28-41.
Линецкий Вадим
1993: Шинель структурализма. - Новое
литературное обозрение, ?5,1993,с.38-44.
Лиотар 1974:
Jean-Francois Lyotard. Economie libidinale. Paris, Ed. de Minuit.
Лиотар 1978:
Jean-Francois Lyotard. Discours, Figure. Paris, Klincksieck.
Лиссарраг 1990:
Francois Lissarague. Why Satyrs Are Good to Represent. - In: Nothing to Do with
Dionysos? Athenian Drama in Its Social Context. Ed. by J. J. Winkler and F. I.
Zeitlin. Princeton, Princeton University Press, p. 228-236.
Лиссарраг 1993:
Francois Lissarrague. On the Wildness of Satyrs. - In: Masks of Dionysos. Ed.
by T. Н. Carpenter and Ch. A. Faraone.
Ithaca - London, Cornell University Press, p. 207-220.
Локк Джон 1985: Опыт о человеческом разумении. Пер. А.
Н. Савина. - В кн.: Джон Локк. Соч. в трех томах, т. 1. М., Мысль.
Л'Оранж 1965: Н. Р.
L'Orange. Art Forms and Civic Life in the Late Roman Empire. Princeton,
Princeton University Press.
Лоро 1987: Nicole
Loraux. Tragic Ways of Killing a Woman. Cambridge, Mass., Harvard University
Press.
Лотман Ю. М. 1992:
Избранные статьи в трех томах. Таллин, Александра. Льюис 1959: Mattew G. Lewis.
The Monk. New York, Grove Press.
Маис 1976: Millard
Meiss. Light as Form and Symbol in Some Fifteenth-Century Painting. - In:
Millard Meiss. The Painter Choice. New York, Harper and Row, p. 3-18.
Мак-Кормак 1928:
Gilson Mac Cormack. Loie Fuller. - Dancing Times, Feb. 1928. Маккиоро б.г.: V. Macchioro. Die Villa der Mysterien in Pompei.
Neapel, Verlag Richter.
Макферленд 1979-1980: R. Е. McFarland. Teratology in Late Renaissance English Popular Literature.
- English Miscellany. A Symposium of History, Literature and Arts, n° 28-29,
1979-1980.
326
Малларме 1976: Stephane Маllаrme. Igitur. Divagations. Un coup de des. Paris,
Gallimard.
Мандельштам О. Э.
1991: Собр. соч. в четырех томах. М., Терра. Манн Ю. 1988: Поэтика Гоголя. М.,
Худлит.
Маннони 1969:
Octave Mannoni. Clefs pour 1'Imaginaire ou 1'Autre Scene. Paris, Seuil.
Марен 1973: Louis
Marin. Utopiques: jeux d'espaces. Paris, Ed. de Minuit.
Марен 1977: Louis
Marin. Detruire la peinture. Paris, Galilee.
Марен 1986: Louis
Marin. La parole mangee et autres essais theologico-politiques. Paris,
Meridiens Klincksieck.
Марен 1992: Louis
Marin. Lectures traversieres. Paris, Albin Michel. Марен 1993: Louis Marin. Des pouvoirs de 1'image. Paris,
Seuil.
Маркс 1978: Henry Marx. Madeleine: Two Reviews. - The Drama
Review, v. 22, n° 2, June 1978, p. 27-31.
Марчи 1981: Piero
Marchi. II Giardino come 'Luogo Teatrale'. - In: II Giardino Storico Italiano:
problemi di indagine, fonti letterarie e storiche. A cura di Giovanna
Ragioneri. - Firenze, L. S. Olschki, p. 211-19.
Маршалл 1988: David
Marshall. The Surprising Effects of Sympathy. Chicago ~ London, The University
of Chicago Press.
Мейринк Густав
1991: Летучие мыши. М., День.
Мельберг 1980: Arne
Melberg. 'Repetition (In The Kierkegaardian Sense Of The Term)'. - Diacritics,
Fall 1980, v. 20, n° 3, p. 71-87.
Мервин 1988:
Carolyn Marvin. When Old Technologies were New. New York - Oxford, Oxford
University Press.
Мери 1862: [Joseph]
Mery. Salons et souterrains de Paris. Paris, М. Levy.
Мерло-Понти 1945: Maurice Merleau-Ponty. Phenomenologie de
la perception. Paris, Gallimard.
Мерло-Понти 1964: Maurice
Merleau-Ponty. Signs. Chicago, Northwestern University Press.
Мерло-Понти 1964a: Maurice
Merleau-Ponty. Sense and Non-Sense. Chicago, Northwestern University Press.
Мерло-Понти 1979:
Maurice Merleau-Ponty. Le visible et 1'invisible. Paris, Gallimard.
Мерло-Понти Морис
1992: Око и дух. М., Искусство.
Мерсье Л. С. 1989:
Картины Парижа. - В кн.: Жилище славных муз. Париж в литературных произведениях
XVI-XX веков. М., Радуга.
Метерлинк 1913:
Maurice Maeterlinck. La Mort. Paris, Fasquelle.
Метьюрин Ч. P.
1983: Мельмот Скиталец. М., Наука.
Миллер 1977: Liam
Miller. The Noble Drama of W. B. Yeats. Dublin, The Dolmen Press.
Митчелл 1977: Thimothy Mitchell. Bergson, Le Bon, and
Hermetic Cubism. - The Journal of Aesthetics and Art Criticism. V. 36, n° 2,
Winter 1977, p. 175-184.
327
Мишле 1859: J. Michelet. L'oiseau. Paris, Hachette.
Мишо 1967: Henri Michaux. Connaissance par les gouffres.
Paris, Gallimard.
Мопассан Ги де
1954: Монт-Ориоль. Пер. Н. Немчиновой. - В кн.: Ги де Мопассан. Избранные
произведения в двух томах, т. 1. М., Гослитиздат, с. 549-789.
Музиль 1990: Robert
Musil. Precision and Soul. Ed. by Burton Pike and David S. Luft. Chicago -
London, University of Chicago Press.
Мунте 1957: Axel
Munthe. The Story of San Michele. New York, Dutton.
Набоков 1966: Vladimir Nabokov. Despair. New York, Vintage.
Набоков Владимир
1987: Николай Гоголь. -- Новый мир, ? 4,1987, с. 174-227.
Набоков Владимир
1991: Другие берега. - В кн.: В. Набоков. Рассказы. Воспоминания. М.,
Современник, с. 451-626.
Набоков Владимир
1993: Пнин. Перевод Сергея Ильина. - В
кн.: В. Набоков. Bend Sinister. СПб, Северо-Запад, с. 158-301.
Най 1974: Mary Jo Nye. Gustave Le Bon's Black Light: A
Study in Physics and Philosophy in France at the Turn of the Century. - In:
Historical Studies in the Physical Sciences, n° 4. 1974, p. 163-195.
Найроп 1901: К. Nyrop. The Kiss
and the History. London, Sanda.
Нанси 1993: Jean-Luc Nancy. The Birth to Presence.
Stanford, Stanford University Press.
Нитцше 1975: J. С. Nitzsche. The
Genius Figure in Antiquity and in Middle Ages. New York, Columbia University
Press.
Ницше 1968: Friedrich Nietzsche. The Will to Power. Ed. by
Walter Kaufmann. New York, Vintage.
Ницше Фридрих 1990: Так говорил Заратустра . Пер. Ю. М. Антоновского.
- В кн.: Ф. Ницше. Сочинения в двух томах, т. 2. М., Мысль, с. 5-237.
Ницше Фридрих 1990а: Рождение трагедии из духа музыки. Пер. Г. А.
Рачинского. - В кн.: Ф. Ницше. Сочинения в двух томах, т. 1. М., Мысль, с.
47-157.
Ногретт 1991:
Jean-Pierre Naugrette. Discours du corps, ordre du discours: de Stevenson a
Kafka. - In: Les figures du corps. Ed. by Bernard Brugiere. Paris,
Sorbonne.p.139-150.
Нодье Шарль 1960:
Избранные произведения. М.-Л., Гослитиздат.
Норрис 1985: М.
Norris. Beasts of the Modem Imagination. Baltimore and London, The Johns
Hopkins University Press.
О возвышенном 1966:
Пер. Н. А. Чистяковой. М.-Л., Наука.
Оллпорт- Вернон
1933: Gordon W. Allport, Philip E. Vernon. Studies in Expressive Movement. New
York, MacMillan.
Олтмен Рик 1992:
Движущиеся губы: кино как чревовещание. - Киноведческие записки. ? 15, 1992, с.
169-182.
Онианс 1954:
Richard Broxton Onians. The Origins of European Thought about the Body, the
Mind, the Soul, the World, Time and Fate. Cambridge. At the University Press.
328
Отто б.г.: Walter F. Otto. Dionysos. Mythos und Kultus.
Frankfurt am M., Vittorio Klostermann.
Павловски 1962: G.
de Pawlowski. Voyage aupays de la quatrieme dimension. Paris, De-noel.
Панков 1993: Gisela
Pankow. L'homme et sa psychose. Flammarion. Панофский 1955: Erwin Panofsky.
Meaning in the Visual Arts. Garden City, Doubleday.
Панофский 1962:
Erwin Panofsky. Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the
Renaissance. New York - Evanston - London, Harper and Row.
Панофский 1968: -
Erwin Panofsky. Idea. A Concept in Art Theory. Columbia, University of South
Carolina Press.
Панофский Эрвин
19б8а: Галилей: наука и искусство. - В кн.: У истоков классической науки. M.,
Наука, с. 13-34.
Панофский 1971:
Erwin Panofsky. Early Netherlandish Painting. New York- Hagers-town - San
Francisco - London, Harper and Row.
Перниола 1989:
Mario Pemiola. Between Clothing and Nudity.- Fragments for a History of the
Human Body, Part Two. Ed. by Michel Feherwith Ramona Naddaff and Nadia Tazi.
New York, Urzone, p. 237 - 265.
Петров Евг. 1926:
Что должен знать кино-актер. M.,
Кинопечать. Пиаже 1962: Jean Piaget. Play, Dreams and Imitations in Childhood. New
York, Norton.
Пиаже 1971: Jean Piaget. The Construction of Reality in the
Child. New York, Ballantine Books.
Пиоже 1893: Julien
Pioger. Theorie vibratoire et lois organiques de la sensibilit6. - Revue
philosophique, t. 36,1893, p. 238-262.
Питц 1993: William
Pietz. Fetishism and Materialism: The Limits of Theory in Marx. - In: Fetishism
as Cultural Discourse, ed. by Emily Apter and William Pietz. Ithaca - London,
Cornell University Press, p. 119-151.
Плутарх 1992:
Plutarch. On Socrates' Personal Deity. - In: Plutarch. Essays. Harmondsworth,
Penguin Books, p. 308-358.
По Эдгар 1972:
Избранные произведения в двух томах. M.,
Худлит.
Подорога
1993: К вопросу о мерцании мира. Беседа с В. А. Подорогой. - Логос, ?4, 1993,
с. 139-150.
Подорога В.
А. 1993а: Метафизика ландшафта. M., Наука.
Подорога
Валерий 1994: Человек без кожи. Материалы к исследованию Достоевского. - В кн.:
Ad Marginem '93. M., Ad Marginem,
1994, с. 71-115.
Помиан 1990: К. Pomian. Collectors and Curiosites.
Paris and Venice, 1500-1800. Cambridge, Mass., Polity Press.
Приер 1982: Michel Prieur. Visage et personne. Contribution
a 1'etablissement du statut ontologique de la representation. - Revue de
Metaphysique et de Morale, t. 87, n° 3, juillet-sept., 1982, p. 314-334.
Пруст 1977: Marcel Proust. A 1'ombre desjeunes filles en
fleurs. Paris, Gallimard. Пудовкин
Всеволод 1974: Собр. соч. в 3-х томах, т. 1. M., Искусство.
329
Пуле 1979: Georges Poulet. Les metamorphoses du cercle.
Paris, Flammarion.
Пшибыльский 1987:
R. Przybylski. An Essay on the Poetry of Osip Mandelstam: God's Grateful Guest.
Ann Arbor, Ardis.
Рабинбах 1990:
Anson Rabinbach. The Human Motor. New York, Basic Books.
Рабле Франсуа 1973:
Гаргантюа и Пантагрюэль. Пер. Н. Любимова. M., Худлит.
Райк 1972: Theodor
Reik. Listening with the Third Ear. New York, Arena Books.
Ранк 1993: Otto
Rank. The Trauma of Birth. New York, Dover. Раскин 1978: A. Raskin.
Petrodvorets (Peterhof). Leningrad, Avrora. Раскин б.г.: John Ruskin. Modem
Painters, v. 2. London - New York, Dent-Dutton.
Раушенбах Б. В.
1980: Пространственные построения в живописи.
M., Наука. Рашильд 1897: Rachilde. Les hors nature. Paris, Mercure de France.
Ремизов Алексей 1991: Взвихренная Русь. M., Сов. писатель.
Ремси 1983: L.-J.
Ramsey. Early Cineradiography and Cinefluorography. - History of Photography,
v.7, n° 4, Oct.- Dec. 1983, p. 311-322.
Рильке Р.-М. 1971:
Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. Пер. И. Рожанского. M., Искусство.
Рильке Райнер Мария
1977: Новые стихотворения. M., Наука.
Рильке Райнер Мария
1988: Записки Мальте Лауридса Бригге. Пер. Е. Суриц. M., Известия.
Рильке 1988а:
Rainer Maria Rilke. Selected Letters 1902-1926. London - New York, Quartet
Books.
Роде 1966: Erwin
Rohde. Psyche. The Cult of Souls and Belief in Immortality among Greeks. New
York, Harper and Row.
Розанов В. В. 1989:
Легенда о Великом инквизиторе Ф. M. Достоевского. Опыт критического
комментария. - В кн.: В. В. Розанов. Мысли о литературе. M., Современник.
Розолато 1985: Guy
Rosolato. Le plaisir de 1'imitation. - In: Rencontres de 1'Ecole du Louvre.
Limitation: alienation ou source de liberte? Paris, La Documentation Francaise,
p. 19-28.
Ростовцев 1927: M.
I. Rostovzeff. Mystic Italy. New York, Н. Holt.
Рохайм 1972: Geza Roheim. The Panic of Gods and Other
Essays. New York- Evanston - San Francisco - London, Harper and Row.
Роч 1993: Joseph R.
Roach. The Player's Passion. Studies in the Science of Acting. Ann Arbor, The
University of Michigan Press.
Руссе 1960: Jean
Rousset. La litt6rature du Baroque en France. Circe et le paon. Paris, Jose
Corti.
Руссель 1963:
Raymond Roussel. Impressions d'Afrique. Paris, Jean-Jacques Pauvert.
Руссо Жан-Жак 1961:
Юлия, или Новая Элоиза. Пер. Н. И.
Немчиновой. В кн.: Ж.-Ж. Руссо. Избранные произведения в трех томах, т. 2. M., Гослитиздат.
Сайнтифик Американ 1896: The Skirt
Dance. - Scientific American, v. LXXIV, n° 25, June 20. 1896, p. 392.
330
Санд Жорж 1982: Консуэло. Кишинев, Литература
артистикэ.
Сантарканжели 1974: Paolo Santarcangeli. Le livre des
labyrinthes. Paris, Gallimard.
Сартр 1964: Jean-Paul Sartre. Saint Genet: Actor and Martyr. New York, Mentor
Book.
Сартр 1966: Jean-Paul Sartre. Being and Nothingness. New
York, Washington Square Press.
Сартр 1991: Jean-Paul Sartre. The Family Idiot: Gustave
Flaubert 1821-1857, v. 4. Chicago and London, The University of Chicago Press.
Сведенборг Эмануэль
1993: О небесах, о мире духов и об аде. Киев, Украина.
Сезанн Поль 1972:
Переписка. Воспоминания современников. М., Искусство.
Сенелик 1985: L.
Senelick. Anton Chekhov. New York, Grove Press. Серам 1966: С. W. Ceram.
Archeologie du cinema. Paris, Plon.
Сервантес Мигель де
Сааведра 1970: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Пер. Н. Любимова. М.,
Гослитиздат.
Сибони 1986: Daniel
Sibony. Espace et inconscient. - La Part de 1'Oeil, n° 2, 1986, p.133-145.
Ситрон 1961: Pierre
Citron. La po6sie de Paris dans la litt6rature francaise de Rousseau a
Baudelaire. These de doctorat. т. 1. Paris, Ed. de
Minuit.
Скалли 1969: Vincent Scully. The Earth, the Temple, and the
Gods. Greek Sacred Architecture. New York - Washington - London, Praeger.
Соммер 1975: Saly
R. Sommer. Lote Fuller. - The Drama Review, v.19, n° 1, March 1975, p. 53-67.
Старобински 1974:
Jean Starobinski. 'Je hais comme les portes d'Hades...' - Nouvelle revue de
psychanalyse, n° 9, printemps 1974, p. 7-22.
Стаффорд 1984:
Barbara Maria Stafford. Characters in Stones, Marks on Paper: Enlightenment
Discourse on Natural and Artificial Taches. - Art Journal, v. 44, n° 3, Fall
1984, p. 233-244.
Стейнберг 1980: Leo
Steinberg. The Line of Pate in Michelangelo's Painting. - Critical Inquiry, v. 6,
n° 3, Spring 1980, p. 411-454.
Стивенсон 1950:
Selected Writings of Robert Louis Stevenson. New York, Random House.
Стриндберг 1984:
August Strindberg. Inferno. From an Occult Diary. Harmondsworth, Penguin Books.
Стриндберг 1992:
August Strindberg. On the action of light on photography: Reflection occasioned
by the X-rays. - In: Comparative Criticism, v. 14. Cambridge, Cambridge
University Press, 1992, p. 175-181.
Стролл 1988: Avrum
Stroll. Surfaces. Minneapolis. University of Minnesota Press.
Сури 1893: Jules
Soury. Origine et nature du mouvemnet organique. - Revue philsophique, t. 36,
Juillet-dec. 1893, p. 32-55.
Сурио 1969: Etienne
Souriau. La correspondance des arts. Paris, Flammarion.
Сушаль 1977:
Francois Souchal. French Sculptors of the 17th and 18th Centuries. The Reign of
Louis XIV. Illustrated catalogue, t. 2, Oxford, Cassirer.
331
Сю 1954: Eugene Sue. Les Mysteres de Paris. Paris, Fayard.
Тарасенков A T.
1952: Последние дни жизни Н. В. Гоголя. - В кн.: Гоголь в воспоминаниях
современников. М., Гослитиздат, 1952, с. 511-525.
Тард 1890: G.
Tarde. Les lois de 1'imitation. Paris, Fe1ix Alcan.
Тауск 1988: Victor
Tausk. On the Origin of the 'Influencing Machine' in Schizophrenia.- In:
Essential Papers on Psychosis. Ed. by Peter Buckley. New York - London, New
York University Press, p. 49-77.
Тевеляйт 1987:
Klaus Theweleit. Male Fantasies, v. 1: Women, Floods, Bodies, History.
Minneapolis. Minnesota University Press.
Терц Абрам (Андрей
Синявский) 1992: В тени Гоголя. - В кн.: Абрам Терц. Собр. соч. в двух томах,
т. 2. М., Старт, 1992, с. 3-336.
Този 1984: Virgilio
Tosi. II cinema prima di Lumiere. Torino, ERI Edizioni Rai.
Томпсон 1992: G.R.
Thompson. The Arabesque Design of Arthur Gordon Рут. - In: Poe's Pym: Critical
Explorations. Ed. by Richard Kopley. Durham - London, Duke University Press, p.
188-216.
Торт 1980: Patrick
Tort. L'ordre et les monstres. Paris, Le Sycomore.
Трауэр 1972: Norman J. W. Thrower. Maps and Man. An
Examination of Cartography in Relation to Culture and Civilization,
Englewood-Cliffs, Prentice-Hall.
Туркин В. 1925:
Кино-актер. М., Кино-издательство РСФСР. Тынянов Ю. Н. 1959: Сочинения в трех
томах, т. 1. М.-Л., Гослитиздат.
Уиллемен 1994: Paul
Willemen. Looks and Frictions. Bloomington- Indianapolis-London, Indiana
University Press - BFI.
Фаджиоло 1980:
Marcello Fagiolo. II giardino come teatro del mondo e delta memoria. - In: La
citta effimera e 1'universo artificiale del giardino: La Firenze dei Medici e
1'Italia dell' 500. A cura di Marcello Fagiolo. Roma, Officina, p. 125-141.
Фенгер 1979: Donald
Fanger. The Creation of Nikolai Gogol. Cambridge, Mass. - London, The Belknap
Press.
Ференци 1938:
Sandor Ferenczi. Thalassa. A Theory of Genitality. New York, The Psychoanalitic
Quarterly.
Фидлер 1978: Leslie
Fiedler. Freaks. Myths and Images of the Secret Self. New York, Simon and
Schuster.
Филопон 1991:
Place, Void, and Eternity. Philoponus: Corollaries on Place and Void.
Simplicius: Against Philoponus on the Eternity of the World. Ithaca, Cornell
University Press.
Фламмарион б.г.: - Camille
Flammarion. Clairs de Lune. Paris, Flammarion.
Флобер Гюстав 1936:
Искушение Святого Антония. Пер. М. А.
Петровского и М. В. Вахтеровой. - В кн.: Г. Флобер. Собр. соч. в десяти томах,
т. 4. М., Худлит.
Флобер Гюстав 1989: Госпожа Бовари. Повести. Лексикон прописных
истин. М., Худлит.
Фор 1927: Elie
Faure. Histoire de 1'art. L'Esprit des formes. Paris, Cres.
Фореггер Н. 1926: А
почему? (Вместо предисловия). - В кн.:
Евг. Петров. Что должен знать кино-актер. М., Кинопечать, 1926, с. 3-4.
332
Фосийон 1963: Henri Focillon. The Art of the West in the
Middle Ages, v. 1: Romanesque Art. London, Phaidon.
Фрейд 1963: Sigmund
Freud. Screen Memories.- In: S. Freud. Early Psychoanalitic Writings. N.Y.,
Collier Books, p. 229-250.
Фрейд 1963а:
Sigmund Freud. Further Recommendations in the Technique of Psycho-analysis.
Recollection, Repetition and Working Through. - In: S. Freud. Therapy and
Technique. New York, Collier Books, p. 167-180.
Фрейд 19636:
Sigmund Freud. The 'Uncanny'. - In: S. Freud. Studies in Parapsychology. Ed. by
Philip Rieff. New York, Collier Books, p. 19-62.
Фрейд 1963в:
Sigmund Freud. Psychoanalytic Notes upon an Autobiographical Account of a Case
of Paranoia (Dementia Paranoides). - In: S. Freud. Three Case Histories. New
York, Collier Books, p. 103-186.
Фрейд 1963г:
Sigmund Freud. A Mythological Parallel to a Visual Obsession. In: S. Freud.
Character and Culture. Ed. by Ph. Rieff. New York, Collier Books, p. 152-154.
Фрейд 1963д: Sigmund Freud.
Hypnotism and Suggestion. ~ In: S. Freud. Therapy and Technique. Ed. by Ph.
Rieff. New York, Collier Books, p. 27-39.
Фрейд 1963е:
Sigmund Freud. Some Points in a Comparative Study of Organic Hysterical
Paralyses. - In: S. Freud. Early Psychoanalytic Writings. Ed. by Ph. Rieff. New
York, Collier Books, p. 51-66.
Фрейд 1965: Sigmund
Freud. The Interpretation of Dreams. New York, Avon.
Фрейд 1979: Sigmund
Freud. Inhibitions, Symptoms and Anxiety.- In: S. Freud. On Psychopathology.
Harmondsworth, Penguin Books, p. 237-333.
Фрейд 1986: Sigmund
Freud. Le delire et les reves dans la Gradiva de W. Jensen. Paris, Gallimard.
Фрейд - Брейер
1983: Sigmund Freud, Joseph Breuer. Studies on Hysteria. Harmondsworth, Penguin
Books.
Фрейдин 1987: G.
Freidin. A Coat of Many Colors: Ossip Mandelstam and his Mythologies of Self-Presentation.
Berkeley - Los Angeles - London, University of California Press.
Фронтизи-Дюкру
1975: Francoise Frontisi-Ducroux. D6dale: mythologie de 1'artisan en Grece
ancienne. Paris, Maspero.
Фрэзер 1964: -
James Frazer. The New Golden Bough. New York, New American Library.
Фуко 1966: Michel
Foucault. Les mots et les choses. Paris, Gallimard. Фуко 1992: Michel Foucault.
Raymond Roussel. Paris, Gallimard.
Фуко 1994: Michel
Foucault. Dits et ecrits 1954-1969. Edite par Daniel Defert, Francois Ewald et
Jacques Lagrange. V. 1. Paris, Gallimard.
Фуллер 1914: Loie
Fuller et son ecole. - Comoedia illustre, 20. 5. 1914. Фуллер 1978: Loie
Fuller. Fifteen Years or a Dancer's Life. New York, Dance Horizons.
Фурнье 1864:
Edouard Fournier. Chroniques et legendes des rues de Paris. Paris, E. Dentu.
Хайд 1988: Ralph
Hyde. Panoramania! London, Trefoil Publications.
333
Хайдеггер 1962: Martin Heidegger. Being and Time. San
Francisco, Harper.
Хайдеггер 1971:
Martin Heidegger. Poetry, Language, Thought. New York, Harper and Row.
Хайдеггер 1979:
Martin Heidegger. Nietzsche, v. 1. San Francisco, Harper. Хайдеггер 1984:
Martin Heidegger. Early Greek Thinking. San Francisco, Harper.
Хаксли 1959: Aldous
Huxley. The Doors of Perception and Heaven and Hell. Harmondsworth, Penguin
Books.
Хандке 1989: Peter
Handke. Repetition. New York, Macmillan.
Хант 1986: John
Dixon Hunt. Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English
Imagination: 1600-1750. Princeton, Princeton University Press.
Хант- Уиллис 1988:
The Genius of the Place. The English Landscape Garden 1620-1820. Ed. by John
Dixon Hunt and Peter Willis. Cambridge, Mass., - London, The МIT Press.
Харкурт 1987: Glenn
Harcourt. Andreas Vesalius and the Anatomy of Antique Sculpture. -
Representations, n° 17, Winter 1987, p. 28-61.
Хартман 1958: Heinz
Hartmann. Ego Psychology and the Problem of Adaptation. New York, International
University Press.
Хендерсон 1988:
Linda Dalrymple Henderson. X Rays and the Quest for Invisible Realilty in the
Art of Kupka, Duchamp, and the Cubists. - Art Journal, v. 47, n 4, 1988, p.
323-340.
Ходасевич Владислав
1992: Собрание стихов. М., Центурион-Интерпракс.
Холландер 1980: Ann
Hollander. Seeing Through Clothes. New York, Avon.
Целлер 1976: Hatte
ich das Kino! die Schriftsteller und der Stummfilm. Herausgegeben von B.
Zeiler. Munchen-Stuttgart.
Цивьян Т. В. 1983:
Verg. Georg. IV, 116-148: к мифологеме сада. - В кн.: Текст: семантика и
структура. М., Наука, с. 140-151.
Цивьян Ю. Г. 1992:
Рентген, хирургия, микроскоп в семиотике раннего кино (к постановке вопроса). -
Семиотика и история. Труды по знаковым системам XXV. Тарту, 1992, с. 137-143.
Чехов А. П. 1951.
Полное собрание сочинений и писем, т. 20. М., Гослитиздат.
Чехов А П. 1959:
Повести и рассказы в трех томах. М., Гослитиздат. Чехов А. П. 1963: Собрание
сочинений в двенадцати томах. М., Гослитиздат.
Шапиро 1975: Meyer
Shapiro. From Paul Cezanne. - In: Cezanne in Perspective. Ed. by Judith
Wechsler. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, p. 133-141.
Шарко 1991: J.-M.
Charcot. Clinical Lectures on Diseases of Nervous System. London - New York,
Tavistock - Routledge.
Шатобриан 1851:
Chateaubriand. Les Martyrs. Paris, Firmin Didot.
Шварц 1992: Hillel
Schwartz. Torque: The New Kinaesthetic of the Twentieth Century. - In:
Incorporations. Ed. by Jonathan Crary and Sanford Kwinter. New York, Zone, p.
70-127.
Шевалье 1958: Louis
Chevalier. Classes laborieuses et classes dangereuses a Paris pendant la
premiere moitie du XIXe siecle. Paris,
Plon.
334
Шевырев С. П. 1982: Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н.
Гоголя.- В кн.: Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века. Сост. В. К.
Кантора и А. Л. Осповата. М., Искусство, с. 54-80.
Шефтсбери 1975:
Эстетические опыты. М., Искусство.
Шилдер 1970: Paul
Schilder. The Image and Appearance of the Human Body. New York, International
University Press.
Шиллер Фридрих
1957: О наивной и сентиментальной поэзии. В кн.: Ф. Шиллер. Собр. соч. в семи
томах, т. 6. М., Гослитиздат, с. 385-477.
Шион 1982: Michel
Chion. Lavoix au cinema. Paris, Ed. de 1'etoile.
Шкловский Виктор
1926: А. Хохлова. - В кн.: В. Шкловский, С. Эйзенштейн. Хох-лова. М.,
Кинопечать, с. 10-16.
Шлоссер 1911: J.
von Schlosser. Geschichte der Portratbildnerei in Wachs. - Jahrbuch der
Kunsthistorischen Sammlung des Allerhochsten Kaiserhauses, Bd. 29. Wien -
Leipzig, F. Tempsky - G. Freytag, S. 171-258.
Шолем 1961: Gershom
G. Scholem. Major trends in Jewish Mysticism. New York, Schocken.
Шонди 1987: Peter
Szondi. Theory of the Modern Drama. Ed. and Transl. by Michael Hays.
Minneapolis, University of Minnesota Press.
Шонди 1988: Peter
Szondi. Walter Benjamin's City Portraits. - In: On Walter Benjamin. Ed. by Gary
Smith, Cambridge, Mass. - London, The MIT Press, p. 18-32.
Шпитцер 1963: Leo
Spitzer. Classical and Christian Ideas of World Harmony. Baltimore, The Johns
Hopkins University Press.
Шребер 1985: Daniel
Paul Schreber. Memoires d'un nevropathe. Paris, Seuil. Эдер 1978: Joseph Maria
Eder. History of Photography. New York, Dover.
Эджертон 1985: S.
Y. Eggerton, jr. Pictures and Punishment. Art and Criminal Prosecution During
the Florentine Renaissance. Ithaca - London, Cornell University Press.
Эйзенштейн
Сергей 1964: Избранные произведения в
шести томах, т. 2. М., Искусство.
Эйзенштейн С. М.
1985: Из заметок о собственном рисовании. - Проблемы синтеза в художественной
культуре. Москва, Наука, с. 269-276.
Эйзенштейн С. М.
1985а: Дисней. - В кн.: Проблемы синтеза в художественной культуре. М., Наука,
1985, с. 209-284.
Эйзенштейн С. М.
1992: Откровение в грозе и буре (Заметки к истории звукозрительного
контрапункта). - Киноведческие записки, ? 15, 1992, с. 183-206.
Эйнштейн 1989: Carl
Einstein. Bebuquin, oder die Dillettanten des Wunders. Leipzig-Weimar,
Kiepenheuer.
Эйхенбаум Борис
1969: О прозе. Л., Худлит.
Элиаде 1978: Mircea
Eliade. A History of Religious Ideas, v. 1. Chicago, University of Chicago
Press.
Эллисон 1988:
Psychosis and Sexual Identity: Toward a Post-Ananlytic View of the Schreber
Case. Ed. by David B. Allison, Prado de Oliveira, Mark S. Roberts, Alien S.
Weiss. New York, State University of New York Press.
335
Элльманн 1993: Maud Ellmann. The Hunger Artists: Starving,
Writing, and Imprisonment. Cambridge, Mass., Harvard University Press.
Энциклопедия 1751:
Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers,
par une societe de gens de lettres, 1.1. Paris.
Эпштейн Жан 1988: О
некоторых условиях фотогении. - В кн.: Из истории французской киномысли. Немое
кино: 1911-1933. Сост. и пер. М. Ямпольского. М., Искусство, с. 103-108.
Юнг 1970: С. G.
Jung. Psychiatric Studies. Princeton, Princeton University Press.
Юэ 1993:
Marie-He1ene Huet. Monstrous Imagination. Cambridge, Mass. - London, Harvard
University Press.
Ямпольский
Михаил 1989: Надар,- В кн.: Мир
фотографии. М., Планета, с. 85-94.
Ямпольский Михаил 1990: Платонов, прочитанный
Сокуровым. - Киноведческие записки, п° 5,1990, с.53-67.
Ямпольский Михаил
1991: Смерть в кино. - Искусство кино, 9,1991, с. 53-63.
Ямпольский Михаил
1991 а: Эксперименты Кулешова и новая антропология актера. - В кн.: Ноосфера и
художественное творчество. М., Наука, с. 183-199.
Ямпольский Михаил
1993: Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М., Культура.
Ямпольский Михаил
1993 а: Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., Киноведческие
записки.
Яусс 1982: Hans
Robert Jauss. Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics. Minneapolis,
University of Minnesota Press.
![]()
Михаил
Ямпольский
ДЕМОН И ЛАБИРИНТ (Диаграммы, деформации,
мимесис)
Корректор
Н. Лаховская
ЛР ? 061083 от 20.04.92 г. Издательство 'Новое литературное обозрение'.
Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная ? 1. Офсетная печать. Усл. печ. л. 21. ВТИ Зак.2113.
Сканирование: Янко Слава (библиотека Fort
/ Da) slavaaa@online.ru || yanko_slava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || зеркало: http://members.fortunecity.com/slavaaa/ya.html
|| http://yankos.chat.ru/ya.html | Icq# 75088656
update 02.08.02
Случай на мосту через Совиный ручей *
1
На железнодорожном мосту, в северной части Алабамы, стоял человек исмотрел вниз, на быстрые воды в двадцати футах под ним. Руки у него былисвязаны за спиной. Шею стягивала веревка. Один конец ее был прикреплен кпоперечной балке над его головой и свешивался до его колен. Несколько досок,положенных на шпалы, служили помостом для него и для его палачей - двухсолдат федеральной армии под началом сержанта, который в мирное время скореевсего занимал должность помощника шерифа. Несколько поодаль, на том жеимпровизированном эшафоте, стоял офицер в полной капитанской форме, приоружии. На обоих концах моста стояло по часовому с ружьем "на караул", тоесть держа ружье вертикально, против левого плеча, в согнутой под прямымуглом руке, - поза напряженная, требующая неестественного выпрямлениятуловища. По-видимому, знать о том, что происходит на мосту, не входило вобязанности часовых; они только преграждали доступ к настилу. Позади одного из часовых никого не было видно; на сотню ярдов рельсыубегали по прямой в лес, затем скрывались за поворотом. По всей вероятности,в той стороне находился сторожевой пост. На другом берегу местность былаоткрытая - пологий откос упирался в частокол из вертикально вколоченныхбревен, с бойницами для ружей и амбразурой, из которой торчало жерлонаведенной на мост медной пушки. По откосу, на полпути между мостом иукреплением, выстроились зрители - рота солдат-пехотинцев в положении"вольно": приклады упирались в землю, стволы были слегка наклонены к правомуплечу, руки скрещены над ложами. Справа от строя стоял лейтенант, сабля егобыла воткнута в землю, руки сложены на эфесе. За исключением четверых людейна середине моста, никто не двигался. Рота была повернута фронтом к мосту,солдаты застыли на месте, глядя прямо перед собой. Часовые, обращенные лицомкаждый к своему берегу, казались статуями, поставленными для украшениямоста. Капитан, скрестив руки, молча следил за работой своих подчиненных, неделая никаких указаний. Смерть - высокая особа, и если она заранее оповещаето своем прибытии, ее следует принимать с официальными изъявлениями почета;это относится и к тем, кто с ней на короткой ноге. По кодексу военногоэтикета безмолвие и неподвижность знаменуют глубокое почтение. Человеку, которому предстояло быть повешенным, было на вид лет тридцатьпять. Судя по платью - такое обычно носили плантаторы, - он был штатский.Черты лица правильные - прямой нос, энергичный рот, широкий лоб; черныеволосы, зачесанные за уши, падали на воротник хорошо сшитого сюртука. Онносил усы и бороду клином, но щеки были выбриты; большие темно-серые глазавыражали доброту, что было несколько неожиданно в человеке с петлей на шее.Он ничем не походил на обычного преступника. Закон военного времени нескупится на смертные приговоры для людей всякого рода, не исключая иджентльменов. Закончив приготовления, оба солдата отступили на шаг, и каждый оттащилдоску, на которой стоял. Сержант повернулся к капитану, отдал честь и тут жевстал позади него, после чего капитан тоже сделал шаг в сторону. Врезультате этих перемещений осужденный и сержант очутились на концах доски,покрывавшей три перекладины моста. Тот конец, на котором стоял штатский,почти - но не совсем - доходил до четвертой. Раньше эта доска удерживалась вравновесии тяжестью капитана; теперь его место занял сержант. По сигналукапитана сержант должен был шагнуть в сторону, доска - качнуться иосужденный - повиснуть в пролете между двумя перекладинами. Он оценил подостоинству простоту и практичность этого способа. Ему не закрыли лица и незавязали глаз. Он взглянул на свое шаткое подножие, затем обратил взор набурлящую речку, бешено несущуюся под его ногами. Он заметил пляшущее в водебревно и проводил его взглядом вниз по течению. Как медленно оно плыло!Какая ленивая река! Он закрыл глаза, стараясь сосредоточить свои последние мысли на жене идетях. До сих пор вода, тронутая золотом раннего солнца, туман, застилавшийберега, ниже по течению - маленький форт, рота солдат, плывущее бревно - всеотвлекало его. А теперь он ощутил новую помеху. Какой-то звук, назойливый инепонятный, перебивал его мысли о близких - резкое, отчетливое металлическоепостукивание, словно удары молота по наковальне: в нем была та же звонкость.Он прислушивался, пытаясь определить, что это за звук и откуда он исходит;он одновременно казался бесконечно далеким и очень близким. Ударыраздавались через правильные промежутки, но медленно, как похоронный звон.Он ждал нового удара с нетерпением и, сам не зная почему, со страхом.Постепенно промежутки между ударами удлинялись, паузы становились всемучительнее. Чем реже раздавались звуки, тем большую силу и отчетливость ониприобретали. Они, словно ножом, резали ухо; он едва удерживался от крика.То, что он слышал, было тиканье его часов. Он открыл глаза и снова увидел воду под ногами. "Высвободить бы толькоруки, - подумал он, - я сбросил бы петлю и прыгнул в воду. Если глубоконырнуть, пули меня не достанут, я бы доплыл до берега, скрылся в лесу ипробрался домой. Мой дом, слава богу, далеко от фронта; моя жена и дети покаеще недосягаемы для захватчиков". Когда эти мысли, которые здесь приходится излагать словами, сложились всознании обреченного, точнее - молнией сверкнули в его мозгу, капитан сделалзнак сержанту. Сержант отступил в сторону.
2
Пэйтон Факуэр, состоятельный плантатор из старинной и весьма почтеннойалабамской семьи, рабовладелец и, подобно многим рабовладельцам, участникполитической борьбы за отделение Южных штатов, был ярым приверженцем делаюжан. По некоторым, не зависящим от него обстоятельствам, о которых здесьнет надобности говорить, ему не удалось вступить в ряды храброго войска,несчастливо сражавшегося и разгромленного под Коринфом, и он томился вбесславной праздности, стремясь приложить свои силы, мечтая об увлекательнойжизни воина, ища случая отличиться. Он верил, что такой случай емупредставится, как он представляется всем в военное время. А пока он делал,что мог. Не было услуги - пусть самой скромной, - которой он с готовностьюне оказал бы делу Юга; не было такого рискованного предприятия, на котороеон не пошел бы, лишь бы против него не восставала совесть человекаштатского, но воина в душе, чистосердечно и не слишком вдумчиво уверовавшегов неприкрыто гнусный принцип, что в делах любовных и военных дозволено все. Однажды вечером, когда Факуэр сидел с женой на каменной скамье у воротсвоей усадьбы, к ним подъехал солдат в серой форме и попросил напиться.Миссис Факуэр с величайшей охотой отправилась в дом, чтобы собственноручноисполнить его просьбу. Как только она ушла, ее муж подошел к запыленномувсаднику и стал жадно расспрашивать его о положении на фронте. - Янки восстанавливают железные дороги, - сказал солдат, - и готовятсяк новому наступлению. Они продвинулись до Совиного ручья, починили мост ивозвели укрепление на своем берегу. Повсюду расклеен приказ, что всякийштатский, замеченный в порче железнодорожного полотна, мостов, туннелей илисоставов, будет повешен без суда. Я сам читал приказ. - А далеко до моста?- спросил Факуэр. - Миль тридцать. - А наш берег охраняется? - Только сторожевой пост на линии, в полмили от реки, да часовой намосту. - А если бы какой-нибудь кандидат висельных наук, и притом штатский,проскользнул мимо сторожевого поста и справился бы с часовым, - с улыбкойсказал Факуэр, - что мог бы он сделать? Солдат задумался. - Я был там с месяц назад, - ответил он, - и помню, что во времязимнего разлива к деревянному устою моста прибило много плавника. Теперьбревна высохли и вспыхнут, как пакля. Тут вернулась миссис Факуэр и дала солдату напиться. Он учтивопоблагодарил ее, поклонился хозяину и уехал. Час спустя, когда уже стемнело,он снова проехал мимо плантации в обратном направлении. Это был лазутчикфедеральных войск.
3
Падая в пролет моста, Пэйтон Факуэр потерял сознание и был уже словномертвый. Очнулся он - через тысячелетие, казалось ему, - от острой боли всдавленном горле, за которой последовало ощущение удушья. Мучительные,резкие боли словно отталкивались от его шеи и расходились по всему телу. Онимчались по точно намеченным разветвлениям, пульсируя с непостижимойчастотой. Они казались огненными потоками, накалявшими его тело донестерпимого жара. До головы боль не доходила - голова гудела от сильногоприлива крови. Мысль не участвовала в этих ощущениях. Сознательная часть егосущества уже была уничтожена; он мог только чувствовать, а чувствовать былопыткой. Но он знал, что движется. Лишенный материальной субстанции,превратившись всего только в огненный центр светящегося облака, он, словногигантский маятник, качался по немыслимой дуге колебаний. И вдруг сострашной внезапностью замыкающий его свет с громким всплеском взлетелкверху; уши ему наполнил неистовый рев, наступили холод и мрак. Мозг сновазаработал; он понял, что веревка оборвалась и что он упал в воду. Но он незахлебнулся; петля, стягивающая ему горло, не давала воде заливать легкие.Смерть через повешение на дне реки! Что может быть нелепее? Он открыл глазав темноте и увидел над головой слабый свет, но как далеко, как недосягаемодалеко! По-видимому, он все еще погружался, так как свет становился слабей ислабей, пока не осталось едва заметное мерцание. Затем свет опять сталбольше и ярче, и он понял, что его выносит на поверхность, понял ссожалением, ибо теперь ему было хорошо". Быть повешенным и утопленным, -подумал он, - это еще куда ни шло; но я не хочу быть пристреленным. Нет,меня не пристрелят; это было бы несправедливо". Он не делал сознательных усилий, но по острой боли в запястьяхдогадался, что пытается высвободить руки. Он стал внимательно следить засвоими попытками, равнодушный к исходу борьбы, словно праздный зритель,следящий за работой фокусника. Какая изумительная ловкость! Какаявеликолепная сверхчеловеческая сила! Ах, просто замечательно! Браво! Веревкаупала, руки его разъединились и всплыли, он смутно различал их в ширящемсясвете. Он с растущим вниманием следил за тем, как сначала одна, потом другаяухватилась за петлю на его шее. Они сорвали ее, со злобой отшвырнули, онаизвивалась, как уж. "Наденьте, наденьте опять! Ему казалось, что он крикнул это своимрукам, ибо муки, последовавшие за ослаблением петли, превзошли всеиспытанное им до сих пор. Шея невыносимо болела; голова горела, как в огне;сердце, до сих пор слабо бившееся, подскочило к самому горлу, стремясьвырваться наружу. Все тело корчилось в мучительных конвульсиях. Нонепокорные руки не слушались его приказа. Они били по воде сильными,короткими ударами сверху вниз, выталкивая его на поверхность. Онпочувствовал, что голова его поднялась над водой; глаза ослепило солнце;грудная клетка судорожно расширилась - и в апогее боли его легкиенаполнились воздухом, который он тут же с воплем исторгнул из себя. Теперь он полностью владел своими чувствами. Они даже были необычайнообострены и восприимчивы. Страшное потрясение, перенесенное его организмом,так усилило и утончило их, что они отмечали то, что раньше было имнедоступно. Он ощущал лицом набегающую рябь и по очереди различал звуккаждого толчка воды. Он смотрел на лесистый берег, видел отдельно каждоедерево, каждый листик и жилки на нем, все вплоть до насекомых в листве -цикад, мух с блестящими спинками, серых пауков, протягивающих свою паутинуот ветки к ветке. Он видел все цвета радуги в капельках росы на миллионахтравинок. Жужжание мошкары, плясавшей над водоворотами, трепетание крылышекстрекоз, удары лапок жука-плавунца, похожего на лодку, приподнятую веслами,- все это было внятной музыкой. Рыбешка скользнула у самых его глаз, и онуслышал шум рассекаемой ею воды. Он всплыл на поверхность спиной к мосту; в то же мгновение видимый мирстал медленно вращаться вокруг него, словно вокруг своей оси, и он увиделмост, укрепление на откосе, капитана, сержанта, обоих солдат - своихпалачей. Силуэты их четко выделялись на голубом небе. Они кричали иразмахивали руками, указывая на него; капитан выхватил пистолет, но нестрелял; у остальных не было в руках оружия. Их огромные жестикулирующиефигуры были нелепы и страшны. Вдруг он услышал громкий звук выстрела, и что-то с силой ударило поводе в нескольких дюймах от его головы, обдав ему лицо брызгами. Опятьраздался выстрел, и он увидел одного из часовых, - ружье было вскинуто, наддулом поднимался сизый дымок. Человек в воде увидел глаз человека на мосту,смотревший на него сквозь щель прицельной рамки. Он отметил серый цвет этогоглаза и вспомнил, что серые глаза считаются самыми зоркими и что будто бывсе знаменитые стрелки сероглазы. Однако этот сероглазый стрелокпромахнулся. Встречное течение подхватило Факуэра и снова повернуло его лицом клесистому берегу. Позади него раздался отчетливый и звонкий голос, и звукэтого голоса, однотонный и певучий, донесся по воде так внятно, что прорвали заглушил все остальные звуки, даже журчание воды в его ушах. Факуэр, хотьи не был военным, достаточно часто посещал военные лагеря, чтобы понятьгрозный смысл этого нарочито мерного, протяжного напева; командир роты,выстроенной на берегу, вмешался в ход событий. Как холодно и неумолимо, скакой уверенной невозмутимой модуляцией, рассчитанной на то, чтобы внушитьспокойствие солдатам, с какой обдуманной раздельностью прозвучали жесткиеслова: - Рота. смирно!... Ружья к плечу!... Готовсь... Целься... Пли! Факуэр нырнул - нырнул как можно глубже. Вода взревела в его ушах,словно то был Ниагарский водопад, но он все же услышал приглушенный громзалпа и, снова всплывая на поверхность, увидел блестящие кусочки металла,странно сплющенные, которые, покачиваясь, медленно опускались на дно.Некоторые из них коснулись его лица и рук, затем отделились, продолжаяопускаться. Один кусочек застрял между воротником и шеей; стало горячо, иФакуэр его вытащил. Когда он, задыхаясь, всплыл на поверхность, он понял, что пробыл подводой долго; его довольно далеко отнесло течением -прочь от опасности.Солдаты кончали перезаряжать ружья; стальные шомполы, выдернутые из стволов,все сразу блеснули на солнце, повернулись в воздухе и стали обратно в своигнезда. Тем временем оба часовых снова выстрелили по собственному почину - ибезуспешно. Беглец видел все это, оглядываясь через плечо; теперь он уверенно плылпо течению. Мозг его работал с такой же энергией, как его руки и ноги; мысльприобрела быстроту молнии. "Лейтенант, - рассуждал он, - допустил ошибку, потому что действовал пошаблону; больше он этого не сделает. Увернуться от залпа так же легко, какот одной пули. Он, должно быть, уже скомандовал стрелять вразброд. Плоходело, от всех не спасешься". Но вот в двух ярдах от него - чудовищныйвсплеск и тотчас же громкий стремительный гул, который, постепенно слабея,казалось, возвращался по воздуху к форту и наконец завершился оглушительнымвзрывом, всколыхнувшим реку до самых глубин! Поднялась водяная стена,накренилась над ним, обрушилась на него, ослепила, задушила. В игру вступилапушка. Пока он отряхивался, высвобождаясь из вихря вспененной воды, онуслышал над головой жужжанье отклонившегося ядра, и через мгновение из лесудонесся треск ломающихся ветвей. "Больше они этого не сделают, - думалФакуэр, - теперь они пустят в ход картечь. Нужно следить за пушкой; меняпредостережет дым - звук ведь запаздывает; он отстает от выстрела. А пушкахорошая! Вдруг он почувствовал, что его закружило, что он вертится волчком.Вода, оба берега, лес, оставшийся далеко позади мост, укрепление и ротасолдат - все перемешалось и расплылось. Предметы заявляли о себе толькосвоим цветом. Бешеное вращение горизонтальных цветных полос - вот все, чтоон видел. Он попал в водоворот, и его крутило и несло к берегу с такойбыстротой, что он испытывал головокружение и тошноту. Через несколько секундего выбросило на песок левого - южного - берега, за небольшим выступом,скрывшим его от врагов. Внезапно прерванное движение, ссадина на руке,пораненной о камень, привели его в чувство, и он заплакал от радости. Онзарывал пальцы в песок, пригоршнями сыпал его на себя и вслух благословлялего. Крупные песчинки сияли, как алмазы, как рубины, изумруды: они походилина все, что только есть прекрасного на свете. Деревья на берегу былигигантскими садовыми растениями, он любовался стройным порядком ихрасположения, вдыхал аромат их цветов. Между стволами струился таинственныйрозоватый свет, а шум ветра в листве звучал, как пение эоловой арфы. Он неиспытывал желания продолжать свой побег, он охотно остался бы в этомволшебном уголке, пока его не настигнут. Свист и треск картечи в ветвях высоко над головой нарушили его грезы.Канонир, обозлившись, наугад послал ему прощальный привет. Он вскочил наноги, бегом взбежал по отлогому берегу и укрылся в лесу. Весь день он шел, держа направление по солнцу. Лес казался бесконечным;нигде не видно было ни прогалины, ни хотя бы охотничьей тропы. Он и не знал,что живет в такой глуши. В этом открытии было что-то жуткое. К вечеру он обессилел от усталости и голода. Но мысль о жене и детяхгнала его вперед. Наконец он выбрался на дорогу и почувствовал, что онаприведет его к дому. Она была широкая и прямая, как городская улица, но,по-видимому, никто по ней не ездил. Поля не окаймляли ее, не видно было истроений. Ни намека на человеческое жилье, даже ни разу не залаяла собака.Черные стволы могучих деревьев стояли отвесной стеной по обе стороны дороги,сходясь в одной точке на горизонте, как линии на перспективном чертеже.Взглянув вверх из этой расселины в лесной чаще, он увидел над головойкрупные золотые звезды -они соединялись в странные созвездия и показалисьему чужими. Он чувствовал, что их расположение имеет тайный и зловещийсмысл. Лес вокруг него был полон диковинных звуков, среди которых - раз,второй и снова - он ясно расслышал шепот на незнакомом языке. Шея сильно болела, и, дотронувшись до нее, он убедился, что она страшнораспухла. Он знал, что на ней черный круг - след веревки. Глаза быливыпучены, он уже не мог закрыть их. Язык распух от жажды: чтобы унять в немжар, он высунул его на холодный воздух. Какой мягкой травой заросла этанеезженная дорога! Он уже не чувствовал ее под ногами! Очевидно, не смотря на все мучения, он уснул на ходу, потому что теперьперед ним была совсем другая картина, - может быть, он просто очнулся отбреда. Он стоит у ворот своего дома. Все осталось как было, когда он покинулего, и все радостно сверкает на утреннем солнце. Должно быть, он шел всюночь. Толкнув калитку и сделав несколько шагов по широкой аллее, он видитвоздушное женское платье; его жена, свежая, спокойная и красивая, спускаетсяс крыльца ему навстречу. На нижней ступеньке она останавливается и поджидаетего с улыбкой неизъяснимого счастья, - вся изящество и благородство. Как онапрекрасна! Он кидается к ней, раскрыв объятия. Он уже хочет прижать ее кгруди, как вдруг яростный удар обрушивается сзади на его шею;ослепительно-белый свет в грохоте пушечного выстрела полыхает вокруг него -затем мрак и безмолвие! Пэйтон Факуэр был мертв; тело его, с переломанной шеей, мернопокачивалось под стропилами моста через Совиный ручей.
Р.Орлова. Амброз Бирс
OCR: Максим Бычков
Рассказ не приняли, сказали, что он слишком мрачен. Сколько раззарекался - не отдавать на суд чужих людей свое самое личное, не выставлятьна всеобщее обозрение. Пиши в стол, если не можешь не писать. Прячь рассказыпод кипами статей,- статьи рвут из рук, их печатают мгновенно. Давно уже егоназывают королем калифорнийского журнализма. Слава. А ему кажется - главноене сказано. А если и сказано, то вот на этих пожелтевших листах, которыхникто, почти никто не читал. Может быть, и правы те, кто отвергает? Амброз Бирс медленно перечитывает свой рассказ "Случай на мосту черезСовиный ручей". Память той, далекой, почти легендарной войны. Для него -главная память. Герой рассказа Пэйтон Факуэр - южанин, враг. Его сейчас повесят. Бирсчитает и ясно видит перед собой этот берег, железнодорожный мост, егостропила, этот ручей, видит, как расположена доска для казни. Так помняткарту-двухверстку, тот клочок земли, который сам прошел, прополз. Такпомнят, когда малейшая неточность может стоить жизни. Оборвалась веревка, герой упал в воду. "Он ощущал лицом набегающую рябьи по очереди различал звук каждого толчка воды. Он смотрел на лесистыйберег, видел отдельно каждое дерево, каждый листик и жилки на нем, вплоть донасекомых в листве,- цикад, мух с блестящими спинками, серых пауков,протягивающих свою паутину от ветки к ветке". Пауза, толчок, снова пауза,- сам ритм прозы следует за движениямичеловека, чудом спасшегося от смерти. Только что все на берегу, в лесу былотак ясно, так обычно, так нормально и вдруг - странный, чужой, пугающийпейзаж. Пейзаж-сигнал: "Черные стволы могучих деревьев стояли отвеснойстеной по обе стороны дороги, сходясь в одной точке на горизонте, как линиина перспективном чертеже. Взглянув вверх из этой расселины в лесной чаще, онувидел над головой крупные золотые звезды,- они соединялись в странныесозвездия и показались ему чужими". Призрачный пейзаж вновь сменяетсяреальным, даже домашним, жена спускается с крыльца. "Он уже хочет прижать еек груди, как вдруг яростный удар обрушивается сзади на его шею;ослепительно-белый свет в грохоте пушечного выстрела полыхает вокруг него -затем мрак и безмолвие! Пэйтон Факуэр был мертв, тело его с переломанной шеей мернопокачивалось под стропилами моста через Совиный ручей". Вот они - эти строчки, развязка, ему кажется - нашел главное; аредакции рассказ не понравился. Что было на самом деле? Уже трудно вспомнить. Так, конечно, не было.Много раз бывало хмурое утро. Стреляли. Ловили шпионов. Убивали-умирали. Нехотели умирать, надеялись до конца на чудо. Было еще и на войне и в мирнойжизни нечто таинственное, странное,- как это выразить на бумаге? Бирс часто думал о погибших друзьях, об однополчанах, все чащевозвращался в прошлое. А если бы они остались в живых? Часто "проигрывал"про себя чужие жизни. Мнимое спасение героя, мнимое возвращение-это,конечно, писательская фантазия. В конце концов рассказ "Случай на мосту через Совиный ручей"опубликовали. Мог ли Бирс тогда думать, что этот рассказ будут читать иперечитывать разные люди в разных странах, переведут на многие иностранныеязыки, экранизируют? Потому что писателю удалось выразить нечто важное, страстное стремлениек жизни, способность человека до самого конца надеяться,- имрачно-ироническую издевку над этой надеждой. Удалось закрепить богатую и мгновенную изобразительную способностьсознания - и выразить все это в емкой, единственной, художественнозаконченной форме. "Случай на мосту через Совиный ручей" - один из лучших рассказов Бирса.Далеко не все написанное им - на этом уровне. * * * Амброз Бирс родился в 1842 году в маленькой деревушке штата Огайодесятым ребенком в семье обедневшего фермера. Его родители - шестоепоколение переселенцев, стойкие, замкнутые, фанатично религиозные люди. Онижили с убеждением, что человек рожден на свет для горя, а всякая радость отлукавого. У отца была небольшая библиотека, по тогдашнему времени это был человекначитанный, не без склонности к иронии. Всем своим детям он дал имена,начинающиеся с буквы "А", - Абигайл, Адиссон, Аурелин, Алмеда, Анна, Амелия,Августин, Андрью, Альберт. И десятый, младший, - Амброз. Семья часто переезжала,- может быть, там, в соседней деревне, всоседнем штате, хлеб дешевле, кров дешевле, легче жить. Родителям трудно было прокормить всех, Амброз рано начал работать. Впятнадцать лет он уже помощник типографщика антирабовладельческой газеты"Норзерн Индианиен". Потом он переменил много профессий: рекламировалпищевые продукты, служил официантом, рабочим на кирпичной фабрике. Поступилв военную школу в Кентукки. И всегда очень много читал. Бирс - "человек, сам себя сделавший", "self made man", как говорят
американцы. Важнейший из жизненных университетов Бирса - гражданская война, войнамежду Севером и Югом, Он сражался в рядах северян, четыре года провел нафронте, был тяжело ранен, лежал в госпитале. Увидел, испытал войну нештабную, а настоящую, в окопах, на передовой. С войны осталисьголовокружения и головные боли, которые мучили всю жизнь. Мальчик, подросток, юноша жил в мире запретов. Почти все было "нельзя",многое было "надо". "Добродетель - некоторые виды воздержания",- горькосформулирует он потом в "Словаре Сатаны". Долг представал вездесущим,страшным, карающим, неизбежным От долга не уйдешь никуда. Долг мял, душил. Ивдруг все это исчезло. Не надо было ни о чем думать. Не надо было выбирать.Рядовой девятого пехотного полка не выбирает. Бирс храбро сражался, ему в первый и в последний раз в жизни былобеззаботно и радостно жить. Даже радостно. Посреди насилия, крови, горя,смертей. Молодой солдат еще не думал о литературе, он лишь с жадностью,ненасытностью молодости, да и натуры артистической, вбирал, впитывал в себявсе впечатления. А потом, много лет спустя это в нем очнулось, ужеотстоявшимся и оформленным в рассказах. С теми серьезными поправками,которые вносились новыми представлениями о жизни. На войне его повышали в чинах - от рядового до майора. Он сталтопографом в армии Шермана. В 1865 году его демобилизовали. После войны он участвовал, как представитель правительства США, враспределении оставленной южанами собственности. И послевоенное похмелье онувидел в самых отвратительных, мелочных, подлых проявлениях. Пыталсясопротивляться, одерживал небольшие победы, но перед ним была стена. Он начал писать стихи, рассказы, очерки, статьи. Его подписи ккарикатурам появились однажды наклеенными на стенах в Сан-Франциско. Такпришел первый сладкий вкус славы. Он становится корреспондентом газеты "НьюзЛеттер" и потом, тридцать лет подряд, сотрудничает в разных газетах ижурналах, от его пера многое зависит - слава или безвестность, богатство илибедность, созданные или поверженные репутации. Бирс - колумнист; русскоеслово "обозреватель" не вполне передает его смысл. Колумнист ведетпостоянный раздел, рубрику, направляет газету, объясняет читателю, как надорасценивать очередной шаг правительства и мероприятия городских властей,новую книгу и политические перевороты в далеких странах. Колумнист оченьсилен. В 1871 году Бирс печатает свой первый рассказ "Долина призраков" вжурнале "Оверленд Мансли". На страницах этого журнпла совсем недавнопрославился Брет-Гарт. Двадцать лет спустя там же были опубликованы первыерассказы Джека Лондона,- и началась его мировая известность. Но в отличие отних и от других, более удачливых литературных собратьев, дебют Бирса, как ипервый его сборник рассказов "Самородки и пыль" (1872), не был замечен. После трехлетнего пребывания в Англии, где Бирс тоже успешносотрудничал в прессе, он снова возвращается в Сан-Франциско. Становитсяодним из организаторов Клуба богемы, хотя пуританин в нем бушует страстно.Он издает книгу, в которой обличает... вальс как "открытое и бесстыдноепроявление сексуальных влечений, проявление похоти...". Книга вызваланемалый шум. Бирс ходит по улицам с револьвером в кармане и с палкой в руках,- этоне бутафория и не причуды старого вояки. Порою дерется с обидчиками,лицемерами, лжецами. Журналистика не приносит богатства. Семья не такая большая, как у отца,но все же требует денег. Как и Твен, Бирс пытается стать бизнесменом, нотакже безуспешно. Он много пишет, обличает могущественных властителейАмерики. В одном из еженедельников он печатает статьи против корпорации"Сентрал Пасифик". "Мы считаем этих людей врагами общества и самыминастоящими преступниками",- заявляет Бирс в 1882 году. За двадцать лет допервых выступлений "разгребателей грязи" Бирс начал их дело, началпартизанские набеги на хозяев страны. "Юн поражал молниями негодяевкапиталистов и двуличных политиканов. Хотя многое в статьях Бирса былолегковесным и маловажным, значительная часть состояла в обличении тойподлости, которая, подобно раку, разъедала американскую жизнь взятками,подкупом, сделками, всем тем, что сопровождало путь разбойников капитала квласти",- пишет его биограф Фэтаут. При этом, до конца жизни, Бирс скептически относился к любым попыткампереустройства общества, отрицательно относился к социализму, в статьяхнападал на американских социалистов. Порою солидаризировался справительством; так, например, он поддерживал империалистическую войну,которую Соединенные Штаты вели против Испании за владение Кубой и Филиппинами. В 1887 году молодой Херст сделал Бирса фактическим редактором газеты"Сан-Франциско Экземинер". Растет известность, растет шумное и недолговечное- на один день - могущество газетчика. Его инициалы АГБ - Амброз ГрегориБирс - расшифровываются острословами как Almighty God Bierce - Всемогущий
Бог Бирс. И все больше грязи видит вокруг себя журналист. "Моя религия -ненавидеть негодяев". Эту религию он исповедует с истовой страстью. Он обличает в печати железнодорожного короля Хантингтона, а когда того,под давлением множества фактов, привлекают к судебной ответственности, Бирседет в Вашингтон в качестве общественного обвинителя. Его пытаютсяподкупить. На вопрос, сколько он хочет отступного, Бирс отвечает - семьдесятпять миллионов долларов. Эти семьдесят пять миллионов и вынужден был вернутьправительству США обвиняемый миллионер-разбойник. Американцы обогащались. Власть золота становилась все болеевсеобъемлющей. Бирс оказался среди тех немногих, кто осмеливался этомупротивостоять. И продолжал писать. В 1891 году на деньги почитателей издается сборник"В гуще жизни"; в 1892 году - "Может ли это быть?"; в 1899 году -"Фантастические басни"; сборники стихов и статей. Незадолго до смерти, в1909-1912 годах, публикуется первое и единственное собрание сочинений вдвенадцати томах. Туда включено все без отбора, безо всякой критическойоценки. Это издание - тоже результат частной инициативы, тираж - двестипятьдесят экземпляров. Маленький даже по тем временам, да и тот нерасходится, лежит в книжных лавках Сан-Франциско. Это еще более горько, чемвозвращенные рукописи. В детстве он страдал от отцовского деспотизма, но своих жену и детейтоже тиранил. И становился все более одиноким. Ушла жена, пятнадцатилетнийсын сбежал из дому и угодил в тюрьму. Бирс пережил обоих своих сыновей. В 1907 году он обращается к правительству США с просьбой о пенсии.Прошло сорок пять лет с тех пор, как он добровольно вступил в американскуюармию. Для большинства правительственных чиновников, которые рассматривалиего заявление, гражданская война-мертвая страница из учебников истории и самБирс обломок канувшей в Лету эпохи. Его прошение - очередное чудачество -удовлетворили, назначили двенадцать долларов в месяц. В 1913 году Бирс уехал военным корреспондентом в Мексику. И пропал.Последнее, полученное от него письмо датировано 26 декабря 1913 года. Смертьего окружена легендой. Расстрелян Панчо Вильей, вождем восставшихмексиканских крестьян? Это возможно, ведь Бирс, как американец, гринго -враг. Заплутался а неразберихе гражданской войны? Просто не выдержалфизических лишений? На этот раз ему не девятнадцать, а семьдесят один год.Как бы то ни было - не вернулся. Пришла смерть, о которой он столько писал. Бирс был одним из самых ярких, примечательных людей своего времени. Акак писатель он при жизни был почти неизвестен, К его книгам критика ичитатели начали обращаться лишь в двадцатые годы. Легенда и по сей деньсоперничает с истиной; и порою побеждает легенда. туры. Разрушение личности,по Бирсу. обуславливается не только давлением обстоятельств, но инепрочностью того нравственного материала, из которого сделан человек. Тогорько, то с отчаянием, то почти злорадно показывает автор,- вот они, люди,людишки, мелкие, подлые, трусливые. Разумеется, их, таких, можно заменитьмашинами, разумеется, их легко можно менять местами ("Страж мертвеца"). Среди множества лиц, населяющих рассказы, почти нет запоминающихсяхарактеров,- важно не с кем происходит, а что происходит. Это естественновытекает из отношения писателя к человеку. В "Словаре Сатаны" Вире так определяет понятие "привидение": "внешнее ивидимое воплощение внутреннего страха". Этими "внешними и видимымивоплощениями" наполнены его книги. А сам он, по свидетельствамсовременников, был человеком бесстрашным. В повседневной жизни, воспроизведенной писателем, было много реальныхпричин для страхов,- люди жили на границе лесов, населенных дикими зверями,люди были довольно слабы перед могущественными силами природы. Еще большеоснований для страхов создавали сами люди, история общества - истреблениеиндейцев, издевательства над неграми, линчевания, преследования всякихинакомыслящих, малые и большие, внешние и внутренние войны. В рассказах Бирса постоянно встречаются трупы, призраки, таинственныешорохи, гулкие шаги. Часто люди погибают не от выстрела, не от ножа не отзубов зверя, а от самого страха ("Человек и змея", "Страж мертвеца"). Иавтор издевается над попытками науки просветить, объяснить. Так от разрывасердца умер ученый-скептик, приняв пуговицы чучела за глаза змеи.. Храбрость Вире считает одной из самых редких и великих человеческихдобродетелей, любуется храбрецами. Любуется лейтенантом Брэйлом, который влюбом сражении не кланялся пулям, шел с высоко поднятой головой. Егохрабрость была явно безрассудна, г тем не менее прекрасна. Недаром и егосмерть изображена так необычно для Бирса,- смерть, окруженная почтительнымвосхищением и соратников и противников. Ничуть не похожая на обычную в егорассказах, отвратительную, уродливую смерть. И в этом рассказе конецпо-новому освещает начало,- лейтенант был храбр во имя любви, он все времякрасовался перед той, которая написала ему жестокие и несправедливые слова.А женщина эта, как обычно в книгах Бирса, была совершенно недостойна любвигероя ("Убит под Ресакой"). Бирс развивает жанр "страшного" рассказа. Этот жанр уже сталклассическим до Бирса, в творчестве Эдгара По. И, вслед за По, кошмарноепомещает в условия совершенно реальные. В рассказе "Глаза пантеры" страхи оправданы, нет никакой мистики,по-настоящему жаль и безумную девушку, и полюбившего ее храброго человека.Ее безумие мотивировано, насколько может быть мотивировано безумие.Человечны и горе, и боязнь сойти с ума. В одинокой, заброшенной хижине скоропостижно умирает любимая жена; ноэтого мало. Надо еще, чтобы ворвалась ночью пантера и загрызла неостывшийтруп ("Заколоченное окно"). Это обстоятельство, пожалуй, не усиливает страх,а, напротив, ослабляет его. Такие излишества встречаются нередко. Бесценный материал для исследования, изучения, изображения страхов далаБирсу война. Он сражался в армии северян, но по его рассказам этого не определишь,война у него, всякая война - кровавое, бессмысленное побоище. Такой взглядна войну тогда был гуманным. Это еще война не современная, во многом не оторвавшаяся от поединкадревних. К далеким временам восходит преклонение перед личным мужеством врассказе "Убит под Ресакой" или поведение генерала в рассказе "ПаркерАддерсон, философ". Война очень важна для Бирса не только потому, что это часть егобиографии, личный опыт, но и потому, что на войне обнажается сокровеннаясущность человека, обнажается то, что в мирное время могло лежать под спудомна дне души и остаться тайной для всех и для него самого. Барсу всегда хотелось заглянуть вглубь, исследовать человека вобстоятельствах особых, чрезвычайных, испытать на излом. Война предоставиланеисчислимое количество особых ситуаций - невероятных, необычайных, но темне менее реалистически лравдоподобных. Ситуаций, которые он сам наблюдал, вкоторых сам участвовал, о которых ему рассказывали очевидцы. В изображениивойны много беспощадной правды. Его война - не парадная, не приукрашенная,но романтизация войны у него еще сохраняется. Казалось бы, самоубийство в бою совершенно невероятно. А Бирсскрупулезным психологическим анализом мотивирует закономерность самоубийства("Один офицер, один солдат"). Храбрость, трусость, самоотверженаость, товарищество, ужас передсмертью, преодоление страха - особые и вместе с тем всеобщие темы -выступают в военных рассказах писателя. Сражающуюся армию Бирс ощущает как нечто целое, как живой организм. Исмотрит на военные действия снизу, преимущественно глазами рядового солдата.Гневно звучит обличение спесивого генерала ("Офицер из обидчивых"),- из-заего дурацкого приказа артиллерия вела огонь по своим. Глубинная связь военных тем с основными мотивами творчества Бирсаотчетливо видна в рассказе "Заполненный пробел". Герой рассказа существует вдалеком, давно ушедшем прошлом, он потерял память, ему кажется, что все ещепродолжается война. Он отбился от армии северян и, во что бы то ни стало,должен найти свой отряд. Он не верит врачу, случайно встретившемуся надороге, не верит свидетельствам своих глаз, которые видят морщины на руках.И, только взглянув на свое отражение в луже, на старого, седого человека, онна миг понимает, что в беспамятстве прожита целая долгая жизнь. Незадолго до отъезда в Мексику Вире посетил места боев, участникомкоторых он был много лет тому назад. Он не терял памяти, он был нормальнымчеловеком, но и он не мог вместить того, что было тогда, в свою теперешнююжизнь. В стихотворении Анны Ахматовой "Есть три эпохи у воспоминаний"говорится: И вот когда горчайшее приходит: Мы сознаем, что не могли б вместить То прошлое в границы нашей жизни. Так было у самого Бирса. Так стало - в драматическом сгущении - у герояего рассказа. Особая ситуация - места, знакомые с юности, места, особозапомнившиеся, потому что здесь произошли, вероятно, самые значительные,самые важные события,- эти места неожиданно ставят человека лицом к лицу сего прошлым. А прошлое - давным-давно поросшая мхом могила. Выдержать . этостолкновение невозможно. Мгновенная драматическая развязка в последнемабзаце завершает повествование, которое началось замедленно, эпическиплавно. Военные рассказы Бирса, при всех их противоречиях, вместе с романомКрейна "Алый знак доблести" - начало правдивого изображения войны влитературе США. * * * В американских книгах той поры добро и зло были строго разделены.Представления догматической религии с ее двумя полюсами: Бог-Сатана,господствовали и во взглядах на мораль, на общественное и личное поведениечеловека, на искусство. Существование в жизни и необходимость в литературе"положительных" и "отрицательных" героев в чистом виде не вызывали сомнений.За редкими исключениями, в американской литературе конца XIX начала XX века,
даже и в первых книгах критических реалистов, царил еще весьмаметафизический взгляд на человека. Хорошее и дурное в нем существовалистрого порознь, отделенные непроницаемыми перегородками. И в этом проявилсятот отроческий характер литературы, о котором постоянно говорит американскаякритика. Были, конечно, исключения - Мелвил, По, Джеймс,- но именно исключения.Среди них был и Вире. В отличие от господствовавших в литературепредставлений, он остро ощущал противоречия и вокруг себя, и в себе самом, На войне он видел убийства, горе, смерть. Ужас войны он пронес черезвсю жизнь. Война выступает в глубоком подтексте часто в тех горьких, мрачныхпроизведениях, которые по сюжету своему не имеют никакого отношения к войне. И вместе с тем годы войны так и остались самыми счастливыми годами,годами истинного братства, близости с людьми. Недаром до конца жизни егодрузьями оставались только ветераны войны. И дорога в искусство была усеяна добрыми намерениями, но прямолинейнойсвязи добра и таланта Бирс не видел. Его творчество пришлось на время краха идеалов, утраты веры. "Одно извеликих верований вселенной" - так определяет он безверие. В то самое времякогда Бирс работает над "Словарем Сатаны", Твен записывает в дневник:"Шестьдесят лет тому назад слова "оптимист" и "дурак" еще не былисинонимами". Здесь историческое объяснение афоризмов Бирса. "Словарь Сатаны" в наиболее ясной и общей форме воплощаетуниверсальность отрицания. Свергаются, сокрушаются все современные Бирсубоги, церковные и светские. Самоуверенность, американизм, оптимизм. "Словарь" построен остро полемически, это как бы серия ответов наобщераспространенные убеждения, утверждаемые везде, всеми,- кстати, и в техсамых журналах, в которых сотрудничал Бирс. - Упорный труд может привести каждого американца к славе и богатству, кмиллионам в банке и президентскому креслу. "Труд,- отвечает Бирс,- один из процессов, с помощью которых "А"добывает собственность для "Б". - Люби Америку, это благословенная страна, избранная страна господабога, свободная от всех пороков Старого Света. "Моя страна, права она или нет",- Бирс еще солдатом мог слышать этислова Карла Шурца, деятеля гражданской войны. "Патриотизм,- отвечает теперь Бирс,- легковоспламеняющийся мусор,готовый вспыхнуть от факела честолюбца, ищущего прославить свое имя. Взнаменитом словаре д-ра Джонсона патриотизм определяется как последнееприбежище негодяя. Со всем должным уважением к высокопросвещенному, ноуступающему нам лексикографу, мы берем на себя смелость назвать этоприбежище первым". "Бизнесмены - оплот нации",- на все лады кричали газеты, журналы,проповедники. "Уолл-стрит,- отвечает Бирс,- символ греховности в пример и назиданиелюбому дьяволу. Вера в то, что Уолл-стрит не что иное, как воровской притон,заменяет каждому неудачливому воришке упование на царство небесное". "Самые улыбчивые стороны жизни и есть самые американские",- говорилписатель Уильям Дин Гоуэллс. "Иностранный" (не американский) - порочный, нестерпимый, нечестивый",-издевался Бирс. Сама энергия афоризмов,- от этого внутреннего полемического запала. Вире издевается и над тем, что есть, и над всеми попытками изменений.Он видит прежде всего не различия между либералами и консерваторами той поры- не слишком, впрочем, существенные. Он видит то общее, что их объединяет,видит иллюзии разного рода, системы заблуждений. Вире обличает подряд богатство, шовинизм, веру в прогресс, в науку,претензии христианства на монополию. Он наблюдает за внешней политикой игорько формулирует: "Союз - в международных отношениях - соглашение двухворов, руки которых так глубоко завязли друг у друга в карманах, что они ужене могут грабить третьего порознь". Обличения Бирса относятся не только к политике. Не остается ничего - нив обществе, ни в мире личности. Само устройство планеты кажется писателю наредкость нелепым,- на две трети земля покрыта водой, а человек лишен жабр... "Святой - мертвый грешник в пересмотренном издании". Снова и сноваписатель настаивает: нет личностей, говорит о заменяемости, о том, чтовидимое не совпадает с сущностью. Конечно, Вире односторонен в своих афоризмах. Без односторонности нетни жанра, ни этого писателя. Геометрическая, линейная универсальность жанра,быть может, в наибольшей степени соответствует особенностям его дарования.Эти особенности и помогли ему запечатлеть существенное, не толькопреходящее, но свойственное иным временам. Подступом к диалектике добра и зла стал для Бирса цинизм. "СловарьСатаны" в первом издании (1906) назывался "Словарем циника". Причем цинизм Бирса был своеобразным развитием, следствием кетовойверы. "Он был вывернутым наизнанку идеалистом",- справедливо замечает егобиограф. В "Фантастических баснях" политическая жизнь современной писателюАмерики предстает как бесстыдное торжище, где все и вся продается ипокупается. Политика - грязная возня у кормушек. Политический деятель, будьто сенатор, конгрессмен, член верховного суда - вор, шантажист, негодяй.Здесь в сгущенном виде содержится своеобразное ядро творчества писателя. Басня "Фермер и его сыновья" - вариант распространенного в мировойлитературе сюжета. Умирающий отец обманывает нерадивых сыновей, утверждая,что в саду зарыт клад. Но вместе с тем говорит правду: тщательно перекопавсад в поисках мнимого сокровища, сыновья снимут большой урожай и получатнастоящее богатство. Но бирсовская концовка - горькая ирония: "И сыновьявыкопали все сорные травы, а заодно и виноградные лозы и за не" досугом дажезабыли похоронить старика отца". Ни проблеска надежды, всеподавляющее царство зла. Бирс был наделен трезвостью ума, стремлением сдирать оболочку,добираясь до сути, что отнюдь не способствовало его собственному счастью испокойствию. Он был сатириком, обличителем не только по мировоззрению, повзглядам на жизнь, но и по склонностям, по складу характера, что ипроявилось в самом типе дарования. Однако содрать с человека кожу - значит ли это всегда глубже проникнутьв его суть? Джек Лондон сказал однажды, что у него никогда не было отрочества. Какбы возмещая это, большая часть написанных им книг отроческая по своемухарактеру и обращенная к отрочеству. Амброз Бирс заметил, что никогда не был мальчишкой. Но писал он так,как будто и никто на свете не был мальчишкой. Будто доверчивого - особенносвойственного детям - отношения к жизни и не существует вовсе- В тех редкихслучаях, когда в его произведениях действуют дети,- это маленькие старички. На долю шестилетнего героя рассказа "Чикамога" выпадают невероятныебедствия,- он не просто случайно заблудился и ему пришлось переночевать влесу - что уже не мало для ребенка,- он еще встречает остатки разбитогонаголову отряда, и это не люди, а ползущие, страшные, окровавленныесущества. Он наконец находит свой дом - дом сгорел. Лежит труп женщины, "изрваной раны над виском вывалились мозги - пенистая, серая масса, покрытаягроздьями темно-красных пузырьков". Но и этого нагромождениянатуралистически описанных ужасов оказывается недостаточно, Ребенок еще ктому же глухонемой. Бирс принадлежал к числу людей, которые живут без иллюзий. А ведьиллюзии и вера - тоже необходимейшая часть опыта человечества. Без нихнельзя не только преобразовывать общество, без них нельзя ни сеять, нирожать, ни строить дом. Человеку свойственна вера в будущее - сознательнаяили бессознательная, без которой нет ни жизни, ни искусства. И потомупериоды безверия неизбежно сменяются периодами новой веры и, часто, новыхзаблуждений, новых иллюзий. Без веры в будущее нет и большого искусства. Вотсутствии веры сила и слабость, ограниченность писателя. Это остро ощущал исам Вире. Понимал, что его взгляд, во многом повернутый только на дурное,подлое, пошлое, сужает его возможности художника. "Я люблю встречи с йеху",-вызывающе замечает он в одном из писем, подчеркивая свое родство с великимсатириком Свифтом, который воплотил в страшных йеху свое представление овыродившемся человечестве. А на самом деле Бирс, как и Свифт содрогался отужаса при этих встречах. Судороги ужаса, отчаяния запечатлены и в самойформе его произведений, "Невозможно представить себе Шекспира или Гете, истекающих кровью ивопящих от творческих мук в тяжелых тисках обстоятельств. Великое мнепредставляется всегда с улыбкой, пусть горькой по временам, но всегда всознании недостижимого превосходства над ходульными, маленькими титанами,докучающими Олимпу своими бедствиями, хлопушечными катастрофами",-говорил онв одном из писем. Так он сам, между прочим, объяснил, почему не стал, не могстать великим сатириком. Сатана не перестает мечтать о потерянном рае. Циничная ухмылкаМефистофеля скрывает тоску по идеалам. * * * Исследователи современной американской новеллы Мэри и Уоллес Стегнерыпишут: "Если существует литературная форма, которая в наибольшей степенивыражает нас как народ, то это нервная, концентрированная, краткая,всепроникающая, законченная форма новеллы", Амброз Бирс принадлежит к числусоздателей этой формы. Лучшие его рассказы включаются во все американскиеантологии. Головокружительно неожиданные концы рассказов, казалось, несколькороднят новеллистику Бирса и новеллистику О'Генри. Но функция концовок у этихдвух писателей почти противоположна, У Генри в самых печальных, драматических ситуациях конец обычновыявляет случайность, незначительность, несущественность конфликта, сводяего к недоразумению. Конец смягчает, примиряет. У Бирса конец всегда усугубляет драматизм, исключает возможностьпримирения, доводит гротескное до наивысшего предела. Художники-современники смотрят на одно и то же, перед ними те жечеловеческие типы, те же обстоятельства. Но великое разнообразие искусства,само его существование обуславливается и тем особым видением, тем своиммагическим кристаллом, сквозь который проступает объективный мир. Был и уБирса свой магический кристалл, потому есть и его полоса спектра в большой,богатой, разнообразной литературе США.