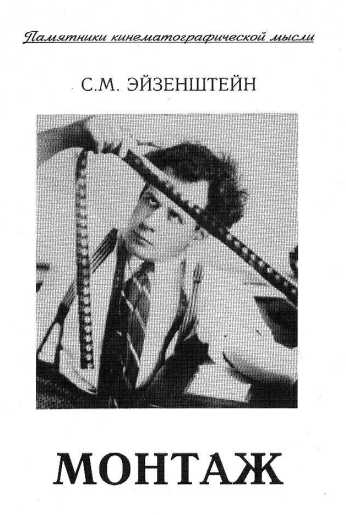 К 100-летию со дня рождения
К 100-летию со дня рождения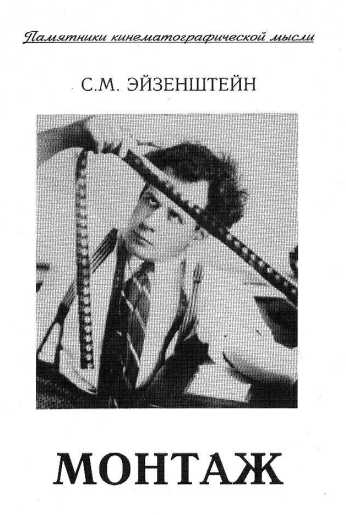 К 100-летию со дня рождения
К 100-летию со дня рождения
С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙН
МОНТАЖ
Москва, ВГИК 1998
СОДЕРЖАНИЕ
Р. Юренев. Эйзенштейн о монтаже
3С.М. Эйзенштейн на занятиях со студентами во ВГИКе.
©
Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, составление, оригинал-макет, 1998 г. © Р.Н. Юренев. Эйзенштейн о монтаже, 1998 г.Р. Юренев
В этой небольшой книжке собраны основные высказывания С.М.Эйзенштейна о монтаже. Она рассчитана на студентов режиссерского факультета ВГИК, но будет и полезна для киноведов, операторов, сценаристов.
Взгляды великого режиссера и теоретика развивались, обогащались, вели к пониманию монтажа не только как важнейшего специфического выразительного средства киноискусства, но и как комплекса композиционных принципов построения кинофильма, "строения вещей", образующих идейную систему, стилистику, авторскую индивидуальность кинорежиссера.
Как педагог Эйзенштейн отводил монтажу центральное место. В его программах обучения кинорежиссеров, начиная с "Гранита кинонауки" (1928), кончая "Программой преподавания теории и практики кинорежиссуры" (1936), несмотря на невиданный по масштабности объем материалов, включающих философские, драматургические, изобразительные, музыкальные, актерские и иные проблемы, монтаж, во всех его ипостасях, во всех тонкостях понимания этого термина, служит как бы стержнем, скрепляющим все сложное многообразие творческого процесса создания фильма.
Монтаж - это первое слово в первой теоретической статье, опубликованной Эйзенштейном. Правда, речь шла о монтаже аттракционов в спектакле. Однако молодой театральный режиссер, еще не вкусивший кинематографа, уже понимал, что "школой монтажера является кино".
Часть осознания истины, что монтаж является важнейшим специфическим выразительным средством киноискусства, принадлежит Л.Кулешову. Ричотто Канудо и Луи Деллюк, писавшие о кино до Кулешова, только лишь подходили к пониманию монтажа, рассуждая о движении, о ритме. Да
и практика киноискусства 1910-х годов - доР. Юренев
Гриффита - еще не давала материала для творческого осмысления строения фильма. Открытие Кулешова тем и замечательно, что он смотрел не назад, не на опыт русского дореволюционного кино, а вперед. В статьях 1917-1919 годов и в исследовании "Знамя кинематографии" (1920) Кулешов теоретически обосновал значение монтажа. Немного позднее, объединяя разрозненные хроникальные съемки фронтовых кинооператоров, пришел к пониманию роли и особенностей монтажа Дзига Вертов. В своих темпераментных манифестах 1922-1925 годов он декларирует агитационные возможности монтажных построений. Л.Кулешов, экспериментируя с кусками старой пленки, открывает эффект, состоящий в том, что монтажное сочетание кадров может придавать им различный смысл, изменять их содержание. А затем делает ошеломляющий вывод, что монтажом можно создавать на экране события и даже персонажей, не существующих в действительности ("эффект Кулешова").
Освоением безграничных, чудодейственных возможностей монтажа характерны все новаторские фильмы 20-х годов. Недаром историки кино называют этот период "монтажным". Опыт постановки четырех классических фильмов - "Стачки", "Броненосца "Потемкин", "Октября" и "Старого и нового" - позволил Эйзенштейну категорически и безапелляционно заявить: "Кинематограф - это прежде всего монтаж". К подобным же выводам приходили все авторы, писавшие о кино: В.Пудовкин, С.Васильев, С.Тимошенко, Б.Балаш и многие другие.
За последние десятилетия о монтаже лишь бегло пишут в общих теоретических книгах по эстетике киноискусства. Специальных исследований, кроме интересных, основанных на практике работ Л.Б.Фелонова, нет. Более того - в монографиях о творчестве кинорежиссеров, в рецензиях на фильмы даже слово "монтаж" употребляется крайне редко. И, что печальнее всего, в творческой практике большинства кинорежиссеров возможности монтажа почти не используются, за исключением Андрея Тарковского, Глеба Панфилова, Отара Иоселиани, Александра Медведки-на, Вадима Абдрашитова, Тенгиза Абуладзе, Эльдара Шенгелая, Никиты Михалкова и немногих других. Некоторые постановщики передоверяют склейку кадров монтажерам, а те, как правило, не посягают на творческие решения. Длина монтажных кусков определяется длиною реплик, игрой актеров, звучанием музыки, а зачастую и нетворческими соображениями, а о ритме, темпе, эффектах асинхронности, словом, о проблемах монтажной образности, забывают. Отсюда вялость, затянутость, аморфность большинства современных художественных и документальных фильмов. Особенно эти недостатки характерны для телевизионных фильмов, авторы которых, например, о ритме и темпе даже не помышляют. Богатейшая телевизионная техника, открывающая для монтажа новые заманчивые возможности, используется лишь в музыкальных ревю, эстрадных номе-
4
Эйзенштейн о монтаже
рах, рекламных клипах, причем на уровне технических средств, используется ограниченно, однобоко: многократные экспозиции, перевертывание и вытеснение кадров...
Мне могут возразить: со времен "монтажного" кино прошло много лет, экран обогатился словом, цветом, стереоскопией, электроникой; язык кино должен был измениться.
Но не обеднеть!
Об этом думал, заботился, волновался Эйзенштейн. Слово, специально написанную музыку, цвет, даже телевизионные возможности он рассматривал на заре их рождения, до накопления практического опыта. И новые средства никогда не противопоставлял старым, уже разработанным. Новое рассматривалось им как обогащение существующего. Монтаж как основное, важнейшее выразительное средство кино обнаруживал в его теории и практике все
новые возможности.В этой книге сделана попытка выделить из обширных работ и проследить развитие взглядов Эйзенштейна на монтаж. Причем и на монтаж звуковых и цветовых фильмов. Дерзания, открытия, обобщения великого мастера в области обертонного звукового ("вертикального") и цветового ("хронофонного") монтажа представляются мне не только современными, но во многом и злободневными, созвучными нашей сегодняшней борьбе против серости, стандартности фильмов, за идейное и художественное развитие киноискусства.
К началу звукового кино Эйзенштейн успел обобщить монтажный опыт немого периода, наметить основные стадии развития монтажного (композиционного) мышления и предсказать дальнейшее развитие этого мышления в связи с освоением звука
* . Здесь он ошибся в определении процесса усложнения монтажа в звуковом кино. Первые звуковые фильмы, как американские, так и советские, обнаружили тенденцию не к сложным обертонным и контрапунктическим построениям, а к упрощению монтажа, к примитивной синхронности, которую Эйзенштейн гневно называл "театральщиной", призывая бороться с ней и стремиться к звуко-зрительному синтезу. Он продолжил свои изыскания в новом аспекте, занявшись развитием рационального зерна, заключенного в интеллектуальной теории - внутренним монологом (статьи "Одолжайтесь!", 1932, "Родился Пантагрюэль", 1933, доклад на Всесоюзном творческом совещании 1935 года) и разработкой программы преподавания режиссуры. К проблемам монтажа он обратился в статье "Э! О чистоте киноязыка" 1934 года, явившейся своеобразным откликом на борьбу А.М.Горького за чис-________________
5
Р. Юреневтоту литературного языка. Забвение чистоты языка кинематографического Эйзенштейн усмотрел все в той же театральности многих наших звуковых фильмов, в пренебрежении монтажом. Задорно полемизируя с теми, кто внимание к монтажу считал формализмом, Эйзенштейн дает несколько ясных и простых оценок монтажа - "сильнейшее композиционное средство для воплощения сюжета", "синтаксис правильного построения каждого частного эпизода картины" - и рассматривает монтаж во взаимосвязи с композицией кадра и композицией фильма в целом. Глубокий анализ сцены яликов из "Броненосца "Потемкин" подтверждает эту взаимную обусловленность.
Вскоре Эйзенштейн начал писать обширное исследование о монтаже. Основой этого исследования стали лекции, прочитанные им во ВГИКе на третьем курсе режиссерского факультета в 1933-1934 учебном году и застенографированные с целью превращения их в учебник. Съемка "Александра Невского" (1937-1938) сначала прервала исследование о монтаже, а потом, дав Эйзенштейну достаточно практического опыта, повлекла его к другим работам - "Монтаж 1938", "Вертикальный монтаж", "О строении вещей". Поэтому труд "Монтаж" остался незаконченным. По-видимому, Эйзенштейн не собирался его завершать, потому что наиболее интересные страницы использовал в других работах ("Монтаж 1938", "Вертикальный монтаж", "Диккенс, Гриффит и мы"), а также в незаконченных исследованиях ("История крупного плана", "Неравнодушная природа"). Тем не менее его содержание чрезвычайно ценно и является этапом в развитии теоретических взглядов и творческого метода Эйзенштейна.
Животрепещущий интерес представляют размышления Эйзенштейна о монтаже в литературе, театре и изобразительных искусствах. Парадоксальность понимания Эйзенштейном монтажа как специфического средства киноискусства, присущего именно и только ему, и одновременно поиски "монтажа" в других искусствах объясняются тем, что монтаж Эйзенштейн понимал гораздо шире - как принцип композиции, как "строение вещей", как творческий процесс создания кинематографического образа. Сам он так объясняет этот парадокс: "Строго говоря, эта книга, конечно, не о монтаже. Книга эта в основном - в меру отпущенных автору сил и способностей - старается раскрыть то, как в частной области произведения -в его композиции и методах ее (разрядка моя - Р.Ю.) надлежит раскрывать единично-изобразительное одновременно с обобщенно-образным и как им обоим надлежит быть в неразрывном единстве и проникать друг в друга.
Книга показывает это на одном небольшом участке специальной проблемы кино, внутри того многообразия проблем, которые входят в создание кинофильма - на проблеме монтажа и неразрывно с ней связанной
6
Эйзенштейн о монтаже
проблеме кадра. Но так как с подобных позиций о монтаже вообще не писалось или писалось не с такой кропотливостью, то эта книга - уже совсем строго говоря - все-таки книга о монтаже".
На своих занятиях со студентами Эйзенштейн любил раскрывать принципы композиции путем "раскадровки" и монтажного анализа сложных произведений живописи, таких как "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, "Изгнание торгующих из храма" и "Буря над Толедо" Эль Греко, "Боярыня Морозова" и "Утро стрелецкой казни" Сурикова,
"Не ждали" и "Запорожцы" Репина, "Оборона Петрограда" Дейнеки и других. Разделяя картину на десятки "кадров" различной крупности и располагая эти "кадры" в определенном смысловом, драматургическом порядке, студенты как бы оживляли картины, превращали зафиксированный в статике момент действия в процесс, развивающийся во времени и пространстве. Эти занятия, развивая творческую фантазию будущих режиссеров, одновременно учили их скупости, сдержанности, экономии изобразительных решений, умению эксплуатировать каждый штрих, каждую деталь для выражения основной мысли. Лучшие из студенческих работ (В.Кадочникова, П.Павленко, К.Пипинашвили и других) Эйзенштейн обрабатывал сам, предупреждал, что хочет использовать их в своих теоретических работах. Частично он использовал их в "Неравнодушной природе" (главки об Эль Греко) и в "Монтаже".Особый интерес представляет сделанный им самим анализ композиции портрета М.П.Ермоловой кисти В.А.Серова. Он открыл, что необычайная мощь внутреннего подъема, вдохновенность образа великой русской актрисы достигнута... монтажным способом, т.е. объединением четырех различных ракурсов, точек зрения на фигуру Ермоловой, как бы разделяющих портрет на четыре кадра: общий план в рост, фигуру по колени, фигуру по пояс, крупный план головы, причем это деление подчеркнуто прямыми горизонтальными линиями рамы портрета, рамы зеркала, стыками между полом и стеной, стеной и потолком, а впечатление движения, жизни и монументальности достигается постепенным перемещением точки зрения от "сверху" к "в лоб"
, к "отчасти снизу", к "снизу", по мере укрупнения. Этот оригинальнейший анализ композиции портрета, содержащего одну лишь неподвижно стоящую фигуру, удивительно емок по содержанию. Он показывает значение композиции, ракурса, монтажных переходов как средств, могущих расшифровать сущность человеческого характера, идейное содержание человеческого образа. Не менее интересен "кинематографический" анализ композиции эстампа И.Добужинского "Октябрьская идиллия" и суриковского "Меньшикова в Березове".В текст "Монтажа" он вставляет небольшие, сделанные начерно тезисы исследования о монтаже в архитектуре. Отталкиваясь от известной метафоры Виктора Гюго, назвавшего Собор Парижской Богоматери
7
Р. Юреневекая, Вронский, другие зрители), сложные сочетания крупных статуарных планов зрителей с общими динамическими кадрами участников скачки, -все это увидено и разработано Эйзенштейном с поразительным чувством кинематографа и безукоризненной верностью замыслу Толстого.
Кинематографическое осмысление текстов Пушкина занимало Эйзенштейна особенно сильно, продолжительно и в различных опосредованиях. Были здесь и замыслы сценария о любви поэта к Карамзиной, были цветовые разработки сцен из "Бориса Годунова", был замысел теоретического исследования "Пушкин и кино". Ко второй половине 30-х годов относится несколько заметок, прямо или косвенно связанных с работой над "Монтажом". Некоторые из них остались в тексте исследования, другие приобрели форму отдельных этюдов, набросков, третьи были перенесены в другие труды.
В 1939 году Эйзенштейн написал небольшую статью "Пушкин и кино", которая должна была послужить предисловием к специальному исследованию. В ней он коснулся сложности взаимоотношений кино с другими искусствами, "предками не прямыми, а косвенными". Наиболее кинематографичным из литераторов он считал Пушкина. "Величие Пушкина. Не для кино. Но как кинематографично!".
Анализ боя с печенегами из "Руслана и Людмилы" начинает раздел "Монтажа", озаглавленный "Пушкин - монтажер". В нем много наблюдательности и остроумия. Есть и натяжки. Почему, например, первую строку отрывка "Сошлись - и заварился бой" он счел "типичным титром", а не типичным общим планом, с каких обычно начинаются батальные сцены в кино, в том числе и Ледовое побоище из "Александра Невского"? Подобных возражений можно сделать немало. Побывавшему на лекциях Эйзенштейна ясно, что эти возражения он блистательно и злоехидно разбил бы и опроверг. Но не в этом суть. Анализ композиции батального эпизода, распределения бьющихся по группам, монтажное столкновение этих групп и звукозрительные обертонные сочетания разработанны и неожиданно, и убедительно, зримо.
Еще убедительнее анализ Полтавского боя, разделенный на две части, причем вторая озаглавлена "Шары чугунные" и, возможно, предназначалась для отдельной публикации. Здесь, опираясь на четверостишие Пушкина, описывающее, как между сражающимися прыгают, разят, роют, шипят "шары чугунные", то есть пушечные ядра, Эйзенштейн развернул целую монтажную сюиту, полную бурного движения, драматизма, фантазии.
Когда же шары чугунные, "отыграв все пластические возможности", заканчивают шипением - раздается "звучный глас Петра", и начинается со звука - из шатра вслед за толпой любимцев, выходит Петр - высший, кульминационный момент сюиты. Снабженная рисунками и схемами эта
10
Эйзенштейн о монтаже сюита является шедевром монтажного мышления и должна изучаться как блестящий пример кинематографической режиссуры.
В заключительном разделе книги - "Монтаж тонфильма" - дается классификация видов монтажа "по линии семантического ряда" и "по линии кинетического ряда", перенесения с изменениями из "Программы преподавания теории и практики режиссуры" (1936).
Семантический ряд:
"а) монтаж, параллельный развивающемуся ходу событий (примитивно информационный монтаж);
б) монтаж, параллельный ходу нескольких действий ("параллельный" монтаж);
в) монтаж, параллельный ощущению и значению (образный монтаж);
г) монтаж, параллельный представлениям (монтаж, конструирующий понятие)..."
Кинетический ряд:
"а) метрический;
б) ритмический;
в) тональный (мелодический);
г) обертонный;
д) интеллектуальный, как новое качество по линии развития обертонного в сторону смысловых обертонов"
* .Эйзенштейн смело выстроил систему приемов монтажа - от наиболее простого, повествовательного к самым сложным, обусловленным тонкостями художественной формы и идейного содержания. Применение всех этих приемов Эйзенштейн считал возможным в рамках одного фильма, в зависимости от содержания сцен, от намерений режиссера.
Его мысль стремится, рвется вперед. Рамки и без того разбухшего исследования становятся тесны. Вставки, сноски, вкладки несут все новые и новые темы, объекты исследования. Все настойчивее привлекает его внимание синтез. Как бы задавая себе уроки на будущее, он конспективно набрасывает и подчеркивает, что проблема разрешения вопроса звукозрительного монтажа есть проблема цвета в кино. Потом решает пояснить этот парадокс и исписывает несколько страниц о соизмеримости звука и цвета (что позднее будет переработано для "Вертикального монтажа"). Мысль формулируется более четко: "Другими
словами - до конца решить проблему звукозрительной подлинной синхронности - а следовательно, и проблему монтажа тонфильма - способно только цветное кино".______________
11 Р. Юренев
И вдруг приписывает в скобках: "...(и стереоскопическое, как подтема внутри проблемы пластики будущего кино"). Он идет к осознанию киносинтеза.
Его мысли все чаще обращаются к синтезу, к удивительной и увлекательной тайне сочетания в едином и целостном произведении искусства различных средств, приемов, возможностей воздействия на человека.
Весной 1938 года он принимается за небольшого по объему работу "Монтаж 1938", в которой старается подытожить то важное, существенное, что откристаллизовалось в ходе многолетних размышлений . Статья появляется в журнале "Искусство кино" (1939, ?1), затем, не дожидаясь собственных книг, Эйзенштейн помещает ее в монографии Л.В.Кулешова "Основы кинорежиссуры" (1941).
Статья начинается изящной филиппикой против крайностей в понимании роли киномонтажа, когда он почитался сначала "всем", потом "ничем". Затем Эйзенштейн формулирует основную задачу монтажа -"...задачу, неотрывную от познавательной роли, которую ставит себе всякое произведение искусства, - задачу связно последовательного изложения темы, сюжета, действия, поступков, движения внутри киноэпизода и внутри кинодрамы в целом".
Так, закономерно следуя всем своим предыдущим писаниям о монтаже, Эйзенштейн возводит это понятие до построения, композиции, структуры кинопроизведения, обусловленной не только логической связью, но и связью чувственной, эмоциональной.
Установив это широкое понимание монтажа как организации структуры произведения, выходящее "далеко за пределы области склейки кусков пленки между собой", Эйзенштейн начинает с основных принципов сочетания (он не говорит "столкновения", предпочитая более спокойные термины "соединение", "сопоставление" кадров. Он отмечает открытие "леваков", имея в виду Кулешова и Вертова): "...два каких-либо куска, поставленные рядом, неминуемо соединяются в новое представление, возникающее из этого сопоставления как новое качество", и добавляет к этому свою старую формулу: "сопоставление двух монтажных кусков больше похоже не на сумму их, а на произведение", так как возникает качественно новое содержание. Это новое содержание, рожденное содержанием кадров и самим процессом их сопоставления, и привлекает внимание исследователя.
"Сопоставление... частных деталей в определенном строе монтажа вызывает к жизни, заставляет возникнуть в восприятии то общее, что породило каждое отдельное и связывает их между собою в целое, а именно тот обобщенный образ, в котором автор, а за ним и зритель переживает данную тему". Этот вывод особенно интересен тем, что творческий процесс создания произведения искусства рассматривается в единстве с
12 Эйзенштейн о монтаже
процессом восприятия этого произведения зрителем. Это единство создания и восприятия, единство художника и зрителя характерно для всей эстетики Эйзенштейна, начиная с "Монтажа аттракционов" и кончая полуироническими мечтами о стереоскопическом телевидении будущего. Анализируемая статья содержит несколько кратких и отчетливых формул этой эстетики: "Произведение искусства, понимаемое динамически, и есть процесс становления образов в чувствах и разуме зрителя". Желаемый образ, говорит Эйзенштейн, не дается, а возникает, рождается. Образ, задуманный автором, режиссером, актером, закрепленный ими в отдельные изобразительные элементы, вновь и окончательно становится в восприятии зрителя.
В "Монтаже 1938" Эйзенштейну удалось многое из того, что не удавалось в неоконченном "Монтаже" 1937 года. Здесь значительно лучше подобраны примеры. В предыдущей работе они загромождали изложение, отвлекали от основной мысли. Здесь они лапидарнее, целенаправленней. Великолепен анализ сцены из "Милого друга", где Жорж Дюруа ждет в карете свою возлюбленную, а множество городских часов с разных расстояний неумолимо отзванивают уходящее время. Оригинальные примеры из "Горе от ума", из стихов Маяковского и даже Бальмонта. Наконец, Эйзенштейн не пожалел заготовленных для "Пушкина-монтажера" анализов монтажных построений в "Полтаве". Прерванное в "Шарах чугунных" появление Петра, окруженного толпой любимцев, здесь дано с великолепной наглядностью, совсем как на экране.
Но главное достоинство статьи - даже не в качестве примеров, а в формулировании мысли, оправдывающей и широкое понимание Эйзенштейном монтажа, и его метод поисков монтажности в литературе и в других искусствах:
"Вывод тот, что нет противоречия между методом, которым пишет поэт, методом, которым действует воплощающий его актер внутри себя, методом, которым тот же актер свершает поступки внутри кадра, и тем методом, которым его действия, его поступки, как и действия его окружения и среды (и вообще весь материал кинокартины) сверкают, искрятся и переливаются в руках режиссера через средства монтажного изложения и построения фильма в целом. Ибо в равной
мере в основе всех их лежат те же живительные человеческие черты и предпосылки, которые присущи каждому человеку, равно как и каждому человеческому и жизненному искусству".Уходит 1938, наступает 1939 - год триумфа "Александра Невского". Страдания от незавершенности фильмов "Да здравствует Мексика!" и "Бежин луг" (что тормозило и теоретическую работу, так как практики создания звукозрительного синтеза не хватало) уходит в прошлое.
13 Р. Юренев
"Александр Невский" завершен и дает огромный материал для теоретических выводов.
Музыка Прокофьева сочетается со световой живописью Тиссэ, игрой Черкасова, Охлопкова, Абрикосова и других превосходных актеров. Все это "сверкает, искрится и переливается в руках режиссера через средства монтажного изложения..." Все это наводит на мысль о режиссерской партитуре, позволяющей дирижировать воздействиями на зрителя. Возникает новый термин.
В июле-августе 1940 года Эйзенштейн, работая запоем, создает большую статью "Вертикальный монтаж". Возвращается замысел большой книги о монтаже. "Монтаж" 1937 года - это первый, черновой набросок и источник материалов. "Монтаж 1938", переименованный в "Горизонтальный монтаж", послужит первой частью. За "Вертикальным" последует "Хромофонный монтаж", где цвет "до конца решит проблему звукозрительной подлинной синхронности".
"Вертикальный монтаж" появляется в девятом и двенадцатом номерах журнала "Искусство кино" 1940 года и в номере первом за 1941 год. По сравнению с четкой отработанностью и насыщенностью "Монтажа 1938" новая работа разочаровывает своей растянутостью, разбросанностью, перегруженностью примерами, цитатами, именами. Но мощное течение, развитие мысли о монтаже ощущается и в ней.
Эйзенштейн разъясняет термин "Вертикальный монтаж", проводя аналогии с многоголосьем оркестровой партитуры и находя "стыки по вертикали" в своих фильмах "Стачка" (гул стачечников под гармошку), "Старое и Новое" ("Крестный ход") и "Александр Невский " (нарастающий скок рыцарей). Он еще раз подчеркивает, что окончательную внутреннюю синхронность "куска" (эпизода, сцены) создает образ, смысл: "... эта формула о смысле куска объединяет и самую лапидарную сборку кусков - так называемую "тематическую подборку" по логике сюжета - и наивысшую форму, когда это соединение является способом раскрытия смысла, когда сквозь
объединения кусков действительно проступает образ темы, полный идейного содержания вещи".Сделав этот существенный вывод, Эйзенштейн надолго отвлекается от смыслового, идейного обоснования монтажа, нагромождая примеры соответствия изображения и звука. Примеры он умел выискивать самые неожиданные, ошеломляющие. Он вытащил из забвения немецкого философа конца XVIII века Эккартсгаузена, сконструировавшего музыкальную "машинку для зрения" и находившего для слов соответствия в музыке и цвете: "бесприютная сиротиночка - тоны флейты, заунывные - цвета оливковый, перемешанный с розовым и белым", и т.д. и т.п. Затем он цитирует Артюра Рембо: "А - черный; белый - Е; И - красный; У - зеленый; О - синий; тайну их скажу я в свой черед". И сталкивает его с другим француз
-14 Эйзенштейн о монтаже
ским поэтом - Рене Гилем, окрашивающим гласные совсем в другие цвета (А - вермильон, Е - от розового до золотого, И - лазурный, У - черный, О -красный). Затем перепроверяет их немецким романтиком А. В. Шлегелем (А - красный, И - небесно-голубой, У - ультрамариновый, О - пурпурный) и еще двумя романтиками - Максом Дейтчбейном и Лафкадило Херном...
Для меня остается загадкой, как это Эйзенштейн, с его всепобеждающей иронией, не усмехнулся над этой премудрой разноголосицей! Правда, в конце концов он приводит ироническое четверостишие Франсуа Коппе: "Тщетно весельчак Рембо в форме требует сонетной, чтобы буквы И, Е, О флаг составили трехцветный", но тут же с академической серьезностью заявляет, что в вопросе об "алфавите цветов" еще следует разобраться и, словно в омут, с головой уходит в исследование эмоционального содержания цвета на примере желтого.
Вторую часть "Вертикального монтажа" обычно называют "желтой рапсодией".
Вряд ли в эстетической литературе существует статья с большим количеством цитат и ссылок. И с большим разнообразием источников. И, я осмелюсь сказать это, с более скромным выводом, следующим из этого роскошества эрудиции: "Это значит, что не мы подчиняемся каким-то "имманентным законам" абсолютных "значений" и соотношений цветов и звуков и абсолютных соответствий между ними и определенными эмоциями, но это означает, что мы сами предписываем цветам и звукам служить тем назначениям и эмоциям, которым мы находим нужным".
Этому правилу - предписывать цвету и звуку необходимые для создания образа назначения и эмоции - Эйзенштейн следовал во всех своих практических и теоретических работах. С уверенностью можно сказать, что этому правилу следовало и подавляющее большинство художников, если не все. Так зачем же нужно было рыться
в стольких книгах? Может быть, он предвидел сегодняшний наш неинтерес к теории?Эйзенштейн любил все делать фундаментально. Он готовился встретить пришествие цвета в кино во всеоружии, так же, как встретил пришествие звука. Собранный им пестрый, оригинальный, малоизвестный материал показался ему столь забавным, что он удостоил его опубликования. Может быть - для того, чтобы потревожить умы, заставить кинематографистов пошевелить мозгами перед встречей с цветом?
Третью часть "Вертикального монтажа" Эйзенштейн начал с повторения основного вывода второй: наличие "абсолютных эквивалентов звука и цвета - если оно в природе существует - для произведения искусства никакой решающей роли не играет, хотя иногда и "вспомогательно" полезно.
Бросается в глаза, что решительная форма вывода здесь разбавлена оговоркой: "если оно в природе существует". Значит, Эйзенштейн верил в непознанные еще наукой соответствия звука и цвета, и искал их у всех
15 Р. Юренев
многочисленных авторов, начиная с Плутарха, кончая Кандинским? И, не найдя достаточно научных обосновании, успокоился на том, что для художественного творчества это значения не имеет?
"Решающую роль здесь играет образный строй произведения, который не столько пользует существующие или несуществующие взаимные соответствия, сколько сам образно устанавливает для данного произведения те соответствия, которые предписывают образному строю идея и тема данного произведения".
Вывод совершенно справедливый! Но, может быть, вскоре оптика и акустика в содружестве с орфоэпией откроют числовые соответствия между колебаниями, рождающими звуки и цвета? Тогда Эйзенштейн вновь окажется пророком, нащупывающим открытия будущего, как оказался им для семиотики и кибернетики?
Пока же возвратимся вместе с Эйзенштейном к вопросам монтажа. Великолепный в своей практической ясности и точности анализ полифонической структуры "Ледового побоища", снабженный рисунками, схемами, графиками, нотами, дополненный краткими анализами шестой строфы из "Домика в Коломне" и парадоксальными ссылками на содержание кантат Баха, сопутствует глубокому и простому практическому совету:
"нужно уметь ухватить движение данного куска музыки и нужно взять след этого движения, то есть линию или форму его, за основу той пластической композиции, которая должна соответствовать данной музыке". В зависимости от характера эпизода этот процесс может происходить в обратном порядке: композитор "ухватывает" монтажное и внутрикадровое движение и берет его за основу музыкального построения. Оба эти способа использованы Эйзенштейном в работе
с Прокофьевым. В статье "ПРКФВ" Эйзенштейн позднее описал, как Прокофьев ухватывал его монтажные фразы и как он, Эйзенштейн, в других случаях монтировал под уже написанную Прокофьевым музыку.Завершается "Вертикальный монтаж" ответом на вопрос, преследовавший Эйзенштейна на протяжение всего творческого пути: "Остается ответить лишь еще на один вопрос, который с неизбежностью ставится всяким слушателем или читателем, когда перед ним развертываешь картину закономерностей композиционных построений: "А вы заранее это знали? А вы заранее это имели в виду? А вы заранее все это так рассчитали?". И Эйзенштейн дает ясный, исчерпывающий ответ: "выстраиваешь мысль не умозаключениями, а выкладываешь кадрами и композиционными ходами"; "художник мыслит непосредственно игрой своих средств и материалов"; "когда действуешь - не объясняешься". Следовательно, его творческий процесс, как и у любого другого художника, носил эмоциональный, интуитивный, порой и подсознательный характер. Но он отметил значение и логического мышления
:16 Эйзенштейн о монтаже
"Конечно, и в этой "непосредственности" необходимые закономерности, обоснования и мотивировки такого именно, а не иного размышления проносятся в сознании (иногда даже срываются с губ), но сознание не задерживается на "досказывание этих мотивов, оно торопится к тому, чтобы завершить само построение".
Это очень важное замечание: мысль художника не задерживается на логических, научных обоснованиях своих решений, но эти обоснования должны быть, они служат как бы фундаментом эмоционального творческого акта. Интуиция является формой мышления и подготавливается, воспитывается мыслительными процессами. Это Эйзенштейн неоднократно мог проверить на своих учениках, которых до отказа насыщал логическими рассуждениями, научными анализами, формулами осмысленного опыта, чтобы потом требовать от них быстрых, мгновенных и уверенных творческих решений.
И вот именно для того, чтобы все художники, все его коллеги в новом, сложном, неразработанном еще искусстве кино могли достигать творческой свободы и дерзости, основанной на знаниях, на осмысленном опыте, Эйзенштейн и углубляется в научный анализ и обоснование творческих решений. "Работа же по расшифровке этих "обоснований" остается на долю удовольствия постанализов, которые осуществляются иногда через много лет спустя после "лихорадки" творческого "акта".
Обратите внимание: удовольствие постанализов! Да, он любил эти постанализы, любил находить логическое обоснование своих творческих решений, любил копаться в механике, в психологии, в закономерностях прошлого. Зачем? Для того, чтобы делиться всем осмысленным, открытым, выясненным с другими. Он и это сознавал. В автобиографических заметках незадолго до смерти он писал:
"Копаться. Копаться. Копаться.
Самому влезать, врываться и вкапываться в каждую щель проблемы, все глубже стараясь в нее вникнуть, все больше приблизиться к сердцевине.
Помощи ждать неоткуда.
Но найденное не таить: тащить на свет божий - в лекции, в печать, в статьи, в книги".
Эта страсть с годами росла. И чем меньше сил оставалось у больного, умирающего художника, тем упорнее "копался", тем настойчивее "обучал", тем безжалостнее тратил себя и всех, для народа, для искусства.
И эта страсть Эйзенштейна к теоретическому осмыслению своего творческого опыта - тоже поучительна для нас сегодня. Злободневна, если учесть поразительное равнодушие наших современных режиссеров к теории, к осмыслению своего опыта.
17 Р. Юренев
Для студентов ВГИК, да и для всех молодых людей, изучающих искусство и готовящихся к творческой деятельности, эта книжка даст немало мудрых практических советов и, главное, натолкнет их на осмысление творческого процесса, всегда кажущегося спонтанным, подчас даже непредсказуемым, подсознательным, но, на самом деле, основанного на воспринятом опыте произведений и мастеров "запавших в душу", оставивших запечатленный след в сознании. Возможно, что эта книжка подтолкнет студентов к более внимательному изучению работ Л.В. Кулешова, Д. Вертова, С. И. Юткевича, Л. Б. Фелонова, А. А. Тарковского, а также Рене Клера, Белы Балаша, а возможно, и
теоретиков, отрицавших или недооценивающих монтаж (3. Кракауэр, А. Базен.)Более дерзкие ожидания привели нас к мысли о том, что и действующие сейчас признанные мастера пересмотрят свое отношение к монтажу и обратят внимание на увлекательность и плодотворность "постанализов", то есть теоретического осмысления собственного творческого опыта.
Правда, о монтаже ныне действующим кинорежиссерам много нового пока не написать. Но творческий пример Эйзенштейна всегда был заразителен.
Может быть, будет, наконец, подхвачена и эта эстафета великого мастера?
18
К ПОСТАНОВКЕ "НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ" А.Н.ОСТРОВСКОГО В МОСКОВСКОМ ПРОЛЕТКУЛЬТЕ
I. ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПРОЛЕТКУЛЬТА
В двух словах. Театральная программа Пролеткульта не в "использовании ценностей прошлого" или "изобретении новых форм театра", а в упразднении самого института театра как такового с заменой его показательной станцией достижений в плане поднятия квалификации бытовой оборудованности масс. Организация мастерских и разработка научной системы для поднятия этой квалификации - прямая задача научного отдела Пролеткульта в области театра.
Остальное делаемое - под знаком "пока"; во удовлетворение привходящих, не основных задач Пролеткульта. Это "пока" - по двум линиям под общим знаком революционного содержания
1.1.
Изобразительно-повествовательный театр (статический, бытовой - правое крыло: "Зори Пролеткульта"2, "Лена"3 и ряд недоработанных постановок того же типа, линия бывш[его] Рабочего театра при ЦК Пролеткульта).2.
Aгum/aциoннo/-аттракционный (динамический и эксцентрический - левое крыло) - линия, принципиально выдвинутая для работы Передвижной труппы московского Пролеткульта мною совместно с Б. Арватовым4.В зачатке, но с достаточной определенностью путь этот намечался уже в "Мексиканце"
5 - постановке автора настоящей статьи совместно с В. С. Смышляевым6 (Первая студия МХТ). Затем полное принципиальное расхождение на следующей же совместной работе ("Над обрывом"7 В. Плетнева), приведшее к расколу и к дальнейшей сепаратной работе,19 С.М.Эйзенштейн
обозначившейся "Мудрецом"
8 и... "Укрощением строптивой", не говоря уже о "теории построения сценического зрелища" Смышляева, проглядевшего все ценное в достижениях "Мексиканца".Считаю это отступление необходимым, поскольку любая рецензия на "Мудреца", пытаясь установить общность с какими угодно постановками, абсолютно забывает упомянуть о "Мексиканце" (январь - март 1921 года), между тем как "Мудрец" и вся теория аттракциона являются дальнейшей разработкой и логическим развитием того, что было мною внесено в ту постановку.
3. "Мудрец", начатый в Перетру
9 (и завершенный по объединении обеих трупп), как первая работа в плане агата на основе нового метода построения спектакля.II. МОНТАЖ АТТРАКЦИОНОВ
Употребляется впервые. Нуждается в пояснении.
Основным материалом театра выдвигается зритель; оформление зритель в желаемой направленности (настроенности) - задача всякого утилитарного театра (агат, реклам, санпросвет и т. д.). Орудие обработки - все составные части театрального аппарата ("говорок" Остужева
10 не более цвета трико примадонны, удар в литавры столько же, сколько и монолог Ромео, сверчок на печи11 не менее залпа под местами для зрителей), во всей своей разнородности приведенные к одной единице - их наличие узаконивающей - к их аттракционности.Аттракцион (в разрезе театра) - всякий агрессивный момент театра, то есть всякий элемент его, подвергающий зрителя чувственному или психологическому воздействию, опытно выверенному и математически рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения воспринимающего, в свою очередь в совокупности единственно обусловливающие возможность восприятия идейной стороны демонстрируемого - конечного идеологического вывода. (Путь познавания - "через живую игру страстей" - специфический для театра.
)Чувственный и психологический, конечно, в том понимании непосредственной действительности, как ими орудует, напр[имер], театр Гиньоль
12: выкалывание глаз или отрезывание рук и ног на сцене, или соучастие действующего на сцене по телефону в кошмарном происшествии за десятки верст, или положение пьяного, чувствующего приближение гибели, и просьбы о защите которого принимаются за бред, а не в плане развертывания психологических проблем, где аттракционом является уже самая тема как таковая, существующая и действующая и вне данного20
Монтаж аттракционовдействия при условии достаточной злободневности. (Ошибка, в которую впадает большинство агиттеатров, довольствуясь аттракционностью только такого порядка в своих постановках.)
Аттракцион в формальном плане я устанавливаю как самостоятельный и первичный элемент конструкции спектакля - молекулярную (то есть составную) единицу действенности театра и театра вообще. В полной аналогии - "изобразительная заготовка" Гросса
13 или элементы фотоиллюстраций Родченко14."Составную" - поскольку трудно разграничить, где кончается пленительность благородства героя (момент психологический) и вступает момент его личного обаяния (то есть эротическое воздействие его); лирический эффект ряда сцен Чаплина неотделим от аттракционности специфической механики его движений; так же трудно разграничить, где религиозная патетика уступает место садическому удовлетворению в сценах мученичества мистериального театра, и т.д.
Аттракцион ничего общего с трюком не имеет. Трюк, а вернее, трик (пора этот слишком во зло употребляемый термин вернуть на должное место) - законченное достижение в плане определенного мастерства (по преимуществу акробатики), лишь один из видов аттракционов в соответствующей подаче (или по-цирковому - "продаже" его) в терминологическом значении является, поскольку обозначает абсолютное и в себе законченное, прямой противоположностью аттракциона, базируемого исключительно на относительном - на реакции зрителя.
Настоящий подход коренным образом меняет возможности в принципах конструкции "воздействующего построения" (спектакль в целом): вместо статического "отражения" данного, по теме потребного события и возможности его разрешения единственно через воздействия, логически с таким событием сопряженные, выдвигается новый прием - свободный монтаж произвольно выбранных, самостоятельных (также и вне данной композиции и сюжетной сценки действующих) воздействий (аттракционов), но с точной установкой на определенный конечный тематический эффект - монтаж аттракционов.
Путь, совершенно высвобождающий театр из-под гнета до сих пор решающей, неизбежной и единственно возможной "иллюзорной изобразительности" и "представляемости", через переход на монтаж "реальных деланностей", в то же время допуская вплетание в монтаж целых "изобразительных кусков
" и связно сюжетную интригу, но уже не как самодовлеющее и всеопределяющее, а как сознательно выбранный для данной целевой установки сильнодействующий аттракцион, поскольку не21 С.М.Эйзенштейн
раскрытие замысла драматурга , правильное истолкование автора , "верное отображение эпохи" и т.п., а только аттракционы и система их являются единственной основой действенности спектакля. Всяким набившим руку режиссером по чутью, интуитивно аттракцион так или иначе использовывался, но, конечно, не в плане монтажа или
конструкции, но в "гармонической композиции", во всяком случае (отсюда даже свой жаргон - "эффектный под занавес", "богатый выход", "хороший фортель" и т. п.), но существенно то, что делалось это лишь в рамках логического сюжетного правдоподобия (по пьесе "оправдано"), а главное, бессознательно и в преследовании совершенно иного (чего-либо из перечисленного "вначале"). Остается лишь в плане разработки системы построения спектакля перенести центр внимания на должное, рассматриваемое ранее как привходящее, уснащающее, а фактически являющееся основным проводником постановочных ненормальных намерений, и, не связывая себя логически бытовым и литературно-традиционным пиететом, установить данный подход как постановочный метод (работа с осени 1922 г [ода в] мастерских Пролеткульта).Школой монтажера является кино и главным образом мюзик-холл и цирк, так как, в сущности говоря, сделать хороший (с формальной точки зрения) спектакль - это построить крепкую мюзик-холльную - цирковую программу, исходя от положений взятой в основу пьесы.
Как пример - перечень части номеров эпилога "Мудреца"
1. Экспозитивный монолог героя.
(пояснение п[ункта] 1 - похищение дневника). 3. Музыкально-эксцентрическое антре: невеста и три отвергнутых жениха (по пьесе одно лицо) в роли шаферов; сцена грусти в виде куплета "Ваши пальцы пахнут ладаном" и "Пускай могила". (В замысле - ксилофон у невесты и игра на шести лентах бубенцов - пуговиц офицеров). 4, 5, 6. Три параллельных двухфразных клоунских антре (мотив платежа за организацию свадьбы). 7. Антре этуали (тетки) и трех офицеров (мотив задержки отвергнутых женихов), каламбурный, [с переходом] через упоминание лошади к номеру тройного вольтажа на неоседланной лошади (за невозможностью ввести ее в зал - традиционно - "лошадь втроем"). 8. Хоровые агиткуплеты: "У попа была собака"; под них "каучук" попа - в виде собаки (мотив начала венчания). 9. Разрыв действия (голос газетчика для ухода героя). 10. Явление злодея в маске, кусок комической кинофильмы (резюме пяти актов пьесы, в превращениях [Глумова] мотив опубликования дневника). 11. Продолжение действия (прерванного) в другой группировке (венчание одновременно с тремя отвергнутыми). 12. Антирелигиозные куплеты "Алла-верды" (каламбурный мотив - необходимость привлечения муллы ввиду большого количества женихов и при одной невесте), хор и новое,
22
Монтаж аттракционовтолько в этом номере занятое лицо - солист в костюме муллы. 13. Общий пляс. Игра с плакатом "религия - опиум для народа". 14. Фарсовая сцена:
укладывание в ящик жены и трех мужей, битье горшков об крышку. 15. Бытово-пародийное трио - свадебная: "а кто у нас молод". 16. Обрыв [действия], возвращение героя. 17. Полет героя на лонже под купол (мотив самоубийства от отчаяния). 18. Разрыв [действия] - возвращение злодея, приостановка самоубийства. 19. Бой на эспадронах (мотив вражды). 20. Агит-антре героя и злодея на тему НЭП. 21. Акт на наклонной проволоке: проход [злодея] с манежа на балкон над головами зрителей (мотив "отъезда в Россию"). 22. Клоунское пародирование [этого] номера героем и каскад с проволоки. 23. Съезд на зубах по той же проволоке с балкона рыжего. 24. Финальное антре двух рыжих с обливанием друг друга водой (традиционно), кончая объявлением "конец". 25. Залп под местами для зрителей как финальный аккорд.Связующие моменты номеров, если нет прямого перехода, используются как легативные
* элементы - трактуются различной установкой аппаратов, музыкальным перерывом, танцем, пантомимой, выходами у ковра и т. д.1923
Примечания
В РГАЛИ хранится автограф статьи (ф, 1923, on. 1, ед. хр. 900) с авторской датой 20 мая 1923 г. Статья опубликована в журнале "Леф", М., 1923, ? 3, стр. 70 - 75. Воспроизводится журнальный текст с уточнением по автографу.
Весной 1923 г. в Московском театре Пролеткульта был показан поставленный Эйзенштейном спектакль "На всякого мудреца довольно простоты". Спектакль этот нельзя считать постановкой пьесы А. Н. Островского, ибо от пьесы остались только название да внешняя сторона фабулы, взятая как повод для злободневной агитсатиры на политическую тему. Все это было воплощено эстрадно-мюзик-холльными и цирковыми средствами: от средств психологического театра режиссер отказался. Целью его было - создать сценическое зрелище нового типа. Какое именно - Эйзенштейн попытался объяснить в статье "Монтаж аттракционов".
Опубликованная в журнале "Леф", руководимом В. В. Маяковским, первая программная статья Эйзенштейна выразила стремление художника к активному идейному воздействию на общественную практику людей
_______________
23
С.М.Эйзенштейнценой разрушения любых традиционных форм искусства, стремление превратить театральные подмостки в трибуну массовой агитации. Эти настроения, замыслы Эйзенштейна были близки устремлениям многих представителей революционного "левого" искусства (см., например, слова Маяковского о том, что открытия "надо прикладывать... к жизни, к производству, к массовой работе" - Собр. соч. в 12 томах, т. 4, М., 1957, стр. 352).
Статья получила сенсационную известность и на протяжении десятилетий вызывала самые различные оценки: то ее считали едва ли не важнейшим манифестом новаторства, то объявляли порочной и формалистической. Сейчас читатель сможет подойти к "монтажу аттракционов" более спокойно и оценить его действительное значение. Бесспорно, что время опровергло провозглашенный в начале статьи лефовский лозунг "упразднения театра". Ошибочным оказался и отказ от театральных традиций, искусственная замена их мюзик-холльными и цирковыми приемами. Полную несостоятельность такой замены доказывал и спектакль "На всякого мудреца довольно простоты".
Но в статье "Монтаж аттракционов" было и живое, творческое начало.
Цель нового театрального зрелища, по мысли Эйзенштейна, в максимальном агитационном воздействии на зрителя. Сначала нужно точно рассчитать цель и смысл воздействия - а уже исходя из этого, решать, что показывать зрителю и какие выбирать средства, приводя их в определенную систему воздействий (именно в этом главный смысл термина "монтаж аттракционов
"). Таким образом, Эйзенштейн видит задачу искусства в активном отклике на реальную современную жизнь. Во имя этого арсенал режиссерских средств пересматривается заново. Поняв это, мы поймем статью "Монтаж аттракционов" как необходимый, неотъемлемый этап в творческом развитии Эйзенштейна. Важная особенность этой статьи - то, как на театральном материале в ней фактически намечаются контуры теории кинематографа. Яснее всего кинематографический смысл этого выступления Эйзенштейна выразился в отборе и применении термина "монтаж аттракционов". То, что здесь в общей форме уже намечен принцип идейно-смыслового монтажа, - совершенно очевидно. Остановимся на том, как понимает автор природу сценического "аттракциона". В качестве средств идейного воздействия в статье как бы уравнены "все составные части театрального аппарата". Бросается в глаза неестественное для театра уравнение актерских и неактерских средств.Но как раз в искусстве кино (и прежде всего в немом кинематографе), где по-новому в сравнении с театром воплощаются соотношения человека со средой, такое подчеркивание "неактерских" элементов образа становится естественным. Тем более это оправдано для теории и практики
24
Монтаж аттракционов20-х гг., когда кинематограф в борьбе утверждал свое право на самостоятельность в системе искусств.
Термин "аттракцион" в трактовке Эйзенштейна предполагает точно выверенное многостороннее воздействие на различные чувства зрителя, и в этом можно видеть некий отдаленный прообраз его теории "вертикального монтажа".
Эйзенштейн отказался впоследствии от спорных и ошибочных положений статьи и от самого термина "аттракцион". Но принципы монтажной композиции, первоначально связывавшиеся с этим термином, развивались им неизменно и последовательно. Мы ясно увидим это, сопоставив полемическую бутаду из "Монтажа аттракционов" ("говорок Остужева -не более цвета трико примадонны") - со словами из последней, недописанной статьи Эйзенштейна "Цветовое кино": "...выразительное целое кинопроизведение должно строиться не на взаимном ущемлении отдельных областей, "нейтрализации" их в угоду другим, но на разумном выявлении в нужный момент на первый план именно тех средств выражения, через которые в данное мгновение наиболее полно выражается этот элемент, который в данных условиях наиболее непосредственно ведет к наиболее полному раскрытию содержания, смысла, темы, идеи произведения".
Плодотворное "зерно" исканий Эйзенштейна, различимое уже в "Монтаже аттракционов", созрело и развилось в глубокую концепцию кинематографического образа, включившего в себя и те элементы, которые полемически отвергались Эйзенштейном на раннем этапе (например, многогранное раскрытие человеческого характера актерскими средствами).
1
...по двум линиям под общим знаком революционного содержания. - В журнале "Рабочий зритель" (1924, ? 6) театральный критик С. Левман писал: "Пролеткульт метнулся от одной крайности к другой, отказавшись от жанра переживаний, настроений и натурализма, он ударился в клоунаду, буффонаду, гротеск". Это положение Эйзенштейн раскрывает в своей статье.2
"Зори Пролеткульта" - спектакль театра Пролеткульта, в котором были инсценированы стихи пролетарских поэтов. Он появился как полемический ответ на постановку Мейерхольдом пьесы "Зори" Верхарна.3
"Лена" - пьеса В. Ф. Плетнева (1886-1942) о ленских событиях 1912 г., поставленная к открытию Московского театра Пролеткульта 11 октября 1921 г. Вместе с художником Никитиным Эйзенштейн был автором оформления этого спектакля.4
Арватов Борис Игнатьевич (1896-1940) - искусствовед, автор книги "Искусство и классы", изданной в 1923 г., и сборника "Искусство и про-25
С.М.Эйзенштейнизводство", изд. Московского Пролеткульта, 1926 г., участник группы "ЛЕФ".
5
"Мексиканец" - инсценировка рассказа Джека Лондона - первая постановка Эйзенштейна (совместно с В. С. Смышляевым) на сцене театра Пролеткульта в январе - марте 1921 г. Эйзенштейн являлся также автором декораций и костюмов.6
Смышляев Валентин Сергеевич (1891-1936) - актер и режиссер Первой студии МХАТ, ставший в 20-х гг. режиссером Первого рабочего театра Пролеткульта. Ему принадлежит книжка "Техника обработки сценического зрелища", изд. Всероссийского Пролеткульта, 1922.7
"Над обрывом" - пьеса В. Ф. Плетнева, поставленная в театре Пролеткульта в 1922 г.8
"Мудрец" - переделанная С. М. Третьяковым комедия А. Н. Островского "На всякого мудреца довольно простоты".9
Перетру - сокращенное название передвижной труппы Московского театра Пролеткульта.10
Остужев Александр Алексеевич (1874-1953) - народный артист СССР, исполнитель ряда ролей классического репертуара.11
Сверчок на печи - имеется в виду программный для Первой студии МХАТ спектакль "Сверчок на печи" Ч. Диккенса, поставленный в 1915 г.12
Театр Гиньоль, или Гран-Гиньоль - один из парижских бульварных театров, существующий со второй половины XIX в., создавший особый стиль "театра ужасов", приближающийся по типу воздействия на аудиторию к паноптикуму.13
Гросс Георг (1893-1959) - немецкий художник, особенно известный как график и карикатурист, в рисунках которого преобладают элементы острой социальной сатиры.14
Родченко Александр Михайлович (1891-1956) - советский художник-график, фотограф, автор декораций к ряду спектаклей Мейерхольда (в частности ко второй части "Клопа" Маяковского в театре Мейерхольда), один из создателей жанра фотомонтажа. Входил в группу "ЛЕФ".15
Эпилог "Мудреца" состоял из двадцати пяти "аттракционов", которые и перечисляет Эйзенштейн в своей статье. Ниже приводится примерная режиссерская схема этого эпилога.1)
На сцене (манеже) Глумов, который в ["экспозитивном"] монологе говорит о том, что у него похищен его дневник и что это угрожает ему разоблачением. Глумов решает срочно жениться на Машеньке, для чего вызывает на сцену "Манефу" (клоуна) и предлагает выступить в роли попа.26
Монтаж аттракционов2)
Свет гаснет, на экране - похищение дневника Глумова человеком в черной маске - Голутвиным. Пародия на американский детективный фильм.3)
Свет в зале. Появляется Машенька в костюме спортсмена-автомобилиста, в подвенечной фате, а вслед за ней три отвергнутых ею жениха - офицеры (в пьесе Островского - Курчаев), будущие шаферы на ее свадьбе с Глумовым. Разыгрывается сцена разлуки ("грусти"): Машенька поет "жестокий" романс "Пускай могила меня накажет", офицеры исполняют, пародируя Вертинского, "Ваши пальцы пахнут ладаном". (В первоначальном смысле Эйзенштейна - эта сцена намечалась как эксцентрический музыкальный номер (ксилофон), игра Машеньки на бубенцах, нашитых в виде пуговиц на мундирах офицеров.)4,5,6)
После ухода Машеньки и трех офицеров на сцене снова Глумов. К нему из зрительного зала выбегают один за другим Городулин, Жоффр, Мамилюков - три клоуна, каждый из которых исполняет свой цирковой номер (жонглирование шариками, акробатические прыжки и т. п.), и требуют за это плату. Глумов отказывает им и уходит. ("Двухфразное клоунское антре" - при каждом выходе - две фразы текста: реплики клоуна и Глумова.)7)
Появляются Мамаева, одетая с вызывающей роскошью ("этуаль"), с цирковым хлыстом в руках, и вслед за ней три офицера. Мамаева хочет расстроить свадьбу Глумова, утешает отвергнутых женихов и после их реплики о лошади ("ржет моя знакомая кобыла") щелкает хлыстом - и офицеры разбегаются по манежу. Двое изображают лошадь, третий -всадника.8)
На сцене - поп ("Манефа"), начинается "венчание". Все присутствующие на свадьбе поют: "У попа была собака". "Манефа" исполняет цирковой номер ("каучук"), изображая собаку.9)
В рупоре - крик газетчика. Глумов, бросив венчание, убегает, чтобы узнать, не появился ли его дневник в печати.10)
Появляется похититель дневника - человек в черной маске (Голутвин). Гаснет свет. На киноэкране - дневник Глумова; в фильме рассказывается об его поведении перед высокими покровителями и соответственно об его превращениях в различные условные образы (в осла перед Мамаевым, в танкиста перед Жоффром и т. п.).11)
Венчание возобновляется. Место сбежавшего Глумова занимают отвергнутые женихи - три офицера ("Курчаев").12)
Ввиду того что Машенька венчается сразу с тремя женихами, четыре униформиста выносят на доске из зрительного зала муллу, который продолжает начатое венчание, исполняя пародийные куплеты на злободневные темы - "Алла верды".27
С.М.Эйзенштейн13)
Закончив свои куплеты, мулла танцует лезгинку, в которой принимают участие все. Мулла поднимает доску, на которой он сидел, на обороте надпись: "Религия - опиум для народа". Мулла уходит, держа эту доску в руках.14
) Машеньку и трех женихов укладывают в ящики (откуда они незаметно для зрителей исчезают). Участники свадебной церемонии бьют глиняные горшки об ящик, пародируя старинный свадебный обряд "при укладывании молодых".15)
Три участника свадебной церемонии (Мамилюков, Мамаев, Городулин) исполняют свадебную песню: "А кто у нас молод, а кто не женат".16)
Свадебную песню прерывает вбегающий Глумов с газетой в руках: "Ура! В газете ничего нет!" Все высмеивают его и оставляют одного.17)
После обнародования дневника и неудачи со свадьбой Глумов в отчаянии. Он решает покончить жизнь самоубийством, требует от униформиста "веревочку". С потолка ему спускают лонжу. Он прикрепляет к спине "ангельские крылья", и его с зажженной свечой в руках начинают поднимать к потолку. Хор поет "По небу полуночи ангел летел" на мотив "Сердце красавицы". Эта сцена пародирует "вознесение на небо".18)
На сцене появляется Голутвин ("злодей"). Глумов, увидев своего врага, начинает осыпать его ругательствами, спускается на сцену и бросается на "злодея".19)
Глумов и Голутвин бьются на эспадронах. Побеждает Глумов. Голутвин падает, и Глумов срывает с брюк Голутвина большую наклейку, под ней слово "нэп".20)
Голутвин исполняет куплеты о нэпе. Глумов ему подпевает. Оба танцуют. Голутвин приглашает Глумова "идти к нему в подручные", ехать в Россию.21)
Голутвин, балансируя зонтиком, проходит по наклонной проволоке над головами зрителей на балкон - "уезжает в Россию".22)
Глумов решается последовать его примеру, взбирается на проволоку, но срывается (цирковой "каскад") и со словами: "Ох скользко, скользко, я лучше переулочками" следует за Голутвиным "в Россию", по менее опасному пути, через зрительный зал.23)
На сцену выходит "рыжий" (клоун), который плачет, приговаривая: "Уехали, а человека-то забыли". С балкона по проволоке, на зубах спускается другой клоун.24,25)
Между двумя "рыжими" возникает перебранка; один обливает другого водой, тот от неожиданности падает. Один из них объявляет:"конец" и раскланивается с публикой. В этот момент под сидениями в зрительном зале происходит пиротехнический взрыв.
28
Чудно и неожиданно писать брошюру о том, чего фактически нет. Нет же, например, кино без кинематографии. Между тем автору настоящей книги удалось написать книгу про кино страны, не имеющей кинематографии,
о кино страны, имеющей в своей культуре бесконечное множество кинематографических черт, но разбросанных повсюду, за исключением
только... кино.
Кинематографическим чертам японской культуры, лежащим вне японского кино, и посвящена эта статья, лежащая так же вне книги, как эти черты вне японского кино.
*
* *Кино - это: столько-то фирм, такие-то оборотные капиталы, такие-то "звезды", такие-то драмы.
Кинематография - это прежде всего монтаж.
Японское кино хорошо обставлено фирмами, актерами, сюжетами.
И японское кино совершенно не знает монтажа.
Между тем принцип монтажа можно было бы считать стихией японской изобразительной культуры.
Письменность, ибо письменность в первую очередь изобразительна.
Иероглиф.
Натуралистическое изображение предмета в искусных руках Цанки за 2650 лет до нашей эры слегка схематизируется и с 539-ю собратьями образует первый "контингент" иероглифики.
Выцарапанный шилом на бамбуковой пластинке портрет предмета во всем еще похож на оригинал.
Но вот в конце III века изобретается кисть,
в I веке после этого "радостного события" (н. э.) - бумага, наконец, в 220 году - тушь.
Полный переворот. Революция в начертаниях. И, претерпев на протяжении истории до четырнадцати различных манер письма, иероглиф застывает в своем современном начертании.
29
С.М.Эйзенштейн
Орудия производства (кисть и тушь) определяют форму.
Четырнадцать реформ сделали свое.
В итоге: в пламенно развивающемся иероглифе "ма" (лошадь) уже немыслимо распознать облик трогательно осевшей на задние ноги лошадки письменного стиля Цзан Се, лошадки, так хорошо знакомой по древнекитайской скульптуре (рис. 1).
Но бог с ней, с лошадкой, как и с 607-ю остальными знаками "сянь-хинь" - первой изобразительной категорией иероглифов.
Самый интерес начинается со второй категории иероглифов - "хой-и", то есть "совокупной".
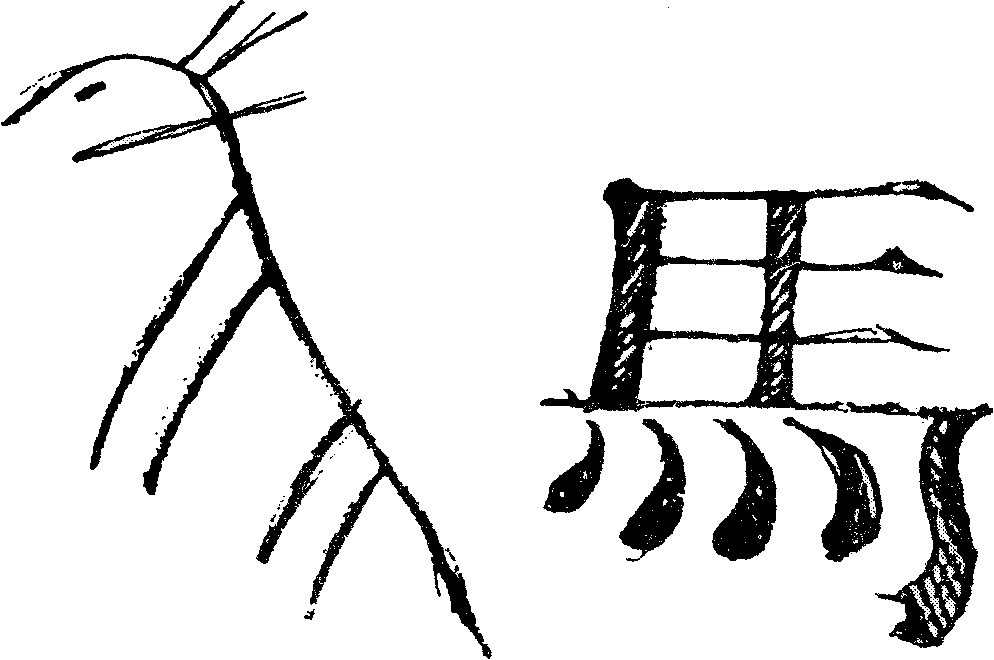
Рис. 1
Дело в том, что совокупность... скажем лучше, сочетание двух иероглифов простейшего ряда рассматривается не как сумма их, а как произведение, то есть как величина другого измерения, другой степени; если каждый в отдельности соответствует предмету, факту, то сопоставление их оказывается соответствующим понятию. Сочетанием двух "изобразимых" достигается начертание графически неизобразимого.
Например: изображение воды и глаза означает - "плакать",
изображение уха около рисунка дверей - "слушать",
собака и рот - "лаять",
рот и дитя - "кричать",
рот и птица - "петь",
нож и сердце - "печаль" и т. д.
Да ведь это же - монтаж!!
30
За кадромДа. Точно то, что мы делаем в кино, сопоставляя по возможности однозначные, нейтральные в смысловом отношении, изобразительные кадрики в осмысленные контексты и ряды.
Неизбежный способ и прием в любом кинематографическом изложении. И в конденсированном и очищенном виде - отправная точка для "интеллектуального кино", кино, ищущего наибольшей лаконики зрительного изложения отвлеченных понятий.
Пионером на этих путях приветствуем метод покойного (давно покойного) Цзан Се.
* * *
Раз уж о лаконике. Лаконика дает нам переход к другому. Япония обладает самым лаконичным видом поэзии: "хай-кай" (возникшее в начале XII века) и "танка"
1.Они - почти перенесенная в фразеологию иероглифика. И даже половина их достоинства расценивается каллиграфичностью их начертания. Метод же их решения вполне аналогичен.
Этот метод, который в иероглифике является средством лаконического запечатлевания отвлеченного понятия, перенесенный в словесное изложение, родит такую же лаконику заостренной образности.
Метод, свернутый в суровое сочетание знаков, высекает в их столкновении сухую определенность понятия.
Тот же метод, развернутый в богатство уже словесных сочетаний, разворачивается в пышность образного эффекта.
Формула - понятие, упышняясь, разворачиваясь на материале, превращается в образ - форму.
Совершенно так же, как примитивная форма мышления - образное мышление, сворачиваясь с определенной стадии, переходит в мышление понятиями.
Но переходим к примерам:
"Хай - к а й " - это насыщенное импрессионистическое кроки:
"В печи две блестящие точки: кошка сидит". (Ге-Дай).
Или "Старинный монастырь. Холодная луна. Волк лает." (Хикко).
Или: "В поле тихо. Бабочка летает. Бабочка уснула" (Го-Син).
"Танка" несколько длиннее (на две строчки):
Тихо идущий
Горный фазан; хвост его
Тянется сзади.
Ах, ночь бесконечную
31
Один проведу ля я.
(Хитомаро. Перевод О. Плетнера)
По нашему - это монтажные фразы, монтажные листы.
Простое сопоставление двух-трех деталей материального ряда дает совершенно законченное представление другого порядка - психологического.
И если здесь расплываются остро отточенные края интеллектуальной формулировки понятия сопоставления иероглифов, то оно несоизмеримо расцветет в своей эмоциональности.
Японское письмо - не знаешь,
то ли оно буквенное начертание, то ли оно самостоятельное произведение графики...
Рожденный на двуедином скрещении изобразительного по приему и обозначительного по назначению, метод иероглифа продолжил свою традицию не только в литературу, как мы указали, и в "танке" (не исторически последовательно, а принципиально-последовательно для создавших этот метод мозгов).
Абсолютно тот же метод работает и в наиболее совершенных образцах японского изобразительного искусства.
Сяраку2. Он автор лучших эстампов XVIII в[ека], особенно бессмертной галереи актерских портретов. Японский Домье. Тот Домье, которого Бальзак - сам Бонапарт литературы - в свою очередь называл "Микеланджело карикатуры".
И при всем этом Сяраку у нас почти не знают.
Характерные признаки его произведений отмечает Юлиус Курт3. Излагая вопрос влияния скульптуры на Сяраку, он проводит параллель между портретом актера Накаяма Томисабуро4 и древней маской полурелигиозного театра Но5 - маской Розо (старого бонзы, рис. 2):
"...то же выражение в маске, тоже созданной во дни Сяраку, как и в портрете Томисабуро. Членение лица и распределение масс очень схожи между собой, хотя маска изображает старца, а гравюра - молодую женщину (Томисабуро в роли женщины). Бросающееся в глаза сходство, а между тем между обоими нет ничего общего. Но как раз здесь мы обнаруживаем характернейшую для Сяраку черту: в то время как маска высечена из дерева в почти правильных анатомических пропорциях, - пропорции в лице на эстампе - просто невозможны. Расстояние между глазами столь огромно, что похоже на издевательство над всяким здравым смыслом. Нос, по сравнению с глазами по крайней мере, вдвое длиннее, чем это может себе позволить нормальный нос, подбородок по отношению ко рту вообще вне всяких пропорций; брови, рот, вообще каждая деталь по
32
отношению к другим совершенно немыслима. То же мы можем проследить на лицах всех крупных голов Сяраку. Совершенно исключена возможность, чтобы великий мастер не знал ошибочности соотношения их размеров. Он совершенно сознательно отказался от естественности, и в то время как. каждая отдельно взятая деталь построена на принципах концентрированнейшего натурализма, общее композиционное их сопоставление подчинено только чисто смысловому заданию. Он брал за норму пропорций квинтэссенцию психологической выразительности..." (Юлиус Курт, Сяраку, стр. 79, 80,
81, Munchen). .

Рис. 2
Не то же ли это, что делает иероглиф, сопоставляя самостоятельный "рот" и безотносительного "ребенка" для смыслового выражения "крика"?
И не то же ли мы делаем во времени, как он в единовремени, вызывая чудовищную диспропорцию частей нормально протекающего события, когда мы его внезапно членим на "крупно схватывающие руки", "средние планы борьбы" и "совсем крупные вытаращенные глаза", делая монтажную разбивку события на планы?! Глаз вдвое больше человека в полный рост?! И из сопоставления этих чудовищных несуразностей мы снова собираем воедино разложенное событие, но в нашем аспекте; в нашей установке по отношению к явлению.
33
*
* *Диспропорциональное изображение явления органически изначала свойственно нам. А. С. Лурья показывал мне детский рисунок на тему "топить печку".
Все изображено в сносных взаимоотношениях и с большой добросовестностью. Дрова. Печка. Труба. Но посреди площади комнаты громадный испещренный зигзагами прямоугольник. Что это? Оказывается -"спички". Учитывая осевое значение для изображаемого процесса именно спичек, ребенок по заслугам отводит им и масштаб.
Представление предмета в действительно (безотносительно) ему свойственных пропорциях есть, конечно, лишь дань ортодоксальной формальной логике,
подчиненности нерушимому порядку вещей.
И в живопись и скульптуру периодически оно и неизменно возвращается в периоды установления абсолютизма,
сменяя экспрессивность архаической диспропорции в регулярную "табель о рангах" казенно устанавливаемой гармонии. Позитивистский реализм отнюдь не правильная форма перцепции
6. Просто - функция определенной формы социального уклада,после государственного единовластия насаждающего государственное единомыслие.
Идеологическое униформирование, вырастающее образно в шеренгах униформ гвардейских лейб-полков...
*
* *Итак, мы видели, как принцип иероглифа - "обозначение через изображение" - разошелся надвое.
По линии своего назначения (принцип "обозначение") в принципы создания литературной образности.
По линии приемов осуществления этого назначения (принцип "изображение") в изумительные приемы выразительности Сяраку.
И как о двух расходящихся крылах гиперболы принято говорить, что они встречаются в бесконечности (хотя никто и не бывал в местах столь отдаленных!), так и принцип иероглифики, бесконечно разойдясь надвое (согласно функциональности признаков), внезапно опять из двойственной разобщенности вновь соединяется уже в четвертой сфере - в театре.
Отчужденные столь надолго, они одно время - колыбельное время драмы - присутствуют параллельно любопытным дуализмом.
34
За кадромОбозначение сюжета - представление сюжета - делает немая марионетка на сцене, так называемая дзёрури.
Вместе со специфической манерой двигаться эта архаика переходит и в раннее Кабуки
7. Сохраняется, как частичный прием, и посейчас в классическом репертуаре.Ну и пусть его. Не в этом соль.
Но в самую технику иероглифический (монтажный) метод игры вклинился любопытнейшими приемами.
Но прежде чем перейти к ним, раз мы уже заговорили об изобразительной стороне, остановимся на полустанке вопроса о кадре, чтобы зараз с этим вопросом и покончить.
Кадр.
Маленький прямоугольник с как-то в нем организованным кусочком события.
Приклеиваясь друг к другу, кадры образуют монтаж. (Конечно, когда это в соответствующем ритме!)
Так примерно учит старая кинематографическая школа.
Так по винтику, По кирпичику...
Кулешов
9, например, прямо так кирпичом и пишет:"...Если имеется мысль-фраза, частица сюжета, звено всей драматургической цепи, то эта мысль выражается, выкладывается кадрами - знаками, как кирпичами..." (Л. Кулешов. "Искусство кино". Изд. Теакинопечать, стр. 100.)
Так по винтику, По кирпичику...
- как говорили.
Кадр - элемент монтажа.
Монтаж - сборка элементов.
Вреднейший способ анализа,
где осмысление какого-либо процесса целиком (связь кадр - монтаж) делается только через внешние признаки его протекания (кусок клеится к куску).
Так можно, например, дойти до пресловутого объяснения, что трамваи существуют для того, чтобы их клали поперек улицы. Вполне логичный вывод, если ограничиваться на тех функциях, которые они исполняли, например, в февральские дни семнадцатого года. Но МКХ
10 глядит иначе.35
Худшее же в этом деле то, что подобный подход ложится действительно неперелазным трамваем поперек возможностей формального развития.
Подобный подход обрекает не на диалектический рост, а лишь на эволюционное "совершенствование", поскольку нет вгрызания в диалектическую сущность явления.
В конце концов подобное эволюционирование приводит или через рафинированность к декадансу, или, наоборот, к простому захирению от застоя кровей. Как ни странно, обоим случаям одновременно мелодичный свидетель - "Веселая канарейка"
11.*
* *Кадр вовсе не элемент монтажа.
Кадр - ячейка монтажа. По ту сторону диалектического скачка в едином ряде кадр - монтаж.
Чем же характеризуется монтаж, а следственно, и его эмбрион -кадр?
Столкновением. Конфликтом двух рядом стоящих кусков. Конфликтом. Столкновением.
Передо мной лежит мятый пожелтевший листок бумаги.
На нем таинственная запись:
"Сцепление - П" и "Столкновение - Э".
Это вещественный след горячей схватки на тему о монтаже между Э - мною и П - Пудовкиным
12. (С полгода назад.)Такой уж заведен порядок. С регулярными промежутками времени он заходит ко мне поздно вечером, и мы при закрытых дверях ругаемся на принципиальные темы.
Так и тут. Выходец кулешовской школы, он рьяно отстаивал понимание монтажа как сцепления кусков. В цепь. "Кирпичики".
Кирпичики, рядами излагающие мысль.
Я ему противопоставил свою точку зрения монтажа как столкновения. Точка, где от столкновения двух данностей возникает мысль.
Сцепление же лишь возможный - частный случай в моем толковании.
Помните, какое бесконечное количество комбинаций знает физика в вопросе удара (столкновения) шаров.
В зависимости от того, упругие они, неупругие или смешанные.
Среди этих комбинаций есть и такая, когда столкновение деградирует до равномерного движения обоих в одном направлении.
Это соответствовало бы точке зрения Пудовкина.
36
За кадромНедавно я беседовал с ним снова. Сейчас он стоит на моей тогдашней точке зрения.
Правда, за это время он имел случай ознакомиться с комплектом моих лекций, читанных за это время в ГТК...
13Итак, монтаж - это конфликт.
Как основа всякого искусства всегда конфликт. (Своеобразное "образное" претворение диалектики).
Кадр же является ячейкой монтажа.
И, следственно, рассматривать его надлежит тоже с точки зрения конфликта.
Внутрикадровый конфликт - потенциальный монтаж, в нарастании интенсивности разламывающий свою четырехугольную клетку и выбрасывающий свой конфликт в монтажные толчки между монтажными кусками; как зигзаг мимики, теми же изломами выплескивается в зигзаг пространственной мизансцены, как лозунг: "Тщетны россам все препоны", разражается многотомными перипетиями романа "Война и мир".
Если уж с чем-нибудь сравнивать монтаж, то фалангу монтажных кусков - "кадров" - следовало бы сравнить с серией взрывов двигателя внутреннего сгорания, перемножающихся в монтажную динамику "толчками" мчащегося автомобиля или трактора.
Внутрикадровый конфликт. Он может быть весьма разнообразен: он может быть даже... сюжетен. Тогда это "Золотая серия". Кусок на 120 метров. И ни разбору, ни вопросам киноформы не подлежит.
Но "кинематографичны":
конфликт графических направлений (линий),
конфликт планов (между собой),
конфликт объемов,
конфликт масс (объемов, наполненных разной световой интенсивностью),
конфликт пространств и т. д.
Конфликты, ждущие лишь одного толчка интенсификации, чтобы разлететься в пары кусков антагонистов. Крупного и мелкого плана. Графически разнонаправленных кусков. Кусков, решенных объемно, с кусками, решенными плоско. Кусков темных и светлых... И т. д.
Наконец, имеются и такие конфликтные неожиданности, как:
конфликт предмета и его пространственности и конфликт события и его временности.
Как ни странно это звучит - это давно знакомые нам вещи.
37
С.М.ЭйзенштейнПервое - оптическое искажение объективом, второе - мультипликации, или zeitlupe
* .Сведение всех данных кинематографа к единой формуле конфликта и кинематографических признаков в диалектический ряд по одному признаку - не пустая риторическая забава.
Мы сейчас ищем единую систему приемов кинематографической выразительности по всем его элементам.
Приведение их [к] ряду общих признаков решит задачу в целом.
Опыт по отдельным элементам кино совершенно несоизмерим.
Если мы знаем очень много о монтаже, то по теории кадра мы барахтаемся между Третьяковкой, Щукинским музеем
14 и набившими оскомину геометризациями.Рассмотрение же кадра как частного молекулярного случая монтажа - расшибание дуализма "кадр - монтаж", дает возможность непосредственного приложения монтажного опыта к вопросу теории кадра.
То же по вопросу теории освещения. Ощущение его как столкновения тока света с преградой, подобно струе из брандспойта, ударяющейся по предмету, или ветру, сталкивающемуся с фигурой, должно дать совершенно по-иному осмысливаемое пользование им, нежели игра "дымками" и "пятнами".
Пока одним таким знаменателем является принцип конфликта: принцип оптического контрапункта.
*
* *Сейчас же не забыть, что ведь нам предстоит решить и не такой еще контрапункт, а именно конфликт акустики и оптики в звучащем кино.
Пока же вернемся к одному из любопытнейших оптических:
к конфликту между рамкой кадра и предметом.
Точка съемки как материализация конфликта между организующей логикой режиссера и инертной логикой явления в столкновении, дающего диалектику киноракурса.
В этом пункте мы пока что импрессионистичны и беспринципны до тошноты.
А между тем резкая принципиальность имеется и в этой технике.
Сухой четырехугольник, всекающийся в случайность природной раскинутости...
____________
* "Лупа времени" (нем.) - метод
ускоренной съемки.
38 За кадром
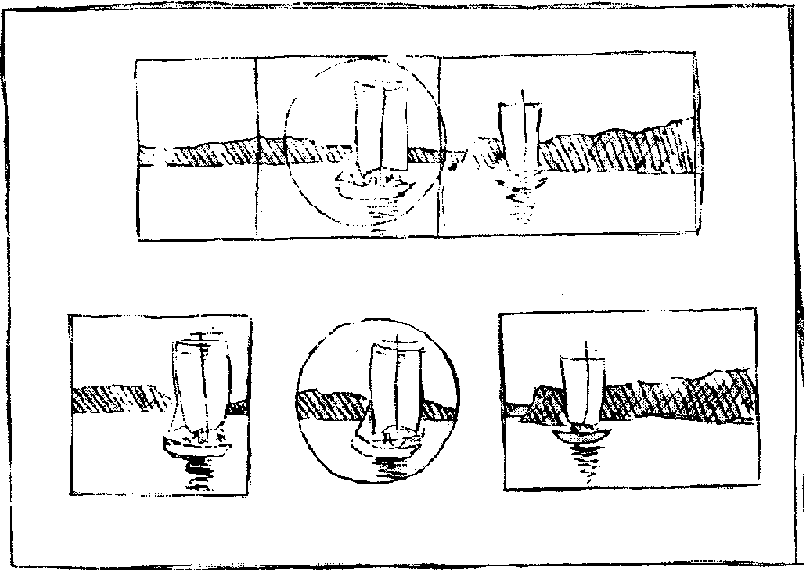
Рис. 3
И мы снова в Японии!
15Ибо так кинематографичен один из методов обучения рисованию в японской школе.
Наш метод обучения рисованию:
берется обыкновенный лист русской бумаги о четырех углах. И втискивается в него в большинстве случаев даже без учета краев (края салятся от долгого корпения!) скучная кариатида, тщеславная коринфская капитель или гипсовый Данте (не фокусник, а тот - Алигиери, комедийный автор).
Японцы поступают наоборот.
Вот ветка вишни или пейзаж с парусником.
И ученик из этой общности вырезывает то квадратом, то кругами, то прямоугольником композиционную единицу (рис. 3 и 4).
Берет кадр!
И как эти две школы (ихняя и наша) характеризуют борющиеся в сегодняшнем кино две основные тенденции!
Наша школа - отмирающий метод пространственной организации явления перед объективом: от "постановки" эпизода до возведения перед объективом буквальных столпотворений вавилонских.
И японцы - другой метод - "взятости" аппаратом, организации через него. Вырубание куска действительности средствами объектива.
39
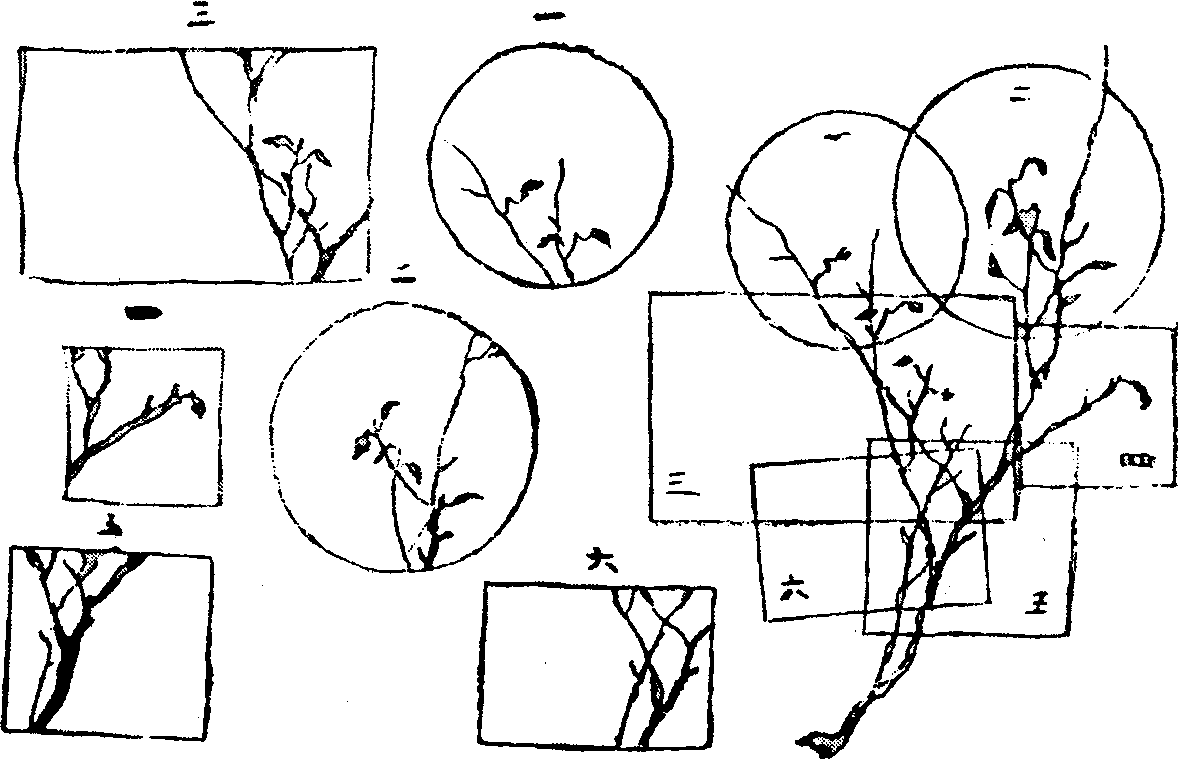
Рис
. 4Правда, сейчас, к моменту, когда центр внимания с материала кино как такового наконец начинает переноситься в интеллектуальном кино на "выводы и заключения", на "лозунги" по материалу, обе школы теряют значимость своей розни и могут спокойно синтетически объединяться.
Страниц восемь тому назад, мы, как калошу в трамвае, потеряли вопрос театра.
Вернемся назад - к вопросу приемов монтажа в японском театре,
в частности, в игре.
Первым и самым поразительным примером, конечно, является чисто кинематографический прием "беспереходной игры".
Наравне с предельным изыском мимических переходов японец пользуется и прямо противоположным.
В каком-то моменте игры он прерывает ее. "Черные" услужливо закрывают его от зрителя. И вот он возникает в новом гриме, новом парике, характеризующих другую стадию (степень) его эмоционального состояния.
Так, например, в пьесе "Наруками"
16 решается переход Садандзи17 от опьянения к безумию. Механической перерезкой. И изменением набора (арсенала) цветных полос на лице, выделяя те из них, на которые выпала доля выполнять задание более высокой интенсивности, чем первой росписи.Этот прием является органичным для фильмы. Насильственное введение в фильму европейской игровой традиции кусков "эмоциональных
40
За кадромпереходов" опять-таки заставляет кино топтаться на месте. Между тем прием "резанной" игры дал возможность выстраивания совершенно новых приемов. Замена одного меняющегося лица гаммой разнонастроенных лиц - типажа, - всегда более заостренно выразительных, чем слишком податливая и лишенная органической сопротивляемости поверхность лица проф-актера.
Размыкание между собой полярных стадий выражения лиц в резком сопоставлении применено мною в нашей новой деревенской картине
18. Этим достигается большая заостренность "игры сомнения" вокруг сепаратора. Сгустеет ли молоко или нет? Обманство? Деньги? Здесь психологический процесс игры мотивов - веры и сомнения - разложен на оба крайних положения радости (уверенности) и мрака (разочарованности). Кроме того, проведена резкая подчеркнутость этого светом (никак бытово не обоснованным). Это приводит к значительному усилению напряжения.Другой поразительной чертой Кабуки является принцип "разложенной игры". Так, премьер на женские роли, Сиоцио, гастролировавшей в Москве труппы Кабуки, изображая умирающую девушку в "Ваятеле масок", проводил ее на совершенно разомкнутых друг с другом кусках игры.
Игра одной правой рукой. Игра одной ногой. Игра только шеей и головой. Весь процесс общей предсмертной агонии был разъят на сольные отыгрывания каждой "партии" врозь; партии ног, партии рук, партии головы. Разложенность на планы. С укорачиванием отдельных чередований с приближением к... неблагополучному концу - смерти.
Высвобождаясь из-под примитивного натурализма, актер этим приемом всецело забирает зрителя "на ритм", чем и делается не только приемлемой, но чрезвычайно привлекательной сцена, в общей своей композиции построенная на последовательнейшем и подробнейшем натурализме (кровь и т. д.).
Не делая более принципиального различия в вопросе внутрикадровом и монтаже, мы тут же можем привести третий прием.
Японец пользуется в работе медленным темпом такой степени медлительности, которой наш театр не знает. Знаменитая сцена харакири в "Сорока семи верных"
19. Такой степени замедленности движения у нас на сцене нет. Если мы в предыдущем примере имели разложение связи движений, то здесь мы имеем разложение процесса движения. Zeitlupe. Я знаю только один случай последовательного применения этого же приема, технически получаемого в кино, в композиционно осмысляемом плане. Обычно это или изобразительность - "Подводное царство" ("Багдадский вор")20 или сон ("Звенигора")21. Еще чаще - просто формальные бирюльки и немотивированное озорничанье камерой ("Человек с киноаппаратом")22. Я [же] имею в виду "Гибель дома Уэшеров" Эпштейна23. Нормально сыг-41
ранные состояния, заснятые ускоренной съемкой, давали необычайное эмоциональное нагнетение своей замедленностью на экране (судя по прессе). Если принять во внимание, что аттракционность игры актера для аудитории держится на подражании ей со стороны зрителя, легко свести оба примера на один и тот же мотив. Интенсивность восприятия растет, ибо подражательный процесс по разложенному движению идет легче...
Даже обучение приемам винтовки вдалбливалось "по разложению" в самые тугие моторики "новобранцев"...
Самая же интересная связь японского театра, конечно, со звуковым кино, которое должно и может обучиться у японцев основному для него -приведению к одному физиологическому знаменателю ощущений зрительных и звуковых. Но этому я посвятил целую статью
24 в "Жизни искусства" (1928 г., ? 34) и возвращаться к этой теме не буду.Итак, бегло удалось установить пронизанность разнообразнейших отраслей японской культуры чисто кинематографической стихией и основным нервом ее - монтажом.
И только кино впадает в ту же ошибку, что и "левеющее" Кабуки.
Вместо того чтобы суметь выделить принципы и технику их исключительной игры из традиционности феодальных форм того, что они играют, передовые театральные деятели Японии бросаются на заимствование рыхлой бесформенности игры наших "нутрецов"
25. Результат плачевен и грустен. В области кино Япония тоже гоняется в подражаниях отвратительнейшим образцам ходкой американской и европейской средней рыночной завали.Понять и применить свою культурную особенность к своему кино, вот что на очереди для Японии!
Товарищи японцы! Неужели вы это предоставите сделать нам?
1929
Примечания
Статья написана и феврале 1929 г. Опубликована в виде послесловия к книге Н. Кауфмана "Японское кино" ("Теакинопечать", М., 1929, стр. 72-92), по тексту которой и печатается. Авторского подлинника не сохранилось.
В статье разрабатываются узловые проблемы теории монтажа, которую Эйзенштейн рассматривает как часть общей теории киноискусства.
Он уделяет преимущественное внимание системе понятий, возникающих на экране в результате столкновения "конфликта" кадров ("от столкновения двух данностей возникает мысль"). На втором плане в этом
42
За кадромрассуждении - эмоциональное воздействие фильма. В статье не ставится еще проблема изображения на экране человека. К разработке этой проблемы Эйзенштейн приближается позднее.
Содержание статьи "За кадром" не ограничивается дискуссионными поисками теоретических основ киноискусства. В ней Эйзенштейн, переходя от общих закономерностей монтажа к конкретной практике, дает острую и яркую характеристику вредного влияния американской и европейской рыночной завали на японское кино того времени и приходит к верному заключению: "Понять и применить свою культурную особенность к своему кино, вот что на очереди в Японии".
Статья "За кадром" помогла многим мастерам японского кино глубже осознать свои творческие задачи.
1
Xau.-K.au (хокку) - жанр японской лирической поэзии. Трехстишие хокку обладает устойчивым метром. В каждом стихе определенное количество слогов: пять в первом и третьем, семь во втором. Исторически хокку является первой строкой танки. Танка - буквально "короткая песня" - один из древнейших видов японской поэзии. Первоначально была народной песней. В VII-VIII вв. стала популярнейшей формой книжной поэзии.2
Сяраку - японский художник XVIII в., известный серией портретов актеров своего времени.3
Курт Юлиус - немецкий искусствовед, автор монографии о японском художнике Сяраку (1922).4
Томисабуро Накаяма - японский актер второй половины XVIII в.5
Театр "Но" - "Ногаку" - первый в истории Японии вид театрального искусства. Его образование относится к середине XIV в. Представления театра "Но" вначале устраивались в дни праздников при монастырях, а затем - при дворах правителей Японии. Основные элементы театра "Но" - сценическая речь, выступающая в форме речитатива или ариозного пения, музыка, соединенная со словом и инструментальная, и движение -сочетание поз и жестов и танец. KXIV-XV вв. относится абсолютная стабилизация театра "Но" во всех его частях. Музыкальная, драматургическая и исполнительская стороны "Но" неподвижны и закончены. Дальнейшего развития театр "Но" не получает.6
Перцепция (лат. perceptio) - восприятие, непосредственное отражение объективной действительности органами чувств. "Позитивистским реализмом" Эйзенштейн называет здесь плоско натуралистическое, мертвое, пассивное отражение внешних черт действительности.7
Кабуки - японский театр, традиции которого сложились в XVII-XVIII вв. Театр Кабуки дважды приезжал на гастроли в СССР, в 1928 и в 1961 гг. В ?34 журнала "Жизнь искусства" за 1928 г. была опубликова-43
на статья Эйзенштейна "Нежданный стык", посвященная искусству театра Кабуки. В ней Эйзенштейн особо отмечает неразделимость и равноправие пластических и звуковых образов, что роднит, по его мнению, древнее искусство японского театра со специфическими выразительными средствами кино.
8
"Так. по винтику, по кирпичику..." - слова популярной в 20-х гг. песни "Кирпичики".9
Кулешов Лев Владимирович (1899-1970) - советский кинорежиссер, профессор ВГИКа.10
МКХ - Московское коммунальное хозяйство.11
"Веселая канарейка" - фильм Л. В. Кулешова, производства "Межрабпом-фильм" (1929).12
Пудовкин Всеволод Илларионович (1893-1953) - советский кинорежиссер, народный артист СССР.13
ГТК - Государственный техникум кинематографии (ныне ВГИК). Эйзенштейн преподавал в нем режиссуру с 1928 по 1948 г. (с небольшими перерывами).14
Щукинский музей - или "Музей новой западной живописи" в Москве.15
И мы снова в Японии! - далее Эйзенштейн анализирует спектакли театра Кабуки, гастролировавшего в СССР в 1928 г.16
"Наруками" - пьеса Цуути Хандзюро, один из популярнейших спектаклей репертуара Кабуки.17
Садандзи Итикава (1880-1939) - руководитель театра и актер, крупнейший представитель искусства Кабуки.18
...в нашей новой деревенской картине - имеется в виду эпизод из фильма Эйзенштейна и Г. В. Александрова "Старое и новое" (1929).19
"Сорок семь верных" - пьеса Такеда Идзуно из гастрольного репертуара Кабуки 1928 г.20
"Багдадский вор" - фильм режиссера Рауля Уолша (США, 1924). В главной роли - Дуглас Фербенкс.21
"Звенигора" - фильм А. П. Довженко (1926).22
"Человек с киноаппаратом" - фильм Дзиги Вертова (1927).23
"Гибель дома Уэшеров", или "Падение дома Эшеров" - имеется в виду фильм французского режиссера Жана Эпштейна (1928).24
...этому я посвятил целую статью...- речь идет о статье "Нежданный стык".25
"Нутрецы" - имеются в виду актеры и режиссеры, не владевшие осознанной методикой и профессиональной техникой работы над образом и пытавшиеся строить свое творчество на голой интуиции ("нутре").44
Ровно год тому назад - 19 августа 1928 года, еще не приступая к монтажу "Генеральной линии", я писал в "Жизни искусства", ? 34, в связи с гастролями японского театра:
"...В "Кабуки"1... имеет место единое, монистическое ощущение театрального "раздражителя". Японец рассматривает каждый театральный эксперимент не как несоизмеримые единицы разных категорий воздействия (на разные органы чувств), а как единую единицу театра.
Адресуясь к различным органам чувств, он строит свой расчет (каждого отдельного "куска") на конечную сумму раздражении головного мозга, не считаясь с тем, по которому из путей он идет..." ("Жизнь искусства", ? 34, 19 августа 1928 г.).
Эта характеристика театра Кабуки оказалась пророческой. Этот прием лег в основу монтажа "Генеральной линии".
*
* *Ортодоксальный монтаж - это монтаж по доминантам, то есть сочетание кусков между собой по их подавляющему (главному) признаку. Монтаж по темпу. Монтаж по главному внутрикадровому направлению. Монтаж по длинам (длительностям) кусков и т. д. Монтаж по переднему плану.
Доминирующие признаки двух рядом стоящих кусков ставятся в те или иные конфликтные взаимоотношения, отчего получается тот или иной выразительный эффект (мы имеем здесь в виду чисто монтажный эффект).
Это условие обнимает все стадии интенсивности монтажного сопоставления - толчка:
от полной противоположности доминант, то есть резко контрастного построения,
до еле заметного "переливания" из куска в кусок. (Все случаи конфликта - стало быть, и случаи полного его отсутствия.)
45
Что же касается самой доминанты, то рассматривать ее как нечто самостоятельное, абсолютное и неизменно устойчивое никак нельзя. Теми или иными техническими приемами обработки куска его доминанта может быть определена более или менее, но никак не абсолютно.
Характеристика доминанты изменчива и глубоко относительна.
Выявление ее характеристики зависит от того самого сочетания кусков, условием для сочетания коих она является сама.
Круг? Одно уравнение с двумя неизвестными?
Собака, ловящая себя за хвост?
Нет, просто точное определение того, что есть.
Действительно,
если мы имеем даже ряд монтажных кусков:
1) седой старик,
2) седая старуха,
3) белая лошадь,
4) занесенная снегом крыша,
то далеко еще не известно, работает ли этот ряд на "старость" или на "белизну".
И этот ряд может продолжаться очень долго, пока наконец не попадется кусок - указатель, который сразу "окрестит" весь ряд в тот или иной "признак".
Вот почему и рекомендуется подобный индикатор ставить как можно ближе к началу (в "правоверном" построении). Иногда это даже вынужденно приходится делать... титром.
Эти соображения совершенно исключают недиалектическую постановку вопроса об однозначности кадра в себе.
Кадр никогда не станет буквой, а всегда останется многозначным иероглифом.
И чтение свое получает лишь из сопоставления, как и иероглиф, приобретающий специфические значения, смысл и даже устные произношения (иногда диаметрально противоположные друг другу) только в зависимости от сочетаний изолированного чтения или маленького значка, индикатора чтения, приставленного к нему сбоку.
В отличие от ортодоксального монтажа по частным доминантам "Генеральная линия" смонтирована иначе.
"Аристократизму" единоличной доминанты на смену пришел прием "демократического" равноправия всех раздражителей, рассматриваемых суммарно, как комплекс.
Дело в том, что доминанта является (со всеми оговорками на ее относительность) если [и] наиболее сильным, то далеко не единственными раздражителем куска. Например, сексуальному раздражению (sex appeal)
46
Четвертое измерение в киноот американской героини-красавицы сопутствуют раздражения: фактурные - от материала ее платья, светоколебательные - от характера ее освещенности, расовонационалистические (положительные: "родной тип американки" или отрицательные: "колонизатор-поработительница" для аудитории негритянской или китайской), социально-классовые и т. д.
Одним словом, центральному раздражителю (пусть, наприм[ер], сексуальному в нашем примере) сопутствует всегда целый комплекс второстепенных.
В полном соответствии с тем, что происходит в акустике (и частном ее случае - инструментальной музыке).
Там наравне со звучанием основного доминирующего тона происходит целый ряд побочных звучаний, так называемых обер- и унтертонов. Их столкновение между собой, столкновение с основным и т. д. обволакивает основной тон целым сонмом второстепенных звучаний.
Если в акустике эти побочные звучания являются лишь элементами "мешающими", то в музыке, композиционно учтенные, они являются одними из самых замечательных средств воздействия левых композиторов (Дебюсси
2, Скрябин3).Точно то же и в оптике. Присутствуя в виде аберраций, искажений и пр[очих] дефектов, устраняемых системами линз в объективах, они же, композиционно учитываемые, дают целый ряд композиционных эффектов (смена объективов от "28" до "310").
В соединении с учетом побочных же звучаний самого заснимаемого материала это и дает в полной аналогии с музыкой зрительный обертонный комплекс куска.
На этом приеме и построен монтаж "Генеральной линии". Монтаж этот строится вовсе не на частной доминанте, а берет за доминанту сумму раздражений всех раздражителей.
Тот своеобразный монтажный комплекс внутри куска, возникающий от столкновений и сочетания отдельных присущих ему раздражителей,
раздражителей, разнородных по своей "внешней природе", но сводимых к железному единству своей рефлекторно-физиологической сущности.
Физиологической, поскольку и "психическое" в восприятии есть лишь физиологический процесс высшей нервной деятельности.
Таким образом, за общий признак куска принято физиологическое суммарное его звучание в целом как комплексное единство всех образующих его раздражителей.
Это есть то особое "ощущение" куска, которое производит кусок в целом.
47
И это для монтажного куска является тем же, чем являются приемы Кабуки для отдельных его сцен (см. начало).
За основной признак куска принят суммарный конечный его эффект на кору головного мозга в целом, безотносительно - по которым путям слагающие раздражения к нему добрались.
Так достигаемые суммы могут ставиться друг с другом в любые конфликтные сочетания, вместе с тем открывая совершенно новые возможности монтажных разрешений.
Как мы видели - в силу самой генетики этих приемов - должна сопутствовать им необычайная физиологичность.
Как и той музыке, которая строит свои произведения на сугубом использовании обертонов.
Не классика Бетховена, а физиологичность Дебюсси или Скрябина.
Необычайная физиологичность воздействия "Генеральной линии" отмечается очень многими.
И именно потому, что она - первая картина, смонтированная на принципе зрительного обертона.
Самый же прием монтажа может быть любопытно проверен.
Если в мерцающих классических далях будущего кинематографа кино, конечно, будет использовать как монтаж в обертонике, так одновременно и по признаку доминант (тоника), то, как всегда, на первых порах новый прием утверждает себя всегда в принципиальном заострении вопроса.
Обертонный монтаж на первых шагах своего становления должен был взять линию резко наперекор доминанте. Во многих случаях, правда, и в самой "Генеральной линии" можно уже найти такие "синтетические" сочетания монтажей тонального и обертонного.
Напр[имер], "нырянье под иконы" в "крестном ходе" или кузнечик и сенокосилка, смонтированные зрительно по звуковой ассоциации с нарочитым выявлением и их пространственной схожести.
Но методически показательны, конечно, построения а-доминантные. Или такие, где доминанта является в виде чисто физиологической формулировки задания (что то же). Например, монтаж начала "крестного хода" по "степени насыщенности жаром" отдельных кусков или начала "совхоза" по линии "плотоядности". Условия внекинематографических дисциплин, ставящие самые неожиданные физиологические знаки равенства между материалами, логически, формально и бытово абсолютно нейтральными
друг к друг.Есть же и масса случаев монтажных стыков, звучащих издевательством над ортодоксальным схоластическим монтажом по доминантам.
48
Обнаружить это легче всего, провертев картину "на [монтажном] столе". Только тогда совершенно явственно обнаружится совершенная "невозможность" тех монтажных стыков, которыми "Генеральная линия" изобилует. Тогда же обнаружится и крайняя простота метрики ее и "размера".
Целые громадные разделы частей идут на кусках совершенно одинаковой длины или абсолютно примитивных кратных укорачиваний. Вся сложная ритмически чувственная нюансировка сочетания кусков проведена почти исключительно по линии работы над "психофизиологическим" звучанием куска.
Предельно заостренно излагаемую особенность монтажа "Генеральной линии" я и сам обнаружил "на столе".
Когда пришлось делать сокращения и подрезку.
"Творческий экстаз", сопутствующий сборке и монтажному компонованию, "творческий экстаз", когда слышишь и ощущаешь куски, к такому моменту уже проходит.
Сокращения и подрезки не требуют вдохновения, а только техники и знания.
И вот, разматывая на столе "крестный ход", я сочетание кусков ни под одну из ортодоксальных категорий (внутри которых хозяйничаешь чистым опытом) подогнать не смог.
На столе, в неподвижности, - совершенно непонятно, по какому признаку они подобраны.
Критерий для их сборки оказывается вне обычных формальных кинематографических критериев.
И здесь обнаруживается еще одна любопытная черта сходства зрительного обертона с музыкальным.
Он также не зачерчиваем в статике куска, как не зачертимы в партитуру - обертоны музыки.
Как тот, так и другой возникают как реальная величина только в динамике музыкального или кинематографического процесса.
Обертонные конфликты, предучтенные, но "незаписуемые" в партитуру, возникают лишь диалектическим становлением при пробеге киноленты через аппарат, при исполнении симфонии оркестром.
Зрительный обертон оказывается настоящим куском, настоящим элементом... четвертого измерения.
В трехмерном пространстве пространственно неизобразимого и только в четырехмерном (три плюс время) возникающего и существующего.
Четвертое измерение?!
Эйнштейн? Мистика?
Пора перестать пугаться этой "бяки" - четвертого измерения.
49
Обладая таким превосходным орудием познания, как кинематограф, даже свои примитив феномена - ощущение движения - решающий четвертым измерением, мы скоро научимся конкретной ориентировке в четвертом измерении так же по-домашнему, как в собственных ночных туфлях!
И придется ставить вопрос об измерении... пятом!
Обертонный монтаж является новой монтажной категорией известного нам до сих пор ряда монтажных процессов.
Непосредственно прикладное значение этого приема громадно.
И как раз для наиболее жгучего вопроса киносовременности - для звукового кино.
*
* *В уже цитированной вначале статье, указывая на "нежданный стык" -сходство Кабуки и звукового кино, я писал о контрапунктическом методе сочетания зрительного и звукового образа.
"...Для овладения этим методом надо выработать в себе новое ощущение: умение приводить к "единому знаменателю" зрительные и звуковые восприятия..."
Между тем звуковое и зрительное восприятия к одному знаменателю не приводимы.
Они величины разных измерений.
Но величины одного измерения суть зрительный обертон и обертон звуковой!
Потому что, если кадр есть зрительное восприятие, а тон - звуковое восприятие, то как зрительный, так и звуковой обертоны суть суммарно физиологические ощущения.
И, следовательно, одного и того же порядка, вне звуковых или слуховых категорий, которые являются лишь проводниками, путями к его достижению.
Для музыкального обертона (биения), собственно, уже не годится термин: "слышу".
А для зрительного - "вижу".
Для обоих вступает новая однородная формула: "ощущаю"
*._________________
при ощущении наел жденчя, возникающем от чрезмерного страдания (до известной степени всем знакомое ощущение). О нем пишет Штеккель
4: "Боль при аффективном перенапряжении перестает восприниматься как боль, а ощущается лишь как нервное напряжение... Всякое же сильное напряжение нервов оказывает тонизирующее действие. Повышение же тонуса вызывает чувство удовольствия и наслаждения".50
Теория и методология музыкального обертона разработана и известна (Дебюсси, Скрябин).
"Генеральная линия" устанавливает понятие обертона зрительного. На контрапунктическом конфликте между зрительным и звуковым
обертонами родится композиция советского звукового фильма.
II
Является ли метод обертонного монтажа каким-то посторонним и искусственно привитым к кинематографу приемом или он просто такое количественное перенакопление одного признака, что он делает диалектический скачок и начинает фигурировать новым качественным признаком?
Другими словами, есть ли обертонный монтаж последовательный диалектический этап развития общемонтажной системы приемов и существует ли стадиальная преемственность его по отношению к другим видам монтажа?
Известные нам формальные категории монтажа сводятся к следующим. ([Существует] категория монтажа, так как характеризуют монтаж с точки зрения специфики процесса в разных случаях, а не по внешним "признакам", сопутствующим этим процессам.)
1. Монтаж метрический.
Имеет основным критерием построения абсолютные длины кусков. Сочетает куски между собой согласно их длинам в формуле-схеме. Реализуется в повторе этих формул.
Напряжение достигается эффектом механического ускорения путем кратных сокращений длины кусков с условием сохранения формулы взаимоотношения этих длин ("вдвое", "втрое", "вчетверо" и т. д.).
Примитив приема: кулешовские трехчетвертные, маршевые, вальсовые монтажи
(3/4, 2/4, 1/4 и т. д.).Вырождение приема: метрический монтаж на метре сложной кратности
(16/17, 22/57 И Т.Д.).Подобный метр перестает физиологически воздействовать, так как противоречит "закону простых чисел (отношений)".
Простые соотношения, обеспечивая отчетливость восприятия, обусловливают тем самым максимальное воздействие.
И потому встречаются всегда в здоровой классике во всех областях:
51
архитектура, цвет в живописи, сложная композиция Скрябина - всегда кристально четкие в своих "членениях"; геометризация в мизансценах, отчетливые схемы рационализированных госучреждении и т. д.
Подобным отрицательным примером может служить "Одиннадцатый" Дзиги Вертова
5, где метрический модуль6 настолько математически сложен, что установить в нем закономерность можно только с "аршином в руках", то есть не восприятием, а измерением.Это отнюдь не значит, что метр при восприятии должен "осознаваться". Совсем наоборот. Не доходя до сознания, он тем не менее непреложное условие организованности ощущения.
Его четкость приводит "в унисон" "пульсирование" вещи и "пульсирование" зрительного зала. Вез этого никакого "контакта" обоих быть не может.
Слишком большая сложность метрических отношений взамен этого дает хаос восприятия вместо четкого эмоционального напрягания.
Третий случай метрического монтажа лежит между обоими: это метрический изыск в сложном чередовании простых, во взаимоотношении друг с другом, кусков (или наоборот).
Примеры: лезгинка в "Октябре" и патриотическая манифестация в "Конце Санкт-Петербурга"
7. (Второй пример может считаться классическим по линии чисто метрического монтажа.)Что касается внутрикадровой стороны подобного монтажа, то она целиком соподчинена абсолютной длине куска. Поэтому она придерживается грубодоминантного характера разрешения (возможной "однозначности" кадра).
2. Монтаж ритмический.
Здесь в определении фактических длин кусков равноправным элементом вступает внутрикадровая их наполненность.
Схоластика абстрактно устанавливаемых длин заменяется гибкостью соотношения фактических длин.
Здесь фактическая длина не совпадает с математической длиной, отводимой ей согласно метрической формуле. Здесь практическая длина куска определяется как производная длина из специфики куска и той "теоретической" длины его, которая ему полагается по схеме.
Здесь же вполне возможен и случай полной метрической одинаковости кусков и получения ритмических фигур исключительно через комбинирование кусков по внутрикадровым признакам.
52
Формальное напряжение через ускорение достигается здесь укорачиванием кусков не только согласно формуле кратности основной схемы, но и в нарушение этого канона.
Лучше же всего введением материала более интенсивного в тех же темповых признаках.
Классическим примером может служить "Одесская лестница". Там "ритмический барабан" спускающихся солдатских ног нарушает все условности метрики. Он появляется вне интервалов, предписанных метром, и каждый раз в ином кадровом разрешении. Конечное же нарастание напряжения дано переключением ритма шагов спускающихся с лестницы [солдат] в иной - новый вид движения - [в] следующую стадию интенсивности того же действия - в скатывающуюся по лестнице коляску.
Здесь коляска работает по отношению к ногам как прямой стадиальный ускоритель.
"Сошествие" ног переходит в "скатывание" коляски.
Сравните для контраста упомянутый выше пример из "Конца Санкт-Петербурга", где напряжения разрешены дорезкой одних и тех же кусков до минимального клеточного монтажа.
Метрический монтаж для подобных упрощенно-маршевых разрешений вполне исчерпывающе пригоден.
Для более сложных ритмических заданий - он оказывается недостаточным.
Насильственное его применение "тем не менее" к подобным случаям приводит к монтажным неудачам. Так случилось, напр[имер], в "Потомке Чингисхана"
8 ("Sturm liber Asien") с религиозными плясками. Смонтированный на основе сложной метрической схемы, не выправленной спецификой нагрузки кусков, этот монтаж нужного ритмического эффекта достичь не смог.И во многих случаях вызывает недоумение у специалиста и сбивчивость восприятия у простого зрителя (подобный случай может быть искусственно выправлен музыкальным сопровождением, что и имело место в данном примере).
Третий вид монтажа я назвал бы -
3. Монтаж тональный.
Термин этот вступает впервые. Он является следующей стадией за ритмическим монтажом.
В ритмическом монтаже за движение внутри кадра принималось фактическое перемещение (или предмета в поле кадра, или перемещение глаза по направляющим линиям неподвижного предмета).
53
Здесь же, в этом случае, движение понимается шире. Здесь понятие движения обнимает собой все виды колебаний, исходящих от куска.
Здесь монтаж идет по признаку эмоционального звучания куска. Причем доминантного. Общий тон куска.
Если со стороны восприятия он характеризуется эмоциональной тональностью куска, то есть, казалось бы, "импрессионистическим" измерителем, то это простое заблуждение.
Характеристика куска так же закономерно измерима и здесь, как в простейшем случае "аршинного" измерения в грубометрическом монтаже.
Только единицы измерения здесь иные. И самые величины измерения другие.
Например, степень светоколебания куска в целом не только абсолютно измерима посредством селенового фотоэлемента, но вполне градацион-но воспринимается невооруженным глазом.
И если мы условно эмоционально обозначим кусок, решенный по преимуществу светово, как "более мрачный", то это может быть с успехом заменено математическим коэффициентом простой степени освещенности (случай "световой тональности").
В другом случае, обозначая кусок как "резко звучащий", весьма легко свести это обозначение на подавляющее количество остроугольных элементов кадра, превалирующих над дугообразными (случай "графической тональности").
Игра на комбинировании степеней софт
*-фокусности или разных степеней резкости - типичнейший пример тонального монтажа.Как сказано выше, этот случай строится на доминирующем эмоциональном звучании от куска. Примерами могут служить: "Туманы в одесском порту" (начало "Траура по Вакулинчуку" в "Потемкине").
Здесь монтаж построен исключительно на эмоциональном "звучании" отдельных кусков, то есть на ритмических колебаниях, не производящих пространственных перемещений.
Здесь интересно то, что рядом с основной тональной доминантой одинаково работает как бы вторая, второстепенная ритмическая доминанта кусков.
Она как бы связующее звено тонального построения данной сцены с ритмической традицией, дальнейшим развитием коей и является тональный монтаж в целом.
Как ритмический монтаж есть специальное видоизменение монтажа метрического.
____________
Эта второстепенная доминанта реализована в еле заметном колебании воды, легком покачивании спящих на якорях судов, в медленно подымающемся дыму, в медленно опускающихся в воду чайках.
Собственно говоря, и это уже элементы тонального порядка. Движения - перемещения монтируемого по тональному, а не [по] пространственно-ритмическому признаку. Ведь здесь пространственно несоизмеримые перемещения сочетаются по эмоциональному их звучанию.
Но главный индикатор сборки кусков остается целиком в области сочетания кусков по основным оптическим светоколебаниям их. (Степени "туманности" и "освещенности".) И в строе этих колебаний обнаружен полный идентид
* минорному разрешению в музыке.Кроме того, этот пример дает нам образец консонанса в сочетаниях между собой движения как перемещения и движения как светового колебания.
Интенсификация напряжений и здесь идет по линии нагнетания одного и того же "музыкального" признака доминанты.
Особенно наглядным примером такого нарастания может служить сцена "Запоздалой жатвы" ("Генеральная линия", часть 5-я).
Как и для построения картины в целом, так и в этом частном случае соблюден основной ее постановочный прием.
А именно, конфликт между "содержанием" и традиционной для него "формой".
Патетическая структура приложена к непатетическому материалу. Раздражитель отделен от свойственной ему ситуации (например, трактовка эротики в картине) вплоть до парадоксальных тонических построений. Индустриальный "монумент" оказывается пишущей машинкой. Свадьба... но быка с коровой. И т. д.
Поэтому тематический минор жатвы разрешен мажором бури, дождя. (Да и сама жатва - традиционно мажорная тема плодородия в пылающих лучах солнца - взята для разрешения темы минорной и к тому же смоченной дождем.)
Здесь нарастание напряжения идет путем внутреннего усиления звучания одной и той же доминантной струны. Нарастающее предгрозовое "давление" куска.
Как и в предыдущем примере, тональной доминанте - движению как световому колебанию - сопутствует и здесь вторая доминанта, ритмическая, то есть движение как перемещение.
_____________
55
Здесь она реализована в усиливающемся ветре, уплотняющемся из воздушных "токов" в водяные "потоки" дождя. (Полная аналогия: шаги солдат, переходящие в коляску.)
В общей структуре роль дождя и ветра здесь вполне идентична связи между ритмическими качаниями и сетчатой бесфокусностью первого примера. Правда, характер взаимоотношений прямо противоположен. В противоположность консонансу первого примера мы имеем здесь обратное.
Сгущающиеся в черную неподвижность небеса противопоставляются усиливающемуся в динамике ветру, нарастающему и уплотняющемуся из воздушных "токов" в водяные "потоки" - следующую стадию интенсивности динамической атаки на женские юбки и запоздалую рожь.
Здесь это столкновение двух тенденций - нарастание статики и нарастание динамики - дает нам наглядный пример диссонанса в тонально-монтажном построении.
С точки зрения эмоционального восприятия "Жатва" является примером трагического (активного) минора, в отличие от минора лирического (пассивного), чем является "Одесский порт".
Любопытно, что оба примера смонтированы по первому же виду движения, следующему за движением как перемещением. А именно по "цвету": в "Потемкине" от темно-серого к туманно-белому (бытово оправдываемому "рассветом"), в "Жатве" от светло-серого в свинцово-черный (бытово оправдываемый "приближением грозы"), то есть по линии частоты световых колебаний, ускоряющихся по частоте в одном случае и замедляющихся по этому признаку - в другом.
Имеем полный повтор картины простого метрического построения, но взятого в новом, значительно высшем разряде движения.
Четвертым видом категорий монтажа мы с полным правом можем выставить
4. Монтаж обертонный.
Как видим, обертонный монтаж, охарактеризованный в начале статьи, является органическим дальнейшим развитием линии монтажа тонального.
От него он отличается, как указано выше, суммарным учетом всех раздражений куска.
И этот признак выводит восприятие из мелодически эмоциональной окрашенности в непосредственно физиологическую ощущаемость.
56
Я думаю, что и это является стадиальным по отношению друг к другу.
Эти четыре категории являются приемами монтажа.
Собственно монтажным построением они становятся тогда, когда они вступают в конфликтные взаимоотношения друг с другом (в приводимых примерах это именно и имеет место).
В этом они, схемой взаимоотношений повторяя друг друга, идут ко все более изощренным разновидностям монтажа, органически вытекающим друг из друга.
Так, переход от метрического приема к ритмическому создавался как установление конфликта между длиной куска и внутрикадровым движением.
Переход на тональный монтаж - как конфликт между ритмическим и тональным началом куска.
И, наконец, обертонный монтаж - как конфликт между тональным началом куска (доминантным) и обертонным
*.Эти соображения дают нам сверх того любопытный критерий оценки монтажного построения с точки зрения его "живописности". Живописность здесь противопоставляется кинематографичности. Эстетическая живописность - физиологической животности.
Рассуждать о живописности кадра в кинематографе - наивно. Это под стать людям неплохой живописной культуры, но абсолютно неквалифицированным кинематографически. К такому типу рассуждений могут быть отнесены, например, высказывания о кино со стороны Казимира Малевича
9. Разбирать "кинокадрики" с точки зрения станковой живописи не станет сейчас ни один киномладенец.Я думаю, что критерием для "живописности" монтажного построения, в самом широком смысле слова, должно служить условие: если конфликт решается внутри одной какой-либо категории монтажа, то есть без того, чтобы конфликт возникал между разными категориями монтажа.
_____________
Тогда мы получаем своеобразную полифонию. Своеобразный оркестр, органически сплетающий самостоятельные партии отдельных инструментов, проводящих свои линии сквозь общий комплекс оркестрового звучания.
В наиболее удачных разрешениях "Генеральной линии" местами этого удалось достигнуть (например, часть вторая и особенно в ней "крестный ход").
57
Кинематограф начинается там, где начинается столкновение разных кинематографических измерений движения и колебания.
Например, "живописный" конфликт фигуры и горизонта (в статике или динамике - безразлично), или чередование разноосвещенных кусков только с точки зрения конфликтов световых колебаний, или - форм предмета и его освещенности и т. д.
Следует еще отметить, чем характеризуется воздействие отдельных разновидностей монтажа на "психофизиологический" комплекс воспринимающего.
Первая категория характеризуется грубой моторикой воздействия. Она способна приводить зрителя в определенные внешнедвигательные состояния.
Так смонтирован, например, "сенокос" ("Генеральная линия"). Отдельные куски взяты - "однозначно" - одним движением из бока кадра в бок, и я от души смеялся, наблюдая за более впечатлительной частью аудитории, мерно раскачивающейся из бока в бок с возрастающим ускорением
по мере укорачивания кусков. Эффект такой же, как от барабана и меди, играющих простой походный марш.Вторую категорию мы называем ритмической, ее можно было [бы] еще назвать примитивно эмоциональной. Здесь движение более тонко учтенное, ибо эмоция есть тоже результат движения, но движения, не допускаемого до примитивно внешнего путем перемещения.
Третья категория - тональная - могла бы назваться мелодически эмоциональной. Здесь движение, уже во втором случае переставшее быть перемещением, отчетливо переходит в эмоциональное вибрирование еще более высокого разряда.
Четвертая категория - новым приливом чистого физиологизма как бы повторяет в высшем разряде интенсивности категорию первую, снова обретая стадию усиления непосредственной моторики.
В музыке это объясняется тем, что с моментом вступления обертонов параллельно основному звучанию вступают еще так называемые биения, то есть такой тип колебаний, которые снова перестают восприниматься как тона, а воспринимаются скорее как чисто физические "смещения" воспринимающего. Это относится к резко выраженным тембровым инструментам с большим превалированием обертонного начала.
Ощущения физического "смещения" они достигают иногда почти буквально: очень большие турецкие барабаны, колокола, орган.
В некоторых местах "Генеральной линии" удалось провести конфликтные сочетания линий тональной и обертонной. Иногда же столкнуть еще и с метро-ритмической. Например, отдельные узлы внутри крестного
58
хода: нырки под иконы, тающие свечи и задыхающиеся овцы к моменту экстаза и т. д.
Любопытно, что по ходу разбора мы совершенно незаметно провели знак субстанционного равенства между ритмом и тоном, установив между ними такое же стадиальное единство, как я в свое время установил стадиальное единство понятий кадра и монтажа.
Итак, тон есть стадия ритма.
Для пугающихся подобных стадиальных сведений воедино и продления свойств одной стадии в другую в целях исследовательских и методологических напомню одну цитату, касающуюся основных элементов диалектики:
"...Таковы элементы диалектики, по-видимому. Можно, пожалуй, детальнее эти элементы представить так:
1)...
11) бесконечный процесс углубления познания человеком вещи, явлений, процессов и т. д. от явлений к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности.
12) от сосуществования к каузальности и от одной формы связи и взаимозависимости к другой, более глубокой, более общей.
13) повторение в высшей стадии известных черт, свойств etc. низшей и
14) возврат якобы к старому..."
(Конспект Ленина к "Науке логики" Гегеля. Ленинский сборник IX, стр. 275, 277, изд. 1929 г.).
После этой цитаты, я думаю, не встретит возражения и следующий разряд монтажа, устанавливаемый как еще более высокая категория монтажа, а именно интеллектуальный монтаж.
Интеллектуальный монтаж это есть монтаж не грубо физиологических обертонных звучаний, а звучаний обертонов интеллектуального порядка,
то есть конфликтное сочетание интеллектуальных сопутствующих эффектов между собой.
Стадиальность здесь устанавливается тем, что нет принципиальной разницы между моторикой качания человека под влиянием грубо метрического монтажа (см. пример сенокоса) и интеллектуальным процессом внутри его, ибо интеллектуальный процecc есть то же колебание, но лишь в центрах высшей нервной деятельности.
И если в первом случае под влиянием "чечеточного монтажа" вздрагивают руки и ноги, то во втором случае такое вздрагивание при иначе скомбинированном интеллектуальном раздражении происходит совершенно идентично в тканях высшей нервной системы мыслительного аппарата.
59
И если по линии "явлений" (проявлений) они кажутся фактически различными, то с точки зрения "сущности" (процесса) они, конечно, идентичны.
А это на приложении опыта работы по низшим линиям к разделам высшего порядка дает возможность вести атаку в самую сердцевину вещей и явлений.
Итак, пятым разделом был случай интеллектуального обертона. Примером его могут служить "боги" в "Октябре", где все условия к их сопоставлению обусловливались исключительно классово-интеллектуальным (классовым, ибо если эмоциональное "начало" общечеловечно, то интеллектуальное с корня же классово окрашено) звучанием куска "бога".
По нисходящей интеллектуальной гамме эти куски и собраны и низводят идею бога к чурбану.
Но это, конечно, еще не интеллектуальное кино, провозглашаемое мною уже скоро несколько лет.
Интеллектуальное кино будет тем, которое решит конфликтное сочетание обертонов физиологических и обертонов интеллектуальных (см. ст[атью] "Перспективы" в журнале "Искусство", ?1-2), создав небывалую форму кинематографии - вклада революции в общую историю культуры, создав синтез науки, искусства и воинствующей классовости.
Как видим, вопрос обертона на будущее имеет громадное значение.
Тем более внимательно надо вникать в вопросы его методологии и проводить всестороннее его исследование.
1929
Примечания
Статья написана в августе - сентябре 1929 г. Полный текст статьи (машинопись с авторской правкой) хранится в РГАЛИ (ф. 1923, on. 1, ед. хр. 1014). Сохранился также и черновой автограф. Первая часть статьи была опубликована в газете "Кино", М., 27 августа 1929
г., под заглавием "Кино четырех измерений". Печатается полный текст статьи, сохранившейся в архиве.Статья занимает важное место в теоретическом наследии Эйзенштейна 20-х гг. В ней, с одной стороны, подытожены его поиски в области теории монтажа, теории кадра, исследования специфики кино и его выразительных средств, с другой - намечены плодотворные идеи, развиваемые им в дальнейшем.
Статья обнаруживает влияние на Эйзенштейна рефлексологического учения В. М. Бехтерева, которое страдало механистичностью, сводя
60
сложные явления психической жизни человека к простейшим биологическим формам, а психологию - к системе разнообразных рефлексов. Вскоре Эйзенштейн отходит от рефлексологии Бехтерева. Отдельные положения Бехтерева и его терминология, содержащиеся в данной статье, не имеют принципиального значения для теории обертонного монтажа и не влияют на логику рассуждений Эйзенштейна, тем более что в термины Бехтерева Эйзенштейн вкладывает свое содержание. Так, раздражитель для Эйзенштейна не физиологический, а психофизиологический фактор воздействия на чувство и разум зрителя, раздражение - не механический, а сложный психологический процесс художественного воздействия искусства на зрителя, и т. д.
В статье Эйзенштейн впервые вводит понятие "обертонный монтаж". Он анализирует общепринятые "ортодоксальные", хорошо освоенные приемы монтажа и стремится расширить сами понятия "монтажный признак" и "монтажная выразительность". Он утверждает, в противовес однозначности, идейно-смысловую и эмоциональную многозначность кадра (от сравнения кадра с иероглифом он вскоре отказывается). Эту многозначность он называет "комплексом раздражителей". Эйзенштейн доказывает (на примерах из "Старого и нового"), что монтаж может строиться не только на главном признаке содержания кадра, не только на "основной доминанте" ("центральном раздражителе"), но и на многих сопутствующих - пластических, звуковых, эмоциональных и т. д. - признаках ("раздражителях"). Их он называет обертонами - по аналогии с побочными тонами в музыке. Обертонный монтаж Эйзенштейн считает логическим развитием всех существующих форм монтажного мышления. Подробнее свои мысли об обертонном монтаже Эйзенштейн развивает в исследовании "Вертикальный монтаж".
1
Кабуки - см. комментарий в настоящем издании к статье "За кадром".2
Дебюсси Клод (1862-1918) - французский композитор, пианист и дирижер.3
Скрябин Александр Николаевич (1871-1915) - русский композитор и пианист.4
Штеккель В. - немецкий психолог XX в., примыкавший к фрейдистской школе психоанализа.5
Вертов Дзига (Кауфман Денис Аркадьевич) (1896-1953) - кинорежиссер. "Одиннадцатый" (1928) - фильм, задуманный Вертовым как своеобразная документально-публицистическая поэма о социалистическом преобразовании страны за 11 лет Советской власти. Несмотря на то, что фильм содержал прекрасные эпизоды, отмеченные глубоким содержанием и свежестью художественных поисков, в целом он не удался из-за пере-61
груженности тематическими задачами и изобразительно-монтажной усложненности. Поиски нового монтажного образа носили порой отвлеченный характер, лишая художественной убедительности фильм в целом.
6
Модуль - в архитектуре - часть постройки, являющаяся одновременно единицей меры целого.7
"Конец Санкт-Петербурга" - фильм режиссера В. Пудовкина (1927).8
"Потомок Чингис-хана" - фильм режиссера В. Пудовкина (1928). В зарубежном прокате назывался "Буря над Азией".9
Малевич Казимир Северинович (1878-1935) - русский живописец, основоположник супрематизма.62
Был период в нашем кино, когда монтаж провозглашался "всем". Сейчас на исходе период, когда монтаж считается "ничем". И, не полагая монтаж ни "ничем", ни "всем", мы считаем нужным сейчас помнить, что монтаж является такой же необходимой составной частью кинопроизведения, как и все остальные элементы кинематографического воздействия. После бури "за монтаж" и натиска "против монтажа" нам следует заново и запросто подойти к его проблемам. Это тем более нужно, что период "отрицания" монтажа разрушал даже самую бесспорную его сторону, ту, которая никак и никогда не могла вызывать нападок. Дело в том, что авторы ряда фильмов последних лет настолько начисто "разделались" с монтажом, что забыли даже основную его цель и задачу, неотрывную от познавательной роли, которую ставит себе всякое произведение искусства, - задачу связно последовательного изложения темы, сюжета, действия, поступков, движения внутри киноэпизода и внутри кинодрамы в целом. Не говоря уже о взволнованном рассказе, даже логически последовательный, просто связный рассказ во многих случаях утерян в работах даже весьма незаурядных мастеров кино и по самым разнообразным киножанрам. Это требует, конечно, не столько критики этих мастеров, сколько прежде всего борьбы за утраченную многими культуру монтажа. Тем более что перед нашими фильмами стоит задача не только логически связного, но именно максимально взволнованного эмоционального рассказа.
Монтаж - могучее подспорье в решении этой задачи. Почему мы вообще монтируем? Даже самые ярые противники монтажа согласятся: не только потому, что мы не располагаем пленкой бесконечной длины и, будучи обречены на конечную длину пленки, вынуждены от времени до времени склеивать один ее кусок с другим.
"Леваки" от монтажа подглядели в монтаже другую крайность. Играя с кусками пленки, они обнаружили одно качество, сильно их удивившее на ряд лет. Это качество состояло в том, что два каких-либо куска, поставленные рядом, неминуемо соединяются в новое представление, возникающее из этого сопоставления как новое качество.
63
Это отнюдь не сугубо кинематографическое обстоятельство, а явление, встречающееся неизбежно во всех случаях, когда мы имеем дело с сопоставлением двух фактов, явлений, предметов. Мы привыкли почти автоматически делать совершенно определенный трафаретный вывод -обобщение, если перед нами поставить рядом те или иные отдельные объекты. Возьмите, для примера, могилу. Сопоставьте ее с женщиной в трауре, плачущей рядом, и мало кто удержится от вывода: "вдова". Именно на этой черте нашего восприятия строится эффект следующего коротенького анекдота Амброза Бирса
1 - из его "Фантастических басен" - "Безутешная вдова"."Женщина в одеждах вдовы рыдала на могиле.
- Успокойтесь, сударыня, - сказал ей Соболезнующий странник, - небесное милосердие безгранично. И где-нибудь на свете найдется еще другой мужчина помимо вашего мужа, с которым вы сумеете быть счастливой.
- Был такой, - проплакала она в ответ, - нашелся такой, но, увы... это и есть его могила...".
Весь эффект рассказа на том и строится, что могила и стоящая рядом с ней женщина в трауре по раз установленному трафарету вывода складываются в представление вдовы, оплакивающей мужа, в то время как оплакиваемый на деле оказывается любовником!
Это же обстоятельство использовано и в загадках. Пример фольклорный: "Ворона летела, а собака на хвосте сидела. Как это возможно?" Мы автоматически сопоставляем оба элемента и сводим их воедино. При этом вопрос прочитывается так, что собака сидела на хвосте у вороны. Загадка же имеет в виду, что оба действия безотносительны: ворона летела, а собака сидела на своем хвосте.
Нет ничего удивительного, что у зрителя возникает определенный вывод и при сопоставлении двух склеенных кусков пленки.
Я думаю, что мы будем критиковать не факты и не их примечательность и повсеместность, а те выводы и заключения, которые из них делались, и внесем сюда необходимые коррективы.
*
* *В чем же заключалось то упущение, которое мы делали, когда в свое время сами впервые указывали
2 на несомненную важность отмеченного явления для понимания и освоения монтажа? Что было верного и что неверного в энтузиазме наших тогдашних утверждений?Верным оставался и на сегодня остается факт, что сопоставление двух монтажных кусков больше похоже не на сумму их, а на произведе
64
Монтаж 1938ние. На произведение - в отличие от суммы - оно походит тем, что результат сопоставления качественно (измерением, если хотите, степенью) всегда отличается от каждого слагающего элемента, взятого в отдельности. Женщина - если вернуться к нашему примеру - изображение;
черный наряд на женщине - изображение, и оба предметно изобразимы. "Вдова" же, возникающая из сопоставления обоих изображений, уже предметно неизобразимое, новое представление, новое понятие, новый образ.
А в чем состоял "загиб" тогдашнего обращения с этим неоспоримым явлением?
Ошибка была в акценте, главным образом на возможностях сопоставления при ослабленном акценте исследовательского внимания к вопросу материалов сопоставления.
Мои критики не преминули изобразить это как ослабление интереса к самому содержанию кусков, смешав исследовательскую заинтересованность определенной областью и стороной проблемы отношением самого исследователя к изображаемой действительности
3.Оставляю это на их совести.
Думаю, что дело здесь в том, что я был пленен в первую очередь чертой безотносительности кусков, которые тем не менее и часто вопреки себе, сопоставляясь по воле монтажера, рождали "некое третье" и становились соотносительными
4.Меня пленяли, таким образом, возможности нетипические в условиях нормального кинопостроения и кинокомпозиции.
Оперируя в первую очередь таким материалом и такими случаями, естественно было задумываться больше всего над возможностью сопоставлений. Меньше аналитического внимания уделялось самой природе сопоставляемых кусков. Впрочем, и этого одного также было бы недостаточно. Это внимание только к "внутрикадровому" содержанию привело на практике к захирению монтажа со всеми отсюда вытекающими последствиями.
Чему же следовало уделить больше всего внимания, чтобы привести обе крайности в норму?
Следовало обратиться к тому основному, что в равной степени определяет как "внутрикадровое" содержание, так и композиционное сопоставление этих отдельных содержаний между собой, то есть к содержанию целого, общего, объединяющего.
Одна крайность состояла в увлечении вопросами техники объединения (методы монтажа), другая - объединяемыми элементами (содержание кадра).
65
Следовало больше заняться вопросом самой природы этого объединяющего начала. Того именно начала, которое для каждой вещи в равной мере родит как содержание кадра, так и то содержание, которое раскрывается через то или иное сопоставление этих кадров.
Но для этого сразу же надо было обратить исследовательский интерес не в сторону парадоксальных случаев, где это целое, общее и конечное не предусмотрено, а неожиданно возникает. Следовало бы обратиться к случаям, когда куски не только не безотносительны друг к другу, но когда само конечное, общее, целое не только предусмотрено, оно самое предопределяет как элементы, так и условия их сопоставления. Это будут случаи нормальные, общепринятые и общераспространенные. В них это целое совершенно так же будет возникать, как "некое третье", но полная картина того, как определяются и кадр и монтаж - содержание того и другого, - будет нагляднее и отчетливее. И такие случаи как раз окажутся типическими для кинематографа.
При таком рассмотрении монтажа как кадры, так и их сопоставление оказываются в правильном взаимоотношении. Мало того, сама природа монтажа не только не отрывается от принципов реалистического письма фильма, но действует как одно из наиболее последовательных и закономерных средств реалистического раскрытия содержания.
Действительно, что мы имеем при таком понимании монтажа? В этом случае каждый монтажный кусок существует уже не как нечто безотносительное, а являет собой некое частное изображение единой общей темы, которая в равной мере пронизывает все эти куски. Сопоставление подобных частных деталей в определенном строе монтажа вызывает к жизни, заставляет возникнуть в восприятии то общее, что породило каждое отдельное и связывает их между собой в целое, а именно - в тот обобщенный образ, в котором автор, а за ним и зритель переживают данную тему.
И если мы теперь рассмотрим два рядом поставленных куска, то мы сами в несколько ином свете увидим их сопоставление. А именно:
кусок А, взятый из элементов развертываемой темы, и кусок В, взятый оттуда же, в сопоставлении рождают тот образ, в котором наиболее ярко воплощено содержание темы.
Выраженное в императивной форме, более точно и более оперативно, это положение прозвучит так:
изображение А и изображение В должны быть так выбраны из всех возможных черт внутри развиваемой темы, должны быть так выисканы, чтобы сопоставление их - именно их, а не других элементов - вызывало в
66
восприятии и чувствах зрителя наиболее исчерпывающе полный образ самой темы.
Здесь в наше рассуждение о монтаже вошло два термина -"изображение" и "образ".
Уточним то размежевание между ними, которое мы здесь имеем в виду.
*
* *Обратимся к наглядному примеру. Возьмем белый средней величины кружок с гладкой поверхностью, разделенный по окружности на шестьдесят равностоящих друг от друга делений. На каждом пятом делении проставлена порядковая цифра от единицы до двенадцати включительно. В центре кружка прикреплены две свободно вращающиеся, заостренные к свободному концу металлические полоски: одна размером в радиус кружка, другая -
несколько короче. Допустим, что более длинная заостренная полоска упирается свободным концом в цифру двенадцать, а более короткая полоска своим свободным концом последовательно упирается в цифры 1, 2, 3 и т. д. до 12 включительно. Это будет серия последовательных геометрических изображений того факта, что некие две металлические полоски последовательно находятся по отношению друг к другу под углами в 30, 60, 90 и т. д. до 360° включительно.Если, однако, этот кружок снабжен механизмом, равномерно передвигающим металлические полоски, то геометрический рисунок на его поверхности приобретает уже особое значение: он не просто изображение, а является уже образом времени.
В данном случае изображение и вызываемый им образ в нашем восприятии настолько слиты, что нужны совсем особенные обстоятельства, чтобы отделить геометрический рисунок стрелок на циферблате от представления о времени. Однако это может случиться и с любым из нас, правда, в обстоятельствах необыкновенных. Вспомним Вронского после сообщения Анны Карениной о том, что она беременна. В начале XXIV главы второй части "Анны Карениной" мы находим именно такой случай:
"...Когда Вронский смотрел на часы на балконе Карениных, он был так растревожен и занят своими мыслями, что видел стрелки на циферблате, но не мог понять, который час..."
Образа времени, который создавали часы, у него не возникало. Он видел только геометрическое изображение циферблата и стрелок.
Как видим, даже в простейшем случае, когда дело идет об астрономическом времени - часе, недостаточно одного изображения на циферблате. Мало увидеть, нужно, чтобы с изображением что-то произошло, чтобы
67
с ним что-то было проделано, и только тогда оно перестанет восприниматься как простои геометрический рисунок, но будет воспринято как образ "некоего часа", в который происходит событие. Толстой показывает нам то, что получается, если этого процесса не происходит.
В чем же состоит этот процесс? Определенная конфигурация стрелок на циферблате включает рой представлений, связанных с соответствующим часом, которому отвечает данная цифра. Пусть это будет, для примера, цифра пять. В таком случае наше воображение приучено к тому, чтобы в ответ на этот знак приводить на память картины всяческих событий, происходящих в этот час. Это будет обед, конец рабочего дня или час "пик" на метро. Закрывающиеся книжные магазины или тот особый свет в предсумеречные часы, который так характерен для этого времени дня... Так или иначе, это будет целый ряд картин (изображений) того, что происходит в пять часов.
Из всех этих отдельных картин складывается образ пяти часов.
Таков этот процесс в развернутом виде, и таков он на стадии освоения изображений цифр, от которых возникают образы часов дня и ночи.
В дальнейшем вступают в силу законы экономии психической энергии. Происходит "уплотнение" внутри описанного процесса: цепь промежуточных звеньев выпадает, и вырабатывается непосредственная, прямая и мгновенная связь между цифрой и ощущением образа - часа, которому она соответствует. На примере с Вронским мы видели, что связь эта под влиянием резкого аффекта может нарушаться, и тогда изображение и образ отрываются друг от друга.
Нас интересует та полная картина становления образа из изображений, какой мы ее только что описали. Эта "механика" становления образа интересует нас потому, что подобная механика его становления в жизни, конечно, служит прообразом того, чем оказывается в искусстве метод создания художественных образов.
Поэтому запомним, что между изображением часа на часах и ощущением образа этого времени дня протекает длинная цепь нанизываемых изображений отдельных аспектов, характерных для данного часа. Повторяем, что психический навык ведет к тому, что эта промежуточная цепь сводится к минимуму, и мы ощущаем лишь начало и конец процесса.
Но как только нам приходится по какому-либо поводу устанавливать связь между некоторым изображением и образом, который оно должно вызывать в сознании и чувствах, мы неизбежно вынуждены прибегнуть к подобной же цепи промежуточных изображений, собирающихся в образ
5.Возьмем сперва вовсе близкий к изложенному пример из бытовой практики.
68
В Нью-Йорке большинство улиц не имеет названий. Вместо этого они обозначаются... номерами, "Фифт авеню" - пятый проспект, "Форти секонд стрит" - сорок вторая улица и т. п. Для приезжих подобный способ обозначения улиц на первых порах необычайно труден для запоминании. Мы привыкли к названиям улиц, и это для нас значительно легче, ибо название сразу же родит образ улицы, то есть при произнесении соответствующего названия возникает вместе с образом определенный комплекс
ощущений.Мне было очень трудно запомнить образы улиц Нью-Йорка, а следовательно, и знать эти улицы. Обозначенные нейтральными номерами "сорок вторая" или "сорок пятая" улицы, они не порождали во мне образов, концентрировавших ощущение общего облика той или иной улицы. Чтобы помочь этому, приходилось устанавливать в памяти набор предметов, характерных для той или иной улицы, набор предметов, возникавших в сознании, ответ на сигнал - "сорок вторая", в отличие от сигнала -"сорок пятая". Набирались в памяти театры, кино, магазины, характерные дома и т. д. для каждой из улиц, которую следовало запомнить. Такое запоминание шло отчетливыми этапами. Таких этапов можно отметить два:
в первом из них на словесное обозначение "Форти секонд стрит" (сорок вторая улица) память с большим затруднением ответно перечисляла всю цепь элементов, характерных для этой улицы, но настоящего ощущения этой улицы еще не получалось, потому что отдельные элементы еще не сложились в единый образ. И только на втором этапе все эти элементы стали сплавляться в единый, возникающий образ: при назывании "номера" улицы также вставал целый рой отдельных ее элементов, но не как цепь, а как нечто единое - как цельный облик улицы, как цельный ее
образ.
Только с этого момента можно было говорить о том, что улица по-настоящему запомнилась. Образ этой улицы начинал возникать и жить в сознании и ощущениях совершенно так же, как в ходе художественного произведения из его элементов постепенно складывается единый, незабываемый, целостный его образ.
В обоих случаях - идет ли дело о процессе запоминания или о процессе восприятия художественного произведения - остается верной закономерность того, что единичное входит в сознание и чувства через целое и целое - через образ.
Этот образ входит в сознание и ощущение, и через совокупность каждая деталь сохраняется в нем в ощущениях и памяти неотрывно от целого. Это может быть звуковой образ - некая ритмическая и мелодиче-
69
екая звукокартина, или это может быть пластический образ, куда изобразительно вошли отдельные элементы запоминаемого ряда.
Тем или иным путем ряд представлений укладывается в восприятие, в сознание, в целостный образ, в который складываются отдельные элементы.
Мы видели, что в запоминании есть два очень существенных этапа: первый - это становление образа, а второй - результат этого становления и значение его для запоминаний. При этом для памяти важно уделять как можно меньше внимания первому этапу и как можно скорее, пройдя через процесс становления, достигнуть результата. Такова жизненная практика, в отличие от практики искусства. Ибо, переходя отсюда в область искусства, мы видим отчетливое смещение акцента. Естественно, добиваясь результата, произведение искусства, однако, всю изощренность своих методов обращает на процесс.
Произведение искусства, понимаемое динамически, и есть процесс становления образов в чувствах и разуме зрителя
*. В этом особенность подлинно живого произведения искусства и отличие его от мертвенного, где зрителю сообщают изображенные результаты некоторого протекшего процесса творчества, вместо того чтобы вовлекать его в протекающий процесс.Это условие оправдывает себя всюду и всегда, какой бы области искусства мы ни коснулись. Совершенно так же живая игра актера строится на том, что он не изображает скопированные результаты чувств, а заставляет чувства возникать, развиваться, переходить в другие - жить перед зрителем.
Поэтому образ сцены, эпизода, произведения и т. п. существует не как готовая данность, а должен возникать, развертываться.
Совершенно так же и характер, чтобы производить действительно живое впечатление, должен складываться для зрителя по ходу действия, а не являться заводной фигуркой с a priori заданной характеристикой.
Для драмы особенно важно, чтобы ход событий не только складывал представления о характере, но еще и складывал, "образовывал" самый
характер.
Следовательно, уже в методе создания образов произведение искусства должно воспроизводить тот процесс, посредством которого в самой жизни складываются новые образы в сознании и в чувствах человека.
______________
70
Монтаж 1938Мы это только что показали на примере нью-йоркских улиц. И мы вправе ожидать, что художник, если перед ним будет поставлена задача сквозь изображение факта выразить некий образ, прибегнет к подобному методу "освоения" нью-йоркских улиц.
Мы взяли пример изображения на циферблате и раскрыли, в каком процессе за этим изображением появился образ времени. И произведению искусства для создания образа придется прибегнуть к аналогическому методу создания цепи изображений.
Останемся в пределах примера с часами.
В нашем случае с Вронским геометрический рисунок не зажил образом часа. Но ведь бывают случаи, когда важно не астрономически ощутить двенадцать часов ночи, а пережить полночь во всех тех ассоциациях и ощущениях, какие по ходу сюжета понадобилось автору возбудить. Это может быть час трепетного переживания полночного свидания, час смерти в полночь, роковая полночь побега, то есть далеко не просто изображение астрономических двенадцати часов ночи.
И тогда сквозь изображение двенадцати ударов должен сквозить образ полуночи как некоего "рокового" часа, наполненного особым смыслом.
Проиллюстрируем и этот случай примером. На этот раз его подскажет Мопассан в "Милом друге". Пример этот интересен и тем, что он -звуковой. И еще интереснее тем, что, чисто монтажный по правильно выбранному приему разрешения, он представлен в романе как бы бытоописательным.
"Милый друг"
6. Сцена, в которой Жорж Дюруа, уже пишущий свою фамилию "Дю-Руа", ожидает в фиакре Сюзанну, условившуюся с ним бежать в двенадцать часов ночи.Двенадцать часов ночи - здесь меньше всего астрономический час и больше всего час, в который все (или во всяком случае очень много) поставлено на карту: "Кончено. Все погибло. Она не придет".
Вот как Мопассан врезает в сознание и чувства читателя образ этого часа, его значительность, в отличие от описания соответствующего времени ночи:
"...он вышел из дому около одиннадцати часов, побродил немного, взял карету и остановился на площади Согласия, у арки морского министерства.
От времени до времени он зажигал спичку и смотрел на часы. Около двенадцати его охватило лихорадочное волнение. Каждую минуту он высовывал голову из окна кареты и смотрел, не идет ли она.
71
Где-то вдали пробило двенадцать, потом еще раз, ближе, потом где-то на двух часах сразу и, наконец, опять совсем далеко. Когда раздался последний удар, он подумал: "Кончено. Все погибло. Она не придет".
Он решил, однако, ждать до утра. В таких случаях надо быть терпеливым.
Скоро он услышал, как пробило четверть первого, потом половину, потом три четверти и, наконец, все часы повторяли друг за другом час, как раньше пробили двенадцать..."
Мы видим из этого примера, что, когда Мопассану понадобилось вклинить в сознание и ощущение читателя эмоциональность полуночи, он не ограничился тем, что просто дал пробить часам двенадцать, а потом час. Он заставил нас пережить это ощущение полуночи тем, что заставил пробить двенадцать часов в разных местах, на разных часах. Сочетаясь в нашем восприятии, эти единичные двенадцать ударов сложились в общее ощущение полуночи. Отдельные изображения сложились в образ. Сделано это строго монтажно.
Данный пример может служить образцом тончайшего монтажного письма, где "двенадцать часов" в звуке выписано целой серией планов "разной величины": "где-то вдали", "ближе", "совсем далеко". Это бой часов, взятый с разных расстояний, как съемка предмета, сфотографированного в разных размерах и повторенного в последовательности трех различных кадров - "общим планом", "средним", "еще более общим". При этом самый бой, вернее, разнобой часов выбран здесь вовсе не как натуралистическая деталь ночного Парижа. Сквозь разнобой часов у Мопассана прежде всего настойчиво бьет эмоциональный образ "решительной полуночи", а не информация о... "ноль часах".
Желая дать лишь информацию о том, что сейчас двенадцать часов ночи, Мопассан вряд ли прибегнул бы к столь изысканному письму. Совершенно так же без избранного им художественно-монтажного разрешения ему никогда не добиться бы такими простейшими способами столь же ощутимого эмоционального эффекта.
Если говорить о часах и часе, то неизбежно вспоминается пример и из собственной практики. В Зимнем дворце в период съемок "Октября" (1927) мы натолкнулись на любопытные старинные часы: помимо основного циферблата на них еще имелся окаймляющий его венок из маленьких циферблатиков. На каждом из них были проставлены названия городов: Париж, Лондон, Нью-Йорк и т. д. Каждый из этих циферблатов указывал время таким, каким оно бывает в этих городах, - в отличие от времени Москвы или Петербурга, не помню, - которое показывал основной циферблат. Вид часов запомнился. И когда хотелось в картине особенно остро отчеканить историческую минуту победы и установления Советской
72
власти, часы подсказали своеобразное монтажное решение: час падения Временного правительства, отмеченный по петроградскому времени, мы повторили всей серией циферблатов, где этот же час прочитывался лондонским, парижским, нью-йоркским временем. Таким образом этот час, единый в истории и судьбах народов, проступал сквозь все многообразие частных чтений времени, как бы объединяя и сливая все народы в ощущении этого мгновения - победы рабочего класса. Эту мысль подхватывало еще круговое движение самого венка циферблатов, движение, которое, возрастая и ускоряясь, еще и пластически сливало все различные и единичные показания времени в ощущение единого исторического часа...
В этом месте я отчетливо слышу вопрос моих неизбежных противников: "Но как же быть в случае одного непрерывного, длиннометражного куска, где без монтажных перерезок играет актер? Разве игра его не впечатляюща? Разве не впечатляет само исполнение Черкасова
7 или Охлопкова8, Чиркова9 или Свердлина10?" Напрасно думать, что этот вопрос наносит смертельный удар монтажной концепции. Принцип монтажа куда шире. Неверно предполагать, что если актер играет в одном куске и режиссер не режет этот кусок на планы, то построение "свободно от монтажа"! Ничуть.В этом случае монтаж лишь следует искать в другом, а именно... в самой игре актера. О том, насколько "монтажен" принцип его "внутренней" техники, мы скажем дальше. Сейчас же уместно предоставить слово по этому вопросу одному из крупнейших артистов театра и экрана Джорджу Арлиссу
11. В своей автобиографии он пишет:"...Я всегда думал, что для кино следует играть преувеличенно, но я увидел, что самоограничение есть то самое главное, чему должен научиться актер при переходе от театра к кино. Искусство самоограничения и намека на экране есть то, что может быть в полноте изучено наблюдением игры неподражаемого Чарли Чаплина..."
Подчеркнутому изображению (преувеличению) Арлисс противопоставляет самоограничение. Степень этого самоограничения он видит в сведении действия к намеку. Не только преувеличенное изображение действия, но даже изображение действия целиком он отвергает. Вместо этого он рекомендует намек. Но что такое "намек", как не элемент, деталь действия, как не такой "крупный план" его, который в сопоставлении с другими служит определителем для целого фрагмента действия? И слитный действенный кусок игры, таким образом, по Арлиссу, есть не что иное, как сопоставление подобных определяющих крупных планов, сочетаясь
, они родят образ содержания игры, в отличие от изображения этого содержания. И согласно этому и игра актера может быть изобразительно плоской или подлинно образной в зависимости от метода, которым актер73
строит свое действие. Пусть игра будет снята с одной точки, тем не менее - в благополучном случае - сама она будет "монтажной".
О приведенных выше примерах монтажа можно было бы сказать, что второй из них ("Октябрь") все же не рядовой пример монтажа, а первый (Мопассан) иллюстрирует только тот случай, когда один и тот же объект взят с разных точек и в разных приближениях.
Приведем еще пример, уже типичный для кинематографа и вместе с тем такой, где дело идет не об единичном объекте, а об образе целого явления, слагающегося совершенно тем же путем.
Этим примером будет один замечательный "монтажный лист". Здесь из нагромождения частичных деталей и изображений перед нами ощутимо вырастает образ. Пример интересен тем, что это не законченное литературное произведение, а запись великого мастера, в которой он сам
для себя хотел закрепить вставшие перед ним видения "Потопа"."Монтажный лист", о котором я говорю, - это запись Леонардо да Винчи о том, как следует в живописи изображать потоп. Я выбираю именно этот отрывок, так как в нем особенно ярко представлена звуко-зрительная картина потопа, что в руках живописца особенно неожиданно и вместе с тем наглядно и впечатляюще.
"... Пусть будет видно, как темный и туманный воздух потрясается дуновением различных ветров, пронизанных постоянным дождем и градом и несущих то здесь, то там бесчисленное множество вещей, которые сорваны с деревьев вместе с бесчисленными листьями.
Кругом - старые деревья, вырванные с корнем и разбитые яростью ветра.
Виднеются остатки гор, размытых потоками, - остатки, которые обрушиваются в них и загромождают долины.
Эти потоки с шумным клокотанием разливаются и затопляют обширные пространства с их населением.
На вершинах многих гор могут быть заметны различные виды собравшихся вместе животных, испуганных и укрощенных в обществе сбежавшихся людей, мужчин и женщин с детьми.
По полям, покрытым водою, носятся в волнах столы, кровати, лодки и разные приспособления, сделанные в минуту нужды и страха смерти.
На всех этих вещах - женщины, мужчины, дети с воплем и плачем, обезумевшие от неистового ветра, который своими бурными порывами вздувает и волнует воды вместе с телами утопленников.
И нет предмета (более легкого, чем вода), на котором не собрались бы различные животные, примиренные между собою и стоящие вместе с испуганной толпой - волки, лисицы, змеи и другие породы, спасающиеся от смерти.
74
Волны, ударяясь о края плывущих предметов, бьют их ударами различных утонувших тел - ударами, которые убивают тех, в ком еще осталась какая-либо жизнь.
Можно видеть толпы людей, которые с оружием в руках защищают маленькие оставшиеся им клочки земли от львов, волков и других животных, ищущих здесь спасения.
О, какие ужасающие крики оглашают темный воздух, раздираемый яростью громов и молний, которые разрушительно устремляются на все, что попадается на их пути.
О, сколько можно видеть людей, которые закрывают руками уши, чтобы не слышать страшных звуков, производимых в темном воздухе ревом ветров и дождя, грохотанием неба и разрушительным полетом молний!
Другие не только закрывают глаза рукою, но кладут руку на руку, чтобы плотнее закрыться от зрелища жестокого избиения человеческого рода разгневанным богом.
О, какие вопли!
О, сколько людей, обезумевших от страха, бросается со скал, большие ветви больших дубов вместе с уцепившимися за них людьми несутся в воздухе, подхваченные исступленным ветром.
Сколько лодок, опрокинутых вверх дном, - одни целиком, другие в обломках, а из-под них выбиваются люди отчаянными средствами и телодвижениями, свидетельствующими о близости смерти.
Некоторые, потеряв надежду на спасение, лишают себя жизни, не имея сил перенести такого ужаса: одни бросаются с высоких скал, другие душат себя за горло собственными руками, третьи хватают своих детей и... поражают их одним ударом.
Некоторые наносят себе смертельные раны своим собственным оружием, а другие, бросившись на колени, отдают себя на волю бога.
О, сколько матерей плачут над двоими захлебнувшимися детьми, держа их на коленях, поднимая к небу распростертые руки, и голосом, в котором сливаются вопли всех оттенков, ропщут на божий гнев!
Некоторые, стиснув руки со скрещенными пальцами, кусают их до крови и пожирают их, припав грудью к коленям от безмерного, нестерпимого страдания.
Видны стада животных - лошадей, быков, коз, овец, уже окруженных водою, оставшихся, как на островке, на вершинах высоких гор и жмущихся друг к другу.
Те из них, которые находятся посредине, карабкаются наверх друг через друга, вступая в ожесточенную борьбу. Многие умирают от недостатка пищи.
75
И уже птицы стали садиться на людей и других животных, не находя более открытого места, которое не было бы занято живыми существами.
И уже голод - орудие смерти - отнял жизнь у многих животных, и в то же время мертвые тела, подвергшись брожению, поднимаются из глубины водных пучин на поверхность и, ударяясь друг о друга между бьющимися волнами, подобно наполненным воздухом шарам, отскакивают от места своего удара и ложатся на трупы только что умерших.
И над этими проклятиями - воздух, покрытый темными тучами, которые раздираются змеевидным полетом неистовых небесных стрел, сверкающих то здесь, то там в глубинах мрака..." (Цитирую по книге А. Волынского
12 "Леонардо да Винчи", приложение V, стр. 624 - 626).Это описание задумано не в форме поэмы или литературного наброска. Пеладан
13 - издатель французского перевода "Трактата о живописи" Леонардо да Винчи - видит в этом описании неосуществленный проект картины, которая была бы непревзойденным "шедевром пейзажа и стихийной борьбы сил природы". Тем не менее эта запись не хаотична и проведена по признакам, свойственным скорее даже "временным" искусствам, нежели пространственным.Не разбираясь в структуре этого замечательного "монтажного листа", обратим внимание на то, что описание следует совершенно определенному движению. При этом ход этого движения никак не случаен. Движение это идет по определенному порядку и затем в аналогичном строгом обратном порядке возвращается назад к тем же самым исходным явлениям. Начинаясь описанием небес, картина замыкается таким же описанием. В центре - группа людей, их переживания; развитие сцены от небес к людям и от людей обратно к небу идет через группы зверей. Наиболее крупные детали ("крупные планы") встречаются в центре, в кульминации описания (стиснутые, искусанные до крови руки со скрещенными пальцами и т. д.). Совершенно явно проступают элементы, типичные для монтажной композиции.
"Внутрикадровое" содержание отдельных сцен усиливается возрастающей интенсивностью действия.
Рассмотрим то, что можно было бы назвать "темой зверей": звери спасаются; зверей несут потоки волн; звери тонут; звери дерутся с людьми; звери дерутся между собой; трупы потонувших зверей всплывают. Или постепенное исчезновение тверди из-под ног людей, животных и птиц, достигающее кульминации в точке, где птицы вынуждены садиться на людей и животных, не находя ни одного не занятого кусочка земли или дерева. Эта часть записи Леонардо да Винчи лишний раз напоминает нам о том, что размещение деталей в одной плоскости картины тоже предполагает композиционно строгое движение глаза от одного явления к
76
другому. Здесь, конечно, такое движение выражено менее четко, чем в кино, где глаз не может увидеть последовательности деталей в ином порядке, чем тот, который создал монтажер.
Несомненно, однако, что последовательным описанием Леонардо да Винчи преследует задачу не только перечислить детали, но и начертить траекторию будущего движения по поверхности холста. Мы видим здесь блестящий пример того, что в кажущемся статическом одновременном "соприсутствии" деталей неподвижной картины применен совершенно тот же монтажный отбор, та же строгая последовательность сопоставлений деталей, как и во временных искусствах.
Монтаж имеет реалистическое значение в том случае, если отдельные куски в сопоставлении дают общее, синтез темы, то есть образ, воплотивший в себе тему.
Переходя от этого определения к творческому процессу, мы увидим, что он протекает следующим образом. Перед внутренним взором, перед ощущением автора витает некий образ, эмоционально воплощающий для него тему. И перед ним стоит задача - превратить этот образ в такие два-три частных изображения, которые в совокупности и в сопоставлении вызывали бы в сознании и в чувствах воспринимающего именно тот исходный обобщенный образ, который витал перед автором.
Я говорю об образе произведения в целом и об образе отдельной сцены. Совершенно с таким же правом и в том же смысле можно говорить о создании образа актером.
Перед актером стоит совершенно такая же задача - в двух, трех, четырех чертах характера или поступка выразить основные элементы, которые в сопоставлении создадут целостный образ, задуманный автором, режиссером и самим актером.
Что же примечательного в подобном методе? Прежде всего его динамичность. Тот именно факт, что желаемый образ не дается, а возникает, рождается. Образ, задуманный автором, режиссером, актером, закрепленный ими в отдельные изобразительные элементы, в восприятии зрителя вновь и окончательно становится. А это конечная цель и конечное творческое стремление всякого актера.
Красочно писал об этом Горький в письме к Федину (см. "Литературная газета" ? 17 от 26 марта 1938 г.):
"Вы говорите: Вас мучает вопрос "как писать"? Двадцать пять лет наблюдаю я, как этот вопрос мучает людей... Да, да, это серьезный вопрос, я тоже мучился, мучаюсь и буду мучиться им до конца дней. Но для меня вопрос этот формулируется так: так надо писать, чтобы человек, каков бы он ни был, вставал со страниц рассказа о нем с тою силой физической ощутимости его бытия, с тою убедительностью его полуфантастической
77
реальности, с какою вижу и ощущаю его. Вот в чем дело для меня, вот в чем тайна дела..."
Монтаж помогает разрешить эту задачу. Сила монтажа в том, что в творческий процесс включаются эмоции и разум зрителя. Зрителя заставляют проделать тот же созидательный путь, которым прошел автор, создавая образ. Зритель не только видит изобразимые элементы произведения, но он и переживает динамический процесс возникновения и становления образа так, как переживал его автор. Это и есть, видимо, наибольшая возможная степень приближения к тому, чтобы зрительно передать во всей полноте ощущения и замысел автора, передать с
"той силой физической ощутимости", с какой они стояли перед автором в минуты творческой работы и творческого видения.Уместно вспомнить о том, как Маркс определял путь истинного исследования:
"Не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть истинным. Исследование истины само должно быть истинно, истинное исследование - это развернутая истина, разъединенные члены которой соединяются в результате" (К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т. I, стр. 113).
Сила этого метода еще в том, что зритель втягивается в такой творческий акт, в котором его индивидуальность не только не порабощается индивидуальностью автора, но раскрывается до конца в слиянии с авторским смыслом так, как сливается индивидуальность великого актера с индивидуальностью великого драматурга в создании классического сценического образа. Действительно, каждый зритель в соответствии со своей индивидуальностью, по-своему, из своего опыта, из недр своей фантазии, из ткани своих ассоциаций, из предпосылок своего характера, нрава и социальной
принадлежности творит образ по этим точно направляющим изображениям, подсказанным ему автором, непреклонно ведущим его к познанию и переживанию темы. Это тот же образ, что задуман и создан автором, но этот образ одновременно создан и собственным творческим актом зрителя.Казалось бы, что может быть определеннее и яснее почти научной записи деталей "Потопа", как они проходят перед нами в "монтажном листе" Леонардо да Винчи? И вместе с тем до какой степени личны и индивидуальны каждый из тех конечных образов, которые возникают у читающих, это общее для всех перечисление и сопоставление деталей. Они столь же схожи и вместе с тем столь же различны, как роль Гамлета или Лира, сыгранная разными актерами разных стран, эпох и театров.
Мопассан предлагает каждому читателю одно и то же монтажное построение боя часов. Он знает, что именно такое построение вызовет в ощущениях не информацию о времени ночи, а переживание значительно-
78
сти часа полуночи. Каждый зритель слышит одинаковый бой часов. Но у каждого зрителя родится свой образ, свое представление полуночи и ее значительности. Все эти представления образно индивидуальны, различны и вместе с тем тематически едины. И каждый образ подобной полуночи для каждого зрителя-читателя одновременно и авторский, но столько же
и свой собственный, живой, близкий, "интимный".Образ, задуманный автором, стал плотью от плоти зрительского образа... Мною - зрителем - создаваемый, во мне рождающийся и возникающий. Творческий не только для автора, но творческий и для меня, творящего зрителя.
Вначале мы говорили о волнующем рассказе в отличие от протокольно-логического изложения фактов.
Протоколом изложения было бы не монтажное построение во всех приведенных выше примерах. Это было бы описание Леонардо да Винчи, сделанное без учета отдельных планов, расположенных по строю рассчитанной траектории глаза на поверхности будущей картины. Это был бы неподвижный циферблат часов, отмечающий время свержения Временного правительства, в фильме "Октябрь". Это была бы у Мопассана короткая информация о
том, что пробило двенадцать часов. Иначе говоря, это были бы документальные сообщения, не поднятые средствами искусства до подлинной взволнованности и эмоционального воздействия. Все они были бы, выражаясь кинематографически, изображениями, снятыми с одной точки. А в том виде, как они сделаны художниками, они представляют собой образы, вызванные к жизни средствами монтажного построения.И сейчас мы можем сказать, что именно монтажный принцип, в отличие от изобразительного, заставляет творить самого зрителя и именно через это достигает той большой силы внутренней творческой взволнованности
* у зрителя, которая отличает эмоциональное произведение от информационной логики простого пересказа в изображении событий.Вместе с этим обнаруживаем, что монтажный метод в кино есть лишь частный случай приложения монтажного принципа вообще, принципа, который в таком понимании выходит далеко за пределы области склейки кусков пленки между собой. [...]
__________
*Совершенно очевидно, что тема как
таковая способна волновать и независимо от
того, в каком виде она подана. Короткое газетное
сообщение о победе республиканцев под
Гвадалахарой14 волнует больше, чем средствами
искусства доводить уже "в себе" волнующую
тему или сюжет до максимальных степеней
воздействия. При этом совершенно также очевидно,
что на этом поприще монтаж как таковой вовсе не
исчерпывающее, хотя и очень могучее средство. (Прим.
С. М. Эйзенштейна).
79
*
* *Выше мы не напрасно сравнивали в монтажном методе творчество зрителя с творчеством актера. Ибо как раз здесь в первую очередь происходит встреча метода монтажа с самой, казалось бы, неожиданной областью - с областью внутренней техники актера и с формами того внутреннего процесса, в котором у актера родится живое чувство, с тем чтобы проступать в правдивых его действиях на сцене или на экране.
По вопросам актерской игры создан ряд систем и доктрин. Вернее, их можно свести к двум-трем системам и разным их ответвлениям. Ответвления эти различаются не только терминологией, номенклатурой, но главным образом тем, что представители разных течений видят ведущую роль и ставят акценты внимания на различных узловых пунктах актерской техники
15. Иногда та или иная школа совсем почти забывает целое звено внутрипсихологического процесса образотворчества. Иногда, наоборот, выдвигает на первое место нерешающее звено. Даже внутри такого монолита, как метод Художественного театра, имеются при всей общности основных предпосылок самостоятельные течения в его истолковании.Я не собираюсь вдаваться в оттенки существенных или номенклатурных отличий в методах работы с актером. Я остановлюсь лишь на тех положениях внутренней техники, которые в основных своих предпосылках сейчас входят обязательно в технику работы актера во всех тех случаях, когда она действительно достигает результатов,
то есть захватывает зрителя. Эти положения всякий актер или режиссер способен в конечном счете вычитать из собственной "внутренней" практики, если ему удастся на мгновение остановить этот процесс и вглядеться в него. Актерская и режиссерская техника в этой части проблемы также неотличима, поскольку и режиссер какой-то своей частью также является актером. Из наблюдений за этой "актерской долей" моего режиссерского опыта я постараюсь на конкретном примере обрисовать интересующую нас внутреннюю технику. При этом меньше всего стремлюсь сказать в этом отношении что-либо новое.Допустим, что передо мной стоит задача сыграть утро человека, проигравшего накануне в карты казенные деньги. Предположим, что сцена полна всяческих перипетий, куда могут войти и разговор с ничего не подозревающей женой, и сцена с дочерью, пытливо поглядывающей на отца, замечая в его поведении какие-то странности, и сцена боязливого ожидания звонка по телефону с вызовом растратчика к отчету и т. п.
80
Пусть целый ряд этих сцен постепенно ведет растратчика к попытке застрелиться, и актеру нужно проиграть последний фрагмент сцены, когда в нем созревает сознание того, что остался только один исход - самоубийство, и его рука начнет почти автоматически, не глядя, шарить по ящикам письменного стола
в поисках браунинга...Я думаю, что сегодня вряд ли найдется культурный актер, который стал бы в этой сцене "играть чувство" человека перед самоубийством. И каждый из нас, вместо того чтобы пыжиться и выдумывать, что ему здесь делать, поступит иначе. Он заставит соответствующее самочувствие и соответствующее чувство охватить себя. И верно почувствованное состояние, ощущение, переживание немедленно "проступит" в верных и эмоционально правильных движениях, действиях, поступках. Так находятся отправные элементы правильного поведения, правильного в том смысле, что оно соответствует подлинно пережитому ощущению, чувству.
Последующая стадия работы заключается в композиционной разработке этих элементов, очистке их от попутного и случайного, в доведении этих предпосылок до предельной степени выразительности. Такова последующая стадия. Но нас сейчас занимает предыдущая стадия этого процесса.
Нас интересует та часть этого процесса, в которой происходит охват актера чувством. Как это достигается и "как это делается"? Мы уже сказали, что пыжиться, изображая чувство, мы не будем. Вместо этого мы пойдем по общеизвестному и почти общеупотребительному пути.
Он состоит в том, что мы свою фантазию заставляем рисовать перед нами ряд конкретных картин или ситуаций, соответствующих нашей теме. Совокупность этих воображаемых картин вызывает в нас ответную искомую эмоцию, чувство, ощущение, переживание. При этом материал этих картин, рисуемых фантазией, будет совершенно различен в зависимости от того, каковы особенности образа и характера того человека, которого именно сейчас играет актер.
Допустим, что для характера нашего растратчика типичной чертой окажется боязнь общественного мнения. Тогда его пугают в первую очередь не столько угрызения совести, чувство виновности или будущие тяготы тюремного заключения, сколько то, что скажут люди, и т. п.
В этом случае перед человеком, попавшим в такое положение, будут в первую очередь рисоваться страшные последствия растраты именно в этом направлении.
Именно они, именно их сочетание станет приводить человека к той степени отчаяния, при которой он прибегает к роковому концу.
В реальной действительности именно так и происходит. Испуг перед сознанием ответственности лихорадочно начнет рисовать картины послед-
81
ствий. И совокупность этих картин, обратно воздействуя на чувства, будет усиливать их еще больше, доводя растратчика до предельных степеней ужаса и отчаяния.
Совершенно таков же процесс, которым актер станет приводить себя в то же самое состояние в условиях театральной действительности. Разница заключается только в том, что здесь он произвольно заставит свою фантазию рисовать себе те же самые картины последствий, которые в реальной действительности фантазия рисовала бы сама и непроизвольно.
Как привести фантазию к тому, чтобы она делала это же по поводу воображаемых и предполагаемых обстоятельств, не входит сейчас в задачи моего изложения. Я описываю процесс с того момента, когда фантазия уже рисует необходимое по ситуации. Заставлять себя чувствовать и переживать эти предвидимые последствия
актеру не придется. Чувство и переживание, как и вытекающие из них действия, возникнут сами, вызванные к жизни теми картинами, которые перед ним нарисовала его фантазия. Живое чувство будет вызвано самими картинами, совокупностью этих картин и их сопоставлением. Ища подобных путей к тому, чтобы возникло нужное чувство, я нарисую перед собой бесчисленное множество ситуаций и картин, где в разных аспектах будет проступать та же тема.Выберем из их многообразия для примера две первые попавшиеся ситуации. При этом, не обдумывая их, постараемся записать их такими, какими они сейчас проносятся передо мною. "Я - преступник в глазах бывших друзей и знакомых. Люди чуждаются меня. Я вытолкнут из их среды" и т. д. Чтобы в чувствах ощутить все это, я, как сказано, рисую перед собой конкретные ситуации, реальные картины того, что ожидает меня. Пусть первая окажется в зале суда во время слушания моего дела. Пусть вторая будет моим возвращением к жизни после отбытого наказания.
Попробуем записать во всей пластической наглядности те многочисленные фрагментарные ситуации, которые мгновенно перед нами набрасывает наша фантазия. У каждого актера они возникают по-своему.
Здесь я перечисляю первое попавшееся мне на ум, когда я ставлю перед собой подобную задачу.
Зал суда. Разбирательство моего дела. Я на скамье подсудимых. Зал полон людей, знавших и знающих меня. Ловлю на себе взгляд моего соседа по дому. Тридцать лет живем рядом. Он замечает, что я поймал его взгляд. Глаза его с деланной рассеянностью скользнули мимо меня. Скучающим взглядом он смотрит в окно... Вот другой зритель в зале суда. Соседка с верхнего этажа. Встретившись со мной глазами, она испуганно смотрит вниз, при этом чуть-чуть краешком взгляда наблюдая за мной... Демонстративно вполоборота поворачивается ко мне спина моего обычно
82
го партнера в биллиард... А вот стеклянными глазами навыкат нагло смотрят на меня в упор жирный хозяин биллиардной и его жена... Я съеживаюсь и гляжу себе под ноги. Я никого не вижу, но слышу вокруг себя шепот порицания и присвисты голосов. И удар за ударом падают слова обвинительного заключения...
С не меньшим успехом я представляю себе и другую сцену - сцену моего возвращения из тюрьмы.
Стук закрывающихся ворот тюрьмы, когда я выпущен на улицу... Недоумевающий взгляд служанки, перестающей протирать окно в соседнем доме, когда я возвращаюсь на свою улицу... Новое имя на дверной табличке моей бывшей квартиры... Пол заново перекрашен, и у двери другой половичок... Соседняя дверь открывается. Какие-то новые люди подозрительно и любопытно смотрят из-за двери. К ним жмутся дети: они инстинктивно пугаются моего вида. Снизу, задрав нос из-под кривых очков, неодобрительно глядит из пролета лестницы старый швейцар, который меня еще помнит по прежним временам... Три-четыре пожелтевших письма на мое имя, пришедшие до того, как мой позор стал общеизвестным... В кармане звенят две-три монеты... А затем - двери бывших знакомых закрываются перед моим носом... Ноги робко поднимают меня по лестнице к бывшему другу и, не доходя двух ступенек, сворачивают обратно. Поспешно поднятый воротник прохожего, который узнал меня, и т. д.
Так примерно выглядит честная запись того, что роится и мелькает в сознании и чувствах, когда как режиссер или как актер я эмоционально охватываю предложенную ситуацию.
Мысленно поставив себя в первую ситуацию, мысленно же пройдя через вторую, проделав это же еще с двумя-тремя аналогичными ситуациями других оттенков, я постепенно прихожу в реальное ощущение того, что меня ожидает впереди, и отсюда - к переживанию безысходности и трагичности того положения, в котором я нахожусь сейчас. Сопоставление деталей первой ситуации родит один оттенок этого чувства. Сопоставление деталей второй ситуации - другой. Оттенок чувства складывается с оттенком, и из трех-четырех оттенков уже вырастает в полноте образ безысходности, неразрывной с острым эмоциональным переживанием самого чувства этой безысходности.
Так, не пыжась играть самое чувство, удается вызвать его путем набора и сопоставления сознательно подбираемых деталей и ситуаций.
Здесь совершенно не важно, совпадает или не совпадает описание этого процесса, каким я его дал выше, по всем своим оттенкам с существующими школами актерской техники. Здесь важно то, что этап, подобный тому, который я описываю выше, неизбежно существует на путях формирования и усиления эмоций, будь то в жизни, будь то в технике
83
творческого процесса. В этом может нас убедить малейшее самонаблюдение как в условиях творчества, так и в обстановке реальной жизни.
При этом важно, что творческая техника воссоздает процесс таким, каким он протекает в жизни, применительно к тем особым обстоятельствам, которые перед ним ставит искусство.
Совершенно очевидно, что мы здесь имеем дело никак не со всей системой актерской техники, а только с одним лишь ее звеном.
Мы здесь, например, совсем не коснулись природы самой фантазии, техники ее "разогревания" или того процесса, которым нашей фантазии удается рисовать нужные по теме картины. Недостаток места не дает возможности рассмотреть эти звенья, хотя и их разбор не в меньшей степени подтверждает правильность наших утверждений. Однако ограничимся пока только этим, но будем твердо помнить, что разбираемое звено процесса занимает в технике актера не более места... чем монтаж в системе выразительных средств кинематографа. Правда, - и не меньше
.*
* *Но... позвольте, чем же обрисованная выше картина из области внутренней техники актера практически и принципиально по методу отличается от того, что мы расшифровали выше как самую суть кинематографического монтажа? Отличие здесь в сфере приложения, но не в сущности метода.
Здесь речь идет о том, как заставить возникнуть живое чувство и переживание внутри актера.
Там речь шла о том, как заставить эмоционально переживаемый образ возникать в чувствах зрителя.
Как здесь, так и там из статических элементов - данных, придуманных - и из сопоставления их друг с другом рождаются динамически возникающая эмоция, динамически возникающий образ.
Как мы видим, все это принципиально ничем не отличается от того, что делает кинематографический монтаж: мы видим то же самое острое конкретизирование темы чувства в определяющие детали и ответный эффект сопоставления деталей, уже вызывающий самое чувство.
Что же касается самой природы этих слагающих "видений" перед "духовным взором" актера, то по пластическому (или звуковому) своему облику они совершенно однородны с теми особенностями, которыми отличаются кинокадры. Недаром мы выше называли эти "видения" фрагментами и деталями, понимая под этим отдельные картины, взятые не в целом, а в своих решающих и определяющих частностях. Ибо если мы вчитаемся в ту почти автоматическую запись наших "видений", которую мы постарались зафиксировать с фотографической точностью психологического до-
84
кумента, то мы увидим, что сами эти картинки так же последовательно кинематографичны, как разные планы, как разные размеры, как разные вырезы в монтажных кусках.
Действительно, один кусок - это прежде всего отворачивающаяся спина, то есть явный "вырез" из фигуры. Две головы с выпученными глазами, глядящие в упор, в отличие от опущенных ресниц, откуда украдкой уголком глаза за мной следит соседка, - явная разница размера кадров. В другом месте это явные "крупные планы" новой таблички на дверях и трех конвертов. Или по другому ряду: звуковой общий план шепчущихся посетителей зала суда, в отличие от
крупного плана звука нескольких монет, звенящих у меня в кармане, и т. д. и т. п. Умозрительный "объектив" также работает по-разному - укрупненными или уменьшенными планами; он поступает совершенно так же, как это делает кинообъектив, вырезывающий "слагающие изображения" строгой рамкой кинокадров. Достаточно поставить номера перед каждым из вышеприведенных фрагментов, для того чтобы получить типично монтажное построение.Таким образом окажется раскрытым и секрет того, как в действительности создаются монтажные листы, по-настоящему эмоционально увлекательные, а не горохом сыплющие одурь смены крупных, средних и общих планов!
Основная закономерность метода остается верной для обеих областей. Задача состоит в том, чтобы, творчески разложив тему в определяющие изображения, затем эти изображения в их сочетании заставить вызывать к жизни исходный образ темы. Процесс возникновения этого образа у воспринимающего неразрывен с переживанием темы его содержания. Совершенно так же неразрывен с таким же острым переживанием и труд режиссера, когда он пишет свой монтажный лист. Ибо только подобный путь единственно способен подсказать ему решающие изображения, через которые действительно и засверкает в восприятии цельность образа темы.
В этом секрет той эмоциональности изложения (в отличие от протокольности информации), о которой мы говорили вначале и которая так же свойственна живой игре актера, как и живому монтажному кинематографу.
С подобным же роем картин, строго отобранных и сведенных к предельной лаконике двух-трех деталей, мы непременно будем иметь дело в лучших образцах литературы.
Возьмем "Полтаву" Пушкина. Остановимся на сцене казни Кочубея. В этой сцене тема "конца Кочубея" особенно остро выражена через образ "конца казни Кочубея". Сам же образ конца казни возникает и возрастает
85
из сопоставления тех "документально" взятых изображений из трех деталей, которыми заканчивается казнь.
Уж поздно, - кто-то им сказал
И в поле перстом указал.
Там роковой намост ломали,
Молился в черных ризах поп,
И на телегу подымали
Два казака дубовый гроб.
Трудно найти более сильный подбор деталей, чтобы во всем ужасе дать ощущение образа смерти, чем это сделано в финале сцены казни.
Тот факт, что настоящим методом разрешается и достигается именно эмоциональность, подтверждается любопытными примерами. Возьмем из "Полтавы" Пушкина другую сцену, где Пушкин магически заставляет возникнуть перед читателем образ ночного побега во всей его красочности и эмоциональности:
...Никто не знал, когда и как
Она сокрылась. Лишь рыбак
Той ночью слышал конский топот,
Казачью речь и женский шепот...
Три куска:
1. Конский топот.
2. Казачья речь.
3. Женский шепот.
Опять-таки три предметно выраженных (в звуке!) изображения слагаются в объединяющий их эмоционально переживаемый образ, в отличие от того, как воспринимались бы эти три явления, взятые вне всякой связи друг с другом. Этот метод применяется исключительно с целью вызвать нужное эмоциональное переживание в читателе. Именно переживание, так как информация о том, что Мария исчезла, самим же автором
дана строчкой выше ("...Она сокрылась. Лишь рыбак..."). Сообщив о том, что она сокрылась, автор хочет, чтобы это еще было пережито читателем. И для этого он сразу же переходит на монтаж: тремя деталями, взятыми из элементов побега, он заставляет монтажно возникнуть образ ночного побега и через это в чувствах его пережить.К трем звуковым изображениям он присоединяет четвертое. Он как бы ставит точку. И для этого четвертое изображение он выбирает из другого измерения. Он дает его не звуковым, а зрительно-пластическим "крупным планом".
86
Монтаж 1938...И утром след осьми подков
Был виден на росе лугов.
Так "монтажен" Пушкин, когда он создает образ произведения. Но совершенно так же "монтажен" Пушкин и тогда, когда он имеет дело с образом человека, с пластической обрисовкой действующих лиц. И в этом направлении Пушкин поразительно умелым комбинированием различных аспектов (то есть "точек съемки") и разных элементов (то есть кусков изображаемых предметов, выделяемых обрезом кадра) достигает потрясающей реальности в своих обрисовках. Человек действительно возникает как осязаемый и ощущаемый со страниц пушкинских поэм.
Но в случаях, когда "кусков" уже много, Пушкин в отношении монтажа идет еще дальше. Ритм, строящийся на смене длинных фраз и фраз, обрубленных до одного слова, заключает в "монтажном построении" еще и динамическую характеристику образа. Ритм как бы закрепляет темперамент изображаемого человека, дает динамическую характеристику действий этого человека.
Наконец, у Пушкина можно поучиться еще и последовательности в подаче и раскрытии облика и характеристики человека. Лучшим примером в этом направлении остается описание Петра в "Полтаве". Напомним его:
I. ...Тогда-то свыше вдохновенный
II. Раздался звучный глас Петра:
III. "За дело, с богом!" Из шатра,
IV. Толпой любимцев окруженный,
V. Выходит Петр. Его глаза
VI. Сияют. Лик его ужасен.
VII. Движенья быстры. Он прекрасен.
VIII. Он весь, как божия гроза.
IX. Идет. Ему коня подводят.
X. Ретив и смирен верный конь.
XI. Почуя роковой огонь,
XII. Дрожит. Глазами косо водит
XIII. И мчится в прахе боевом,
XIV. Гордясь могущим седоком.
Мы занумеровали строчки. Теперь перепишем этот же отрывок в порядке монтажного листа, нумеруя отдельные кинематографические "планы" так, как они даны Пушкиным.
1. Тогда-то свыше вдохновенный раздался звучный
глас Петра: "За дело, с богом!"
2. Из шатра, толпой любимцев окруженный,
3. Выходит Петр.
87
4. Его глаза сияют.
5. Лик его ужасен.
6. Движенья быстры.
7. Он прекрасен.
8. Он весь, как божия гроза.
9. Идет.
10. Ему коня подводят.
11. Ретив и смирен верный конь.
12. Почуя роковой огонь, дрожит.
13. Глазами косо водит
14. И мчится в прахе боевом, гордясь могущим
седоком.
Количество строк и "планов" оказалось одинаковым - и тех и других по четырнадцать. Но при этом почти нет внутреннего совпадения разбивки на строки и разбивки на планы, на все четырнадцать случаев они встречаются только два раза: (VIII - 8 и Х - 11). При этом нагрузка плана колеблется от двух полных строк (1,14) вплоть до случая одного слова (9).
Это очень поучительно для работников кино, и звукового прежде всего.
Посмотрим, как монтажно "подан" Петр:
1, 2, 3 - это великолепный пример значительной подачи действующего лица. Здесь совершенно явны три ступени, три этапа в его появлении.
1. Петр еще не показан, а подан сперва только звуком (голоса).
2. Петр вышел из шатра, но его еще не видно. Видна лишь группа его любимцев, выходящих с ним из шатра.
3. Наконец, только в третьем куске выясняется, что выходит Петр. Дальше: сияющие глаза как основная деталь в его облике (4). После этого - все лицо (5). И только тогда уже вся его фигура (вероятно, по колени) для того, чтобы показать его движения, их быстроту и резкость. Ритм и характеристика движений тут выражены "порывистостью", столкновением коротких фраз. Показ фигуры в рост дается лишь в седьмом куске, и уже не протокольно, а красочно (образно): "Он прекрасен". В следующем кадре это общее определение усиливается конкретным сравнением: "Он весь, как божия гроза". Так лишь на восьмом куске Петр раскрывается во всей своей (пластической) мощности. Этот восьмой кусок, видимо, дает фигуру Петра во весь рост, решенную всеми средствами образной выразительности кадра с соответствующей компоновкой кроны облачных небес над ним, шатра и людей вокруг него и у его ног. И после этого широкого "станкового" плана поэт сразу же возвращает нас в сферу движения и действия одним словом: "Идет" (9). Трудно четче схватить и
88
запечатлеть наравне с сияющими глазами (4) вторую решающую характерность: шаг Петра. Это краткое, лаконическое "Идет" целиком передает ощущение того громадного, стихийного, напористого шага Петра, за которым трудно угнаться всей его свите. Так же мастерски схвачен и запечатлен этот "шаг Петра" В. Серовым в его знаменитой картине
16, изображающей Петра на стройке Петербурга.Я думаю, что вычитанная нами из текста последовательность и характеристика кадров выхода Петра правильна именно в том виде, как мы ее изложили выше. Во-первых, подобная "подача" действующих лиц вообще характерна для манеры Пушкина. Взять хотя бы другой блестящий пример совершенно такой же "подачи" балерины Истоминой (в "Евгении Онегине"). Во-вторых, самый порядок слов абсолютно точно определяет порядок последовательного видения тех элементов, которые в конце концов собираются в образ действующего лица, его пластически "раскрывают".
2, 3 строились бы совсем иначе, если бы в тексте стояло не:
...Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр...
а стояло бы:
Петр выходит,
Толпой любимцев окруженный,
Из шатра...
Впечатление от выхода, который начинался бы с Петра, но не приводил бы к Петру, было бы совершенно иное. Это и есть образец выразительности, достигаемой чисто монтажным путем и чисто монтажными средствами. Для каждого случая это будет различное выразительное построение. И это выразительное построение каждый раз предпишет и предначертает тот "единственно возможный порядок" "единственно возможных слов", о котором Лев Толстой писал в статье "Что такое искусство?".
Совершенно так же последовательно построены и звук и слова Петра (см. кусок 1).
Там ведь не сказано:
"За дело, с богом!" -
Раздался голос Петра, звучный и
вдохновенный свыше...
89
Там сказано:
Тогда-то свыше вдохновенный Раздался звучный
глас Петра:
"За дело, с богом!"
И, строя выразительность возгласа, мы должны передавать его так, чтобы последовательно раскрывались сперва вдохновенность его, затем его звучность, потом мы должны в нем узнать голос именно Петра, и тогда, наконец, разобрать, что этот вдохновенный, звучный голос Петра произносит ("За дело, с богом!"). Очевидно, что в "постановке" такого фрагмента первые требования легко бы разрешились на какой-то предшествующей фразе возгласа, доносящейся из шатра, где самые слова были бы непонятны, но где уже звучали бы вдохновенность и звучность, из которых мы уже потом могли бы узнать характерность голоса Петра.
Как видим, все это имеет громадное значение для проблемы обогащения выразительных средств кино.
Этот пример является образцом и для самой сложной звукозрительной композиции
17. Казалось, что в этой области почти не сыскать "наглядных пособий" и что для накопления опыта остается лишь изучать сочетания музыки и действия в опере или балете!Пушкин учит нас даже тому, как поступать, чтобы отдельные зрительные кадры не совпадали механически с членениями внутри строя музыки.
Сейчас мы остановимся только на самом простом случае - на несовпадении тактовых членений (в данном случае строк!) с концами, началами и протяженностью отдельных пластических картин. В грубой схеме это будет выглядеть так:
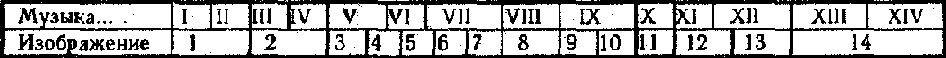
Верхний ряд занимают четырнадцать стихов строфы, нижний ряд -четырнадцать изображений, которые они несут.
Схема отмечает соответствующее размещение их по строфе. На этой схеме совершенно наглядно видно, какое изысканное контрапунктическое письмо звукозрительных членений применяет Пушкин для достижения замечательных результатов в разнообразном отрывке. За исключением случаев VIII - 8 и Х - 11, мы в остальных двенадцати ни разу не встречаемся даже с одинаковыми сочетаниями стихов и соответствующих им изображений.
90
При этом изображение и стих совпадают не только по размеру, но и по порядковому месту всего лишь один раз - это VIII и 8. Это не случайно. Этим совпадением членения музыки и членения изображения отмечен самый значительный кусок внутримонтажной композиции. Он действительно единственный в своем роде: это тот самый восьмой кусок, которым во всей полноте развернут и раскрыт облик Петра. Именно этот стих является также единственным образным сравнением ("Он весь, как божия гроза"). Мы видим, что прием совпадения членений изображения и музыки использован Пушкиным для наиболее сильного ударного случая. Так же поступил бы и опытный монтажер - подлинный композитор звукозрительных сочетаний.
В поэзии перенос картины-фразы со строчки в строчку называется "enjambement".
"...Когда метрическое членение не совпадает с синтаксическим, появляется так называемый "перенос" ("enjambement")... Наиболее характерным признаком переноса является присутствие внутри стиха синтаксической паузы, более значительной, чем в начале или в конце того же стиха..." - пишет Жирмунский в "Введении в метрику"
18 (стр. 173 - 174).Тот же Жирмунский приводит одно из композиционных истолкований этого типа построений, не лишенное известного интереса и для наших звукозрительных сочетаний: "...Всякое несовпадение синтаксического членения с метрическим есть художественно рассчитанный диссонанс, который получает разрешение там, где после ряда несовпадений синтаксическая пауза, наконец, совпадает с границей ритмического ряда..." Это хорошо видно на особо резком примере из стихотворения Полонского
19, которое приводит Ю. Тынянов в "Проблемах стихотворного языка"20, стр.65.Гляди: еще цела за нами
Та сакля, где, тому назад
Полвека, жадными глазами
Ловил я сердцу милый взгляд.
Напомним о том, что метрическое членение, не совпадающее с синтаксическим, как бы повторяет взаимоотношение, имеющее место между стопою и словом, последнее явление гораздо более распространенное, чем в случае "enjambement". "...Обычно границы слов не совпадают с границами стоп. Старинные теоретики русского стиха видели в этом одно из условий ритмического благозвучия..." (Жирмунский, "Введение в метрику", стр. 168). Здесь не обычным, а редкостью является совпадение. И тут как раз совпадения рассчитаны на неожиданные и особые эффекты. Например, у Бальмонта
21 "Челн томленья":91
Вечер. Взморье. Вздохи
ветра.
Величавый возглас волн.
Буря близко. В берег бьется
Чуждый чарам черный челн...
"Enjambement" в русской поэзии представлен особенно богато у Пушкина. В английской - у Шекспира и у Мильтона22, а за ним у Томсона23 (XVIII век), у Китса24 и Шелли25. У французов - в поэзии Виктора Гюго и Андре Шенье26. Вчитываясь в подобные примеры и анализируя в каждом отдельном случае побудительные предпосылки и выразительные эффекты каждого, мы необычайно обогащаемся опытом звуко-зрительных сораэмещений образов в звукомонтаже.
Обычно начертание поэмы придерживается записи строф, разделенных по метрическому членению - по стихам. Но мы имеем в поэзии и мощного представителя другого начертания - Маяковского. В его "рубленой строке" расчленения ведутся не по границам стиха, а по границам "кадров".
Маяковский делит не по стиху:
Пустота. Летите,
В звезды врезываясь.
а делит по "кадрам":
Пустота...
Летите,
В звезды врезываясь.
При этом Маяковский разрубает строчку так, как это делал бы опытный монтажер, выстраивающий типичную сцену столкновения ("звезд" и "Есенина"). Сперва - один. Потом - другой. Затем столкновение того и другого.
1.
Пустота (если снимать этот "кадр", то в нем следует взять звезды так, чтобы подчеркнуть пустоту и вместе с тем дать ощутить их присутствие).2.
Летите.3. И только в третьем куске показано содержание первого и второго кадра в обстановке столкновения.
Такой же набор изысканных переносов мы можем найти и у Грибоедова. Ими изобилует "Горе от ума". Например
:Лиза:
92
Ну, разумеется, к тому б И
деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он балы;
Вот, например, полковник Скалозуб:
И золотой мешок, и метит в генералы... (I акт)
или Чацкий
Вы что-то не веселы стали;
Скажите, отчего?
Приезд не в пору мой?
Уж Софье Павловне какой
Не приключилось ли печали?..(II акт)
Но "Горе от ума" для монтажера еще интереснее в другом отношении. И этот интерес возникает тогда, когда начинаешь сличать рукописи и разные издания комедии. Дело в том, что более поздние издания отличаются от первоначальных не только вариантами внутри текста, но в первую очередь измененной пунктуацией при сохранении тех же слов и их порядка. Более поздние издания во многих случаях отступили от оригинальной авторской пунктуации, и возвращение к этой пунктуации первых изданий оказывается чрезвычайно поучительным в монтажном отношении.
Сейчас установилась такая традиция типографского набора и соответственной читки:
Когда избавит нас творец
От шляпок их, чепцов, и шпилек, и булавок,
И книжных и бисквитных лавок...
Между тем как в оригинальной трактовке это место у Грибоедова задумано так:
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек!! и булавок!!!
И книжных и бисквитных лавок!!!..
Совершенно очевидно, что произнесение текста в обоих случаях совершенно разное. Но мало того: как только мы постараемся представить это перечисление в зрительных образах, в зрительных кадрах, мы сразу же увидим, что негрибоедовское начертание понимает шляпки, чепцы, шпильки и булавки как один общий план, где вместе изображены все эти
93
предметы. Между тем как в оригинальном грибоедовском изложении каждому из этих атрибутов туалета отведен свой крупный план и перечисление их дано монтажно сменяющимися кадрами.
Очень характерны здесь двойные и тройные восклицательные знаки. Они как бы говорят о возрастающем укрупнении планов. Укрупнение, которое в читке стиха достигается голосовыми и интонационными усилениями, в кадрах выразилось бы увеличивающимися размерами деталей.
Тот факт, что мы позволяем себе здесь говорить о размерах видимых предметов перечисления, вполне законен. Этому вовсе не противоречит то обстоятельство, что мы здесь имеем дело не с пушкинским описательным материалом, вроде тех случаев, что мы разбирали выше. Здесь в словах Фамусова не описание картин и не авторское изложение тех последовательных частностей, в которых он хочет, чтобы мы постепенно воспринимали, например, Петра в "Полтаве". Здесь мы имеем дело с перечислением, которое произносит возмущенное действующее лицо. Но есть ли здесь принципиальная разница? Конечно, нет! Ведь для того чтобы с подлинной яростью обрушиваться на все эти шляпки, шпильки, чепцы и булавки, актер в момент произнесения тирады должен ощущать их вокруг себя и перед собою - видеть их! При этом он может видеть их перед собой и как общую
массу (общим планом), но может видеть их нагромождение в виде резкой "монтажной" смены каждого атрибута в отдельности. Да еще в возрастающем укрупнении, заданном двойными и тройными восклицательными знаками. И уже тут выяснение того, как видеть эти предметы перечисления - общим планом или монтажно, - вовсе не праздная игра ума: тот или иной порядок видения этих предметов перед собой и вызовет ту или иную степень усиления интонации. Это усиление будет не нарочно сделанным, а естественно отвечающим на степень интенсивности, с которой фантазия рисует предмет перед актером.На этом же отрывке совершенно наглядно видно, до какой степени сильнее и более выразительно монтажное построение, чем построение, данное "с одной точки", как оно дано в позднейшей транскрипции.
Любопытно, что таких примеров у Грибоедова очень много. При этом отличие старой транскрипции всегда сводится к разбивке "общего" плана на "крупные", а не наоборот.
Так, например, столь же неверна традиционная транскрипция:
Для довершенья чуда
Раскрылся пол и вы оттуда
Бледны, как смерть...
Вместо этого Грибоедов пишет:
94
Для довершенья чуда
Раскрылся пол и вы оттуда
Бледны! Как смерть!
Еще более неожиданно и замечательно это в таком, ставшем трафаретным, случае чтения, как:
И прослывет у них мечтателем опасным. Оказывается, что Грибоедов пишет это иначе:
И прослывет у них мечтателем! Опасным!
В обоих случаях мы имеем дело с чисто монтажным явлением. Вместо маловыразительной картины фразы "бледны, как смерть" мы имеем дело с двумя картинами возрастающей силы: 1) "бледны!" и 2) "как смерть!" Совершенно то же самое и во втором случае, где тема опять-таки идет, возрастая от куска к куску.
Как видим, эпоха Грибоедова и Пушкина весьма остромонтажна и, не прибегая к манере монтажной расстановки строк так, как это делает Маяковский, Грибоедов, например, по внутреннему монтажному ощущению во многом перекликается с величайшим поэтом нашей современности.
Занятно, что здесь исказители Грибоедова проделали обратный путь тому, что делает сам Маяковский от варианта к варианту стихотворения -все по той же монтажной линии. Так обстоит дело, например, с одним куском стихотворения "Гейнеобразное", сохранившегося в двух стадиях работы над ним.
Первоначальная редакция:
...Вы низкий и подлый самый
Пошла и пошла ругая...
Окончательный текст:
"...Ты самый низкий,
Ты подлый самый..."
И пошла,
и пошла,
и пошла, ругая...
(цитирую по В. В. Тренину, "В мастерской стиха Маяковского").
95
В первой редакции максимум два кадра. Во второй - явных пять.
"Укрупнение" во второй строке против первой и три куска на одну и ту же тему в строках третьей, четвертой и пятой.
Как видим, творчество Маяковского очень наглядно в этом монтажном отношении. Но вообще же в этом направлении интереснее обращаться к Пушкину, потому что он принадлежит к периоду, когда о "монтаже" как таковом не было еще и речи. Маяковский же целиком принадлежит к тому периоду, когда монтажное мышление и монтажные принципы широко представлены во всех видах искусства, смежных с литературой: в театре, в кино, в фотомонтаже
и т.д. Поэтому острее, интереснее и, пожалуй, наиболее поучительны примеры строгого реалистического монтажного письма именно из области классического наследства, где взаимодействия со смежными областями в этом направлении или меньше или вовсе отсутствуют (например, в кино).Итак, в зрительных ли, в звуковых или в звукозрительных сочетаниях, в создании ли образа, ситуации или в "магическом" воплощении перед нами образа действующего лица - у Пушкина или у Маяковского - везде одинаково наличествует все тот же метод монтажа.
Каков же из всего сказанного выше вывод?
Вывод тот, что нет противоречия между методом, которым пишет поэт, методом, которым действует воплощающий его актер внутри себя, методом, которым тот же актер совершает поступки внутри кадра, и тем методом, которым его действия, его поступки, как и действия его окружения и среды (и вообще весь материал кинокартины) сверкают, искрятся и переливаются в руках режиссера через средства монтажного изложения и построения фильма в целом. Ибо в равной мере в основе всех их лежат те же живительные человеческие черты и предпосылки, которые присущи каждому человеку, равно как и каждому человечному и жизненному искусству.
Какими, казалось бы, полярными кругами каждая из этих областей ни двигалась, они не могли и не могут не встретиться в конечном родстве и единстве метода такими, какими мы ощущаем их сейчас.
Эти положения с новой силой ставят перед нами вопрос о том, что мастера киноискусства наравне с изучением драматургически-литературного письма и актерского мастерства должны овладеть и всеми тонкостями культурного монтажного письма.
1938
96
Примечания
Статья написана в марте - мае 1938 г. Впервые опубликована в журнале "Искусство кино", 1939, ? 1, стр. 37-49. В РГАЛИ хранится рукопись Эйзенштейна - четыре редакции (ф. 1923, on. 1, ед. хр. 1180 - 1186). Последняя, четвертая редакция наиболее полно воспроизведена в кн.:
Л.В.Кулешов, Основы кинорежиссуры, М., 1941, стр. 310 - 333, по тексту которой и печатается с небольшими исправлениями по авторскому подлиннику. Сделана небольшая купюра текста, чтобы избежать дословного повторения одного и того же абзаца.
Проблематикой киномонтажа и вопросами, связанными с ним, Эйзенштейн занимался на протяжении всей своей творческой жизни. "Предтечей" основополагающего цикла работ Эйзенштейна о монтаже была первая же его декларация "Монтаж аттракционов", основные принципы которой были распространены с театра на кино в статье "Метод постановки рабочей фильмы". Положения этих ранних деклараций были развиты либо пересмотрены в основных теоретических статьях конца 20-х гг. -"Бела забывает ножницы", "Нежданный стык", "Будущее звуковой фильмы. Заявка", "За кадром", "Перспективы", "Четвертое измерение в кино", исследованиях и лекциях 30-х гг. - "Э! О чистоте киноязыка", "Примеры изучения монтажного письма" и ряде других работ. Сравнивая их с данной статьей, нетрудно заметить, как эволюционировали взгляды Эйзенштейна на место и функции монтажа в построении фильма. Отказываясь от ограниченности и категоричности выводов своих первых манифестов
, Эйзенштейн постепенно расширяет область кинематографического монтажа. Он рассматривает его как средство не только связного, последовательного, но и образного, взволнованного раскрытия темы, как средство познания и воссоздания на экране действительности, опираясь на возможности звукового фильма. Критикуя как тех, кто считал монтаж "всем", так и тех, кто считал его "ничем", Эйзенштейн подчеркивает его особую важность для киноискусства настоящего и будущего.Начатая в 1937 г. работа над книгой "Монтаж" должна была обобщить взгляды Эйзенштейна на эту проблему. К сожалению, она не была окончена. Статья "Монтаж 1938" открывает самостоятельный цикл исследований, посвященных разработке отдельных вопросов монтажной концепции звукового кино.
Апеллируя к опыту литературы, живописи и актерской практики, Эйзенштейн стремится показать неизбежность обращения к широко понимаемому монтажному принципу во всех искусствах, если автор хочет создать образ, а не изображение явления. Уже в этом статья выходит за рамки частной области внутри монтажа и затрагивает общеэстетическую
97
проблему образа и образности, что имеет первостепенное значение в понимании эстетических воззрений Эйзенштейна. Принципиально важным является здесь доказательство динамической природы образа. Обобщающий образ произведения в целом или отдельной сцены, равно как и образ человека, создаваемый актером, "не дается, а возникает, рождается" (курсив Эйзенштейна), то есть становится во времени. Основой этого динамического становления образа Эйзенштейн и считает принцип монтажного сопоставления частных изображений, причем он демонстрирует действие этого принципа как на процессе создания произведения, так и на процессе его восприятия зрителем (читателем).
Методология и ход доказательства этого тезиса придают статье еще один важный аспект, включая ее в ту группу исследований, где Эйзенштейн анализирует творческий процесс воплощения художником замысла.
1
Бирс Амброз (1842-1914) - американский писатель-новеллист.2
...в свое время сами впервые указывали...- Здесь Эйзенштейн имеет в виду свои теоретические статьи 20-х гг., в частности "Перспективы", "Бела забывает ножницы" и "За кадром", в которых он декларировал принцип образного монтажного сопоставления.3
...отношением самого исследователя к изображаемой действительности...- Эйзенштейн неоднократно отклонял обвинения в формализме в его адрес, он подчеркивал разницу между содержанием произведения (которое заключается в его идейно-образном комплексе и продиктовано отношением художника к действительности) и содержимым произведения (то есть материалом художника).4
...рождали "некое третье" и становились соотносительными. -Внимание к результату склепки "двух безотносительных кусков" весьма характерно для ряда режиссеров-экспериментаторов начала 20-х гг., и в первую очередь для Л. В. Кулешова. Широкоизвестные опыты Кулешова заключались, например, в том, что он соединял два куска пленки, зафиксировавшие идущих в разное время и в разных местах людей, и у зрителя создавалось впечатление их одновременного подхода друг к другу; либо монтировал один и тот же крупный план спокойного лица актера Мозжухина с планами "безотносительных" к нему предметов (тарелка супа или гроб), и зритель сам приписывал актеру соответствующую эмоцию (голод или скорбь). Опыты молодого Эйзенштейна обозначали новое направление в этом круге киноэкспериментов. Так, например, монтируя в "Стачке" бойню со зверским избиением рабочих, он стремился вызвать определенную эмоциональную и интеллектуальную оценку у зрителя - ненависть к царизму, то есть перевести опыт из плана преимущественно технического в план идейно-образной выразительности.98
5
...цепи промежуточных изображений, собирающихся в образ. -Этот теоретический вывод во многом объясняется подходом Эйзенштейна к самой профессии режиссера театра и кино, одной из основных черт которого он считал "дар амплификации", то есть разработки, развертывания действия в образном построении. Он связан также с эйзенштейновским педагогическим принципом "замедленного творческого процесса", который заключался в том, что педагог совместно со студентами в течение многих часов анализировал процесс разработки действия, протекающий у опытного мастера, может быть, всего несколько минут. Последовательный анализ каждого этапа творческого процесса призван был выработать у студентов навыки "амплификации" и, следовательно, подготовить к образному построению произведения. Большой материал преподавательской деятельности во ВГИКе послужил Эйзенштейну опорой в окончательном формулировании его зрелых теоретических положений, в частности в статье "Монтаж 1938",6
"Милый друг" - роман Мопассана (1885). Главный герой романа Жорж Дюруа, делающий головокружительную карьеру, решает изменить написание своей фамилии; он отделяет первый слог Дю, благодаря чему она начинает звучать аристократически.7
Черкасов Николай Константинович (1903-1966) - народный артист СССР. Исполнитель главных ролей в фильмах Эйзенштейна "Александр Невский" и "Иван Грозный".8
Охлопков Николай Павлович (1900-1967) - народный артист СССР. Исполнитель роли Буслая в фильме "Александр Невский".9
Чирков Борис Петрович (1901-1982) - народный артист СССР.10
Свердлин Лев Наумович (1901-1969) - народный артист СССР.11
Арлисс Джордж (1868-1946) - английский актер театра и кино. В кино создал ряд образов исторических лиц - Гамильтона, Вольтера, Ришелье, Дизраэли и др. Его книга "Автобиография Джорджа Арлисса" вышла в Нью-Йорке в 1927 г.12
Волынский Аким Львович (1863-1926) - писатель и искусствовед. Его книга "Леонардо да Винчи" вышла отдельным изданием в 1900 г. (печаталась отдельными главами в журнале "Северный вестник" в 1897-1898 гг.).13
Пеладан Жозефен - французский исследователь творчества Леонардо да Винчи, ему принадлежит первый французский перевод "Трактата о живописи" (Париж, 1907).14
Гвадалахара - город и провинция в Испании; в марте 1937 г. республиканские войска нанесли при Гвадалахаре тяжелое поражение армии Франко.99
15
Представители разных течений видят ведущую роль и ставят акценты, внимания на различных узловых пунктах актерской техники. - Этот вопрос Эйзенштейн подробно рассматривал в своем цикле лекций, прочитанном на четвертом курсе режиссерского факультета ГИКа в 1934/35 учебном году. Анализируя и сопоставляя теоретические системы и практику К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда, Эйзенштейн доказывает, что творческие принципы этих крупнейших мастеров театра являются не взаимоисключающими, а лишь разрабатывающими проблемы разных этапов создания спектакля. В силу ряда причин Станиславский акцентирует внимание преимущественно на первом этапе - периоде освоения режиссером и актерами драматургической основы спектакля, в то время как Мейерхольд на втором этапе - разработке спектакля в период его воплощения на сцене.16
...запечатлен этот "шаг Петра" В. Серовым в его знаменитой картине. -.Картина В. А. Серова (1865-1911) "Петр I", написанная в 1907 г., находится в Третьяковской галерее.17
Этот пример является образцом и для самой сложной звуко-зрительной композиции. - Подробно вопросы звукозрительных построений рассмотрены в статье "Вертикальный монтаж" и в исследовании "Неравнодушная природа".18
...пишет В. Жирмунский в "Введении в метрику"...- Жирмунский Виктор Максимович (1891-1971) - советский литературовед, специалист по вопросам теории стихосложения. Его книга "Введение в метрику" ("Academia", Л., 1925) являлась в 20-е гг. основной работой в этой области.19
Полонский Яков Петрович (1819-1898) - русский поэт; цитируемое четверостишие взято из стихотворения "Старый Сазандар" (1833). (Я Полонский, Стихотворения, большая серия "Библиотеки поэта" Л 1954, стр. 125).20
Тынянов Юрий Николаевич (1894-1943) - советский писатель и литературовед, автор ряда исследований и романов о Пушкине, Грибоедове, Кюхельбекере. Исследование "Проблемы стихотворного языка", цитируемое здесь, вышло в свет в 1924 г. в издательстве "Academia".21
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867-1942) - русский поэт-символист и переводчик.22
Мильтон Джон (1608-1674) - английский поэт, публицист и общественный деятель.23
Томсон Джеме (1700-1748) - английский поэт, представитель сентиментализма.24
Китс Джон (1795-1821) - английский поэт-романтик.100 Монтаж 1938
25
Шелли Перси Биши (1792-1822) - английский поэт-романтик.26
Шенье Андре (1762-1794) - французский поэт и публицист.101
I
В статье "Монтаж 1938", давая окончательную формулировку о монтаже, мы писали:
"...Кусок А, взятый из элементов развертываемой темы, и кусок В, взятый оттуда же, в сопоставлении рождают тот образ, в котором наиболее ярко воплощено содержание темы...", то есть "изображение А и изображение В должны быть так выбраны из всех возможных черт внутри развиваемой темы, должны быть так выисканы, чтобы сопоставление их - именно их, а не других элементов - вызывало в восприятии и чувствах зрителя наиболее исчерпывающе полный образ самой темы..." В этой формулировке мы совершенно не ограничивали себя определением того, к какому качественному ряду принадлежат А или В и принадлежат ли они к одному разряду измерений или к разным.
*
* *Мы не случайно писали: "... из всех возможных черт внутри развиваемой темы..."
Ибо поскольку решающим является возникающий из них, наперед задуманный, единый и обобщающий образ, постольку принадлежность отдельных этих слагающих к той или иной области выразительных средств принципиальной роли не играет.
Мало того, именно о принадлежности выразительных средств к самым разнообразным областям толкуют почти что все примеры от Леонардо да Винчи до Пушкина и Маяковского включительно
1.В "Потопе" Леонардо элементы чисто пластические (то есть зрительные); элементы поведения людей (то есть драматически игровые); элементы шумов, грохота и воплей (то есть звуковые) - все в одинаковой мере слагаются в единый обобщающий конечный образ представления о потопе.
Таким образом, мы видим, что переход от монтажа немого фильма к монтажу звукозрительному ничего принципиально не меняет.
102
Наше понимание монтажа в равной мере понимает и монтаж немого фильма и монтаж фильма звукового.
Это отнюдь не значит, что сама практика звукозрительного монтажа не ставит перед нами новых задач, новых трудностей и во многом совершенно новую методику.
Наоборот, это именно так.
И поэтому надо как можно обстоятельнее разобраться в самой природе звукозрительного феномена. И прежде всего встает вопрос о том, где же искать предпосылок непосредственного опыта в этом деле.
Как и всегда, неисчерпаемым кладезем опыта останется и остается человек
2.Наблюдение за его поведением, в частности, в данном случае, за тем, как он воспринимает действительность и как он охватывает ее, создавая себе исчерпывающий образ ее, здесь навсегда останется решающим.
Дальше мы увидим, что и в вопросах узкокомпозиционных снова же человек и взаимосвязь его жеста и интонации, порождаемых единой эмоцией, окажутся решающим прообразом для определения звукозрительных структур, которые совершенно так же вытекают из единого определяющего образа. Но об этом, как сказано, дальше. Пока же с нас хватит и следующего положения. Чтобы, найти правильный подбор именно тех монтажных элементов, из которых сложится именно тот образ, в котором мы ощущаем то или иное явление, лучше всего остро
следить за собой, остро следить за тем, из каких именно элементов действительности этот образ действительно складывается в нашем сознании.При этом лучше всего ловить себя на первом, то есть наиболее непосредственном восприятии, ибо именно оно всегда будет наиболее острым, свежим, живым и составленным из впечатлений, принадлежащих, к. наибольшему количеству областей.
Поэтому и в обращении к материалам классики, пожалуй, тоже лучше всего оперировать не только с законченными произведениями, но и с теми эскизными записями, в которых художник старается запечатлеть гамму первых, наиболее ярких и непосредственных впечатлений.
Ведь именно в силу этого эскиз или набросок часто бывает гораздо более живым, чем законченное полотно (например, "Явление Христа народу" Иванова и эскизы к нему
3; в особенности композиционные наброски Иванова к другим неосуществленным картинам).Не забудем, что тот же "Потоп" Леонардо есть тоже "набросок", если не набросок с натуры, то, во всяком случае, эскизная запись, лихорадочно стремящаяся записать все те черты образа и видения "Потопа", которые проносились перед внутренним взором Леонардо. Именно отсюда та-
103
кое обилие не только изобразительных и не только пластических элементов в этом описании, но элементов звуковых и игровых.
Но возьмем для наглядности другой пример такой записи "с натуры", записи, сохранившей весь "трепет" первого, непосредственного впечатления.
Это - сноска к записи от 18 сентября 1867 года в "Дневнике" Гонкуров
4:"...Описание Атлетической Арены... я нахожу ее в тетрадке документальных записей к нашим будущим романам (romans futurs), которые, увы, не были написаны.
В двух концах зала, погруженных в глубокую тень, - поблескивание пуговиц и рукояток сабель полицейских.
Блестящие члены борцов, устремляющихся в пространство яркого света. Вызывающий взгляд глаз. Хлопанье ладоней по коже при схватках. Пот, от которого несет запахом дикого зверя. Бледнеющий цвет лиц, сливающийся с белокурым оттенком усов. Тела, розовеющие на местах ударов. Спины, с которых струится пот, как
с камней водостоков. Переходы фигур, волочащихся на коленях. Пируэты на головах и т. д. и т. д."Знакомая нам картина. Сочетание чрезвычайно остро взятых "крупных планов". Необычайно живой образ атлетической арены, возникающей из их сопоставления, и т. д. и т. д. Но что здесь особенно примечательно? Это то, что на протяжении всего нескольких строк описания отдельные эти планы - "монтажные элементы" - принадлежат буквально ко всем почти областям человеческих чувств:
1.
Осязательно-фактурные (мокрые спины, по которым струится пот).2.
Обонятельные (запах пота, от которого несет диким зверем).3.
Зрительные:Световые (глубокая тень и блестящие члены борцов, устремляющихся в полный свет; пуговицы полицейских и рукоятки их сабель, поблескивающие из темноты).
Цветовые (бледнеющие лица, белокурые усы, тела, розовеющие в местах ударов).
4.
Слуховые (щелканье хлопков).5.
Двигательные (на коленках, пируэты на головах).6.
Чисто эмоциональные, "игровые" (вызов глаз) и т. д.Примеров можно было бы привести несметное множество, но все они с большей или меньшей обстоятельностью проиллюстрируют все одно и то же положение, высказанное выше, а именно:
в подходе к монтажу чисто зрительному и монтажу, связывающему элементы разных областей, в частности зрительный образ и образ звуко-
104
вой, по линии создания единого обобщающего звукозрительного образа принципиальной разницы нет.
Как принцип это было понятно уже и в тот период, когда мы совместно с Пудовкиным и Александровым подписывали нашу "Заявку" о звуковом фильме еще в 1929 году
5.Однако принцип принципом, но основное дело здесь в том, какими путями найти подходы к практике этого нового вида монтажа.
Поиски в этом направлении тесно связаны с "Александром Невским". А новый вид монтажа, который останется неразрывно в памяти с этой картиной, я называю:
вертикальный монтаж.
Откуда же это название и почему оно?
*
* *Всякий знаком с внешним видом оркестровой партитуры. Столько-то строк нотной линейки, и каждая отдана под партию определенного инструмента. Каждая партия развивается поступательным движением по горизонтали. Но не менее важным и решающим фактором здесь является вертикаль: музыкальная взаимосвязь элементов оркестра между собой в каждую данную единицу времени. Так поступательным движением вертикали, проникающей весь оркестр и перемещающейся горизонтально, осуществляется сложное, гармоническое музыкальное движение оркестра в целом.
Переходя от образа такой страницы музыкальной партитуры к партитуре звукозрительной, пришлось бы сказать, что на этой новой стадии к музыкальной партитуре как бы прибавляется еще одна строка. Это строка последовательно переходящих друг в друга зрительных кадров, которые пластически по-своему соответствуют движению музыки и наоборот. (Сравните схемы I и II на стр. 109).
Подобную же картину мы могли бы нарисовать с таким же успехом, идя не от образа музыкальной партитуры, но отправляясь от монтажного построения в немом фильме.
В таком случае из опыта немого фильма пришлось бы взять пример полифонного монтажа, то есть такого, где кусок за куском соединяются не просто по какому-нибудь одному признаку - движению, свету, этапам сюжета и т. д., но где через серию кусков идет одновременное движение целого ряда линий, из которых каждая имеет свой собственный композиционный ход, вместе с тем неотрывный от общего композиционного хода целого.
105
Таким примером может служить монтаж "крестного хода" из фильма "Старое и новое".
В "крестном ходе" из "Старого и нового" мы видим клубок самостоятельных линий, которые одновременно и вместе с тем самостоятельно пронизывают последовательность кадров.
Таковы, например:
1.
Партия "жары". Она идет, все нарастая из куска в кусок.2.
Партия смены крупных планов по нарастанию чисто пластической интенсивности.3.
Партия нарастающего упоения религиозным изуверством, то есть игрового содержания крупных планов.4.
Партия женских "голосов" (лица поющих баб, несущих иконы).5.
Партия мужских "голосов" (лица поющих мужчин, несущих иконы).6.
Партия нарастающего темпа движений у "ныряющих" под иконы. Этот встречный поток давал движение большой встречной теме, сплетавшейся как сквозь кадры, так и путем монтажного сплетения с первой большой темой - темою несущих иконы, кресты, хоругви.7.
Партия общего "пресмыкания", объединявшая оба потока в общем движении кусков "от неба к праху",от сияющих в небе крестов и верхушек хоругвей до распростертых в пыли и прахе людей, бессмысленно бьющихся лбами в сухую землю.
Эта тема прочерчивалась даже отдельным куском, как бы ключом к ней вначале: в стремительной панораме по колокольне от креста, горящего в небе, к подножию церкви, откуда движется крестный ход, и т. д. и т.д.
Общее движение монтажа шло непрерывно, сплетая в едином общем нарастании все эти разнообразные темы и партии. И каждый монтажный кусок строго учитывал кроме общей линии движения также и перипетии движения внутри каждой отдельной темы.
Иногда кусок вбирал почти все из них, иногда одну или две, выключая паузой другие; иногда по одной теме делал необходимый шаг назад, с тем чтобы потом тем ярче броситься на два шага вперед, в то время как остальные темы шли равномерно вперед, и т. д. и т. д. И везде каждый монтажный кусок приходилось проверять не только по одному какому-нибудь признаку, но по целому ряду признаков, прежде чем можно было решать, годится ли он "в соседи" тому или иному другому куску.
Кусок, удовлетворявший по интенсивности жары, мог оказаться неприемлемым, принадлежа не к тому хору "голосов". Размер лица их мог удовлетворить, но выразительность игры диктовала ему совсем другое
106
место и т. д. Сложность подобной работы никого не должна была бы удивлять: ведь это почти то же самое, что приходится делать при самой скромной музыкальной оркестровке. Сложность здесь, конечно, большая в том отношении, что отснятый материал гораздо менее гибок и как раз в этой части почти не дает возможности вариаций.
Но, с другой стороны, следует иметь в виду, что и самый полифонный строй и отдельные его линии выслушиваются и выводятся в окончательную форму не только по предварительному плану, но учитывая и то, что подсказывает сам комплекс заснятых кусков.
Совершенно такой же "спайки", усложненной (а может быть, облегченной?) еще "строчкой" фонограммы, мы добивались так же упорно и в "Александре Невском", и особенно в сцене наступления рыцарей. Здесь линия тональности неба - облачности и безоблачности; нарастающего темпа скока, направления скока, последовательности показа русских и рыцарей; крупных лиц и общих планов, тональной стороны музыки; ее тем; ее темпа, ее ритма и т. д. - делали задачу не менее трудной и сложной. И многие и многие часы уходили на то, чтобы согласовать все эти элементы в один органический сплав.
Здесь делу, конечно, помогает и то обстоятельство, что полифонное построение кроме отдельных признаков в основном оперирует тем, что составляет комплексное ощущение куска в целом. Оно образует как бы "физиогномию" куска, суммирующую все его отдельные признаки в общее ощущение куска. Об этом качестве полифонного монтажа и значении его для тогда еще "будущего" звукового фильма я писал в связи с выходом фильма "Старое и новое" (1929)
6.Для сочетания с музыкой это общее ощущение имеет решающее значение, ибо оно связано непосредственно с образным ощущением как музыки, так и изображения. Однако, храня это ощущение целого как решающее, в самих сочетаниях необходимы постоянные коррективы согласно их отдельным признакам.
Для схемы того, что происходит при вертикальном монтаже, эта особенность дает возможность представить ее в виде двух строчек. При этом мы имеем в виду, что каждая из них есть комплекс своей многоголосой партитуры, и искание соответствий здесь рассмотрено под углом зрения подобных соответствий для общего, комплексного "образного" звучания как изображения, так и музыки.
Схема II отчетливо показывает новый добавочный "вертикальный" фактор взаимосоответствия, который вступает с момента соединения кусков в звукозрительном монтаже.
107
С точки зрения монтажного строя изображения здесь уже не только "пристройка" куска к куску по горизонтали, но и "надстройка" по вертикали над каждым куском изображения - нового куска другого измерения -звукокуска, то есть куска, сталкивающегося с ним не в последовательности, а в единовременности.
Интересно, что и здесь звукозрительное сочетание принципиально не отлично ни от музыкальных сочетаний, ни от зрительных в немом монтаже. Ибо и в немом монтаже (не говоря уже о музыке) эффект тоже получается, по существу, не от последовательности кусков, а от их одновременности, оттого, что впечатление от последующего куска накладывается на впечатление от предыдущего. Прием "двойной экспозиции" как бы материализовал в трюковой технике этот основной феномен кинематографического восприятия. Феномен этот одинаков как на достаточно высокой стадии немого монтажа, так и на самом низшем пороге создания иллюзий кинематографического движения: неподвижные изображения разных положений предмета от кадрика к кадрику, накладываясь друг на друга, и создают впечатление движения. Теперь мы видим, что подобное же наложение друг на друга повторяется и на самой высшей стадии монтажа - монтажа звукозрительного. И для него образ "двойной" экспозиции так же принципиально характерен, как и для всех других феноменов кинематографа.
Недаром же, когда мне еще в период немого кинематографа захотелось чисто пластическими средствами передать эффект звучания музыки, я прибег именно к этому техническому приему:
"...в "Стачке" (1924) есть попытки в этом направлении. Там была маленькая сценка сговора стачечников под видом безобидной гулянки под гармошку.
Она заканчивалась куском, где чисто зрительными средствами мы старались передать ощущение его звучания. Две пленки будущего - изображение и фонограмму - здесь подменяла двойная экспозиция. На одной было уходящее в далекую глубину белое пятно пруда у подножия холма. От него из глубины, вверх на аппарат, шли группы гуляющих с гармошкой. Во второй экспозиции,
ритмически окаймляя пейзаж, двигались блестящие полоски - освещенные ребра мехов громадной гармоники, снятой во весь экран. Своим движением и игрой взаимного расположения под разными углами они давали полное ощущение движения мелодии, вторящей самой сцене..." (см. мою статью "Не цветное, а цветовое", газета "Кино", ? 24, май, 1940).Схемы I и II рисуют систему композиционного стыка в немом кино (I) в отличие от звукового (II). Именно схему стыка, ибо сам монтаж, ко-
108
нечно, рисуется как некий большой развивающийся тематический ход, движущийся сквозь подобную схему отдельных монтажных стыков.
Но в разгадке природы этого нового вида стыка по вертикали и лежат как раз основные трудности.
Ибо строй композиционной связи движения a
1 - b1 - C1 известен в музыке.А законы композиционного движения А - В - С до конца обследованы в практике немого кино.
И новой проблемой перед звукозрительным кино будет стоять система соединения А - a
1; A1B1C1: В - B1; С - C1 и т. д., которые обусловливают сложный пластический звуковой ход темы через сложную систему сочетаний А - а1 - b1 - В - С - C1 и т. д. в самых разнообразных переплетениях.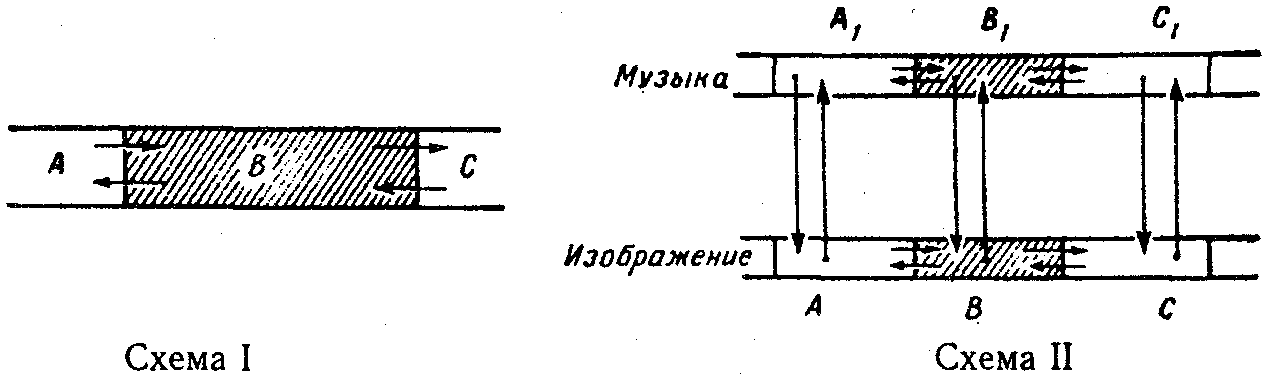
Таким образом, проблемой здесь явится нахождение ключа к неведомым доселе вертикальным стыкам А - а
1, В - b1, которые надо научиться так же закономерно уметь сочетать и разводить, как через культуру слуха это делает с рядами A1,B1... музыка, или через культуру глаза - зрительный монтаж с рядами a1, b1 и т. д.Отсюда на первый план выдвигается вопрос нахождения средств соизмеримости изображения и звука и вопрос нахождения в этом деле показателей, измерителей, путей и методики. Это будет в первую очередь вопрос о нахождении столь же остро ощущаемой внутренней синхронности изображения и музыки, какую мы уже имеем в отношении ощущения синхронности внешней (несовпадение между движением губ и произносимым словом мы уже научились замечать с точностью до одной клетки!).
Но сама она будет весьма далека от той внешней синхронности, что существует между видом сапога и его скрипом, и "будет той "таинственной" внутренней синхронностью", в которой пластическое начало целиком сливается с тональным.
109
Связующим звеном между этими областями, общим языком синхронности, конечно, явится движение. Еще Плеханов сказал, что все явления в конечном .счете сводятся к движению. Движение же нам раскроет и те все углубляющиеся слои внутренней синхронности, которые можно последовательно установить. Движение же нам ощутимо раскроет и смысл объединения и его методику. Но двинемся по этому пути от вещей внешних и наглядных к вещам внутренним и менее непосредственным.
Сама роль движения в вопросе синхронности абсолютно очевидна. Но рассмотрим ряд последовательных случаев.
Начинается такой ряд с той области синхронности, которая, по существу, лежит вне пределов художественного рассмотрения, - с фактической синхронности, то есть с натурального звучания снимаемого предмета или явления (квакающая лягушка, рыдающий аккорд сломанной арфы, стук колес пролетки по мостовой).
Собственно искусство начинается в этом деле с того момента, как в сочетании звука и изображения уже не просто воспроизводится существующая в природе связь, но устанавливается связь, требуемая задачами выразительности произведения.
В наиболее рудиментарных формах это будет подчинение обеих областей одному и тому же ритму, отвечающему содержанию сцены. Это будет наиболее простой, наиболее общедоступный, часто встречающийся случай звукозрительного монтажа, когда куски изображения нарезаются и склеиваются согласно ритму музыки, которая бежит им параллельно по фонограмме. Здесь принципиально безразлично, будет ли в кадре движение или будут ли кадры неподвижными. В первом случае надо будет лишь следить за тем, чтобы внутрикадровое движение тоже было в соответствующих ритмах.
Совершенно очевидно, что здесь, на этой невысокой стадии синхронности, тоже возможны очень строгие, интересные и выразительные построения.
От простейшего случая - простого "метрического" совпадения акцентов - своеобразной "скандировки" - здесь возможны любые комбинации синкопированных сочетаний
7 и чисто ритмического "контрапункта" в учтенной игре несовпадения ударений, длин, частот, повторов и т. п.Но каков же будет следующий шаг после этого второго случая внешне двигательной синхронности? Очевидно, такая, которая в пластике сумеет передать движение не только ритмическое, но и движение мелодическое.
Правильно говорит о мелодии Ланц (Henry Lanz, "The Physical basis of Rime", 1931):
110
"...Строго говоря, мы вовсе не "слышим" мелодию. Мы способны или неспособны ей следовать, что означает нашу способность или неспособность сочетать ряд звуков в некоторое единство высшего порядка..."
И во всем многообразии пластических средств выражения должны же найтись такие, которые своим движением сумеют вторить не только движению ритма, но и линии движения мелодии. Мы уже догадываемся о том, какие это будут элементы, но, так как этому вопросу будет отведен большой самостоятельный раздел, мы только мимоходом бросим предположение о том, что это, вероятно, будет в основном... "линейным" элементом пластики. Сами же обратимся к следующему разряду движения.
"Высшее единство", в которое мы способны объединить отдельные звуки звукоряда, нам совершенно ясно рисуется линией, объединяющей их своим движением. Но и сама тональная разница их тоже характеризуется опять-таки движением. Но на этот раз уже движением последующего разряда - уже не движением-перемещением, а колебательным движением, разные характеристики которого мы и воспринимаем как звуки разной высоты и тональности.
Какой же элемент изображения вторит и здесь этому "движению" в звуках? Очевидно, что тот элемент, который и здесь тоже связан с движением-колебанием (пусть и иной физической конфигурации), тот элемент, который характеризуется и здесь таким же обозначением... тона: в изображении это
- цвет. (Высота, грубо говоря, видимо, будет соответствовать игре света, тональность - цвету.)Остановимся на мгновение и осмотримся. Мы установили, что синхронность может быть "бытовой", метрической, ритмической, мелодической, тональной. При этом звукозрительное сочетание может удовлетворять своей синхронностью всему ряду (что бывает более чем редко) или может строиться на сочетании по одной какой-либо разновидности, не скрывая при этом ощущения общего разлада между областью звука и изображения. Последнее
- весьма частый случай. Когда он имеет место, мы говорим, что изображение - "само по себе", а музыка - "сама по себе";звуковая и изобразительная сторона каждая бегут самостоятельно, не объединяясь в некое органическое целое. Следует при этом иметь в виду, что под синхронностью мы понимаем отнюдь не обязательный консонанс. Здесь вполне возможна любая игра совпадений и несовпадений "движения", но в тех и других случаях связь должна быть все равно композиционно учтенной. Так же очевидно и то, что в зависимости от выразительных задач "ведущим" основным признаком построения может быть любой из видов синхронности. Для каких-то сцен основным фактором воздействия окажется ритм, для других - тон и т. д. и т. д.
111
Но вернемся к самому ряду разновидностей, вернее, разных областей синхронности.
Мы видим, что разновидности эти целиком совпадают с теми разновидностями немого монтажа, которые мы установили в свое время (в 1928 - 1929) и которые мы в дальнейшем включили и в общий курс преподавания режиссуры (см. "Искусство кино", 1936, ? 4, стр. 57, III курс, раздел II, [подраздел] Б, 3).
В свое время эта "номенклатура" некоторым товарищам могла показаться излишним педантизмом или произвольной игрой с аналогиями. Но мы тогда еще указывали на важность такого рассмотрения этого вопроса для тогдашнего "будущего" - для звукового фильма. Сейчас мы это наглядно и конкретно ощутили на самой практике звукозрительных сочетаний.
Этот ряд включал еще и монтаж "обертонный". Такого рода синхронности мы касались выше в случае "Старого и нового". И под этим, может быть, не совсем точным названием следует понимать "комплексное" полифонное "чувственное" звучание кусков (музыки и изображения) как целых. Этот комплекс есть тот чувственный фактор, в котором наиболее непосредственно воплощается синтетически образное начало куска.
И здесь мы подошли к основному и главному, что создает окончательную внутреннюю синхронность, к образу и к смыслу кусков.
Этим как бы замыкается круг. Ибо эта формула о смысле куска объединяет и самую лапидарную сборку кусков - так называемую простую "тематическую подборку" по логике сюжета - и наивысшую форму, когда это соединение является способом раскрытия смысла, когда сквозь объединения кусков действительно проступает образ темы, полный идейного содержания вещи.
Это начало является, конечно, исходным и основоположным для всего ряда других. Ибо каждая "разновидность" синхронности внутри общего органического целого есть не более как воплощение основного образа через свою специфически очерченную область.
Начнем мы наше рассмотрение с области цвета. И не только потому, что проблема цвета на сегодня является наиболее актуальной и интригующей проблемой нашего кино. А в основном потому, что как раз на области цвета наиболее остро ставился, а сейчас разрешается принципиальный вопрос об абсолютных и относительных соответствиях изображения и звука между собой и обоих вместе взятых - определенным человеческим эмоциям. Для вопроса о принципе звукозрительного образа это имеет кардинальное значение. Методику же самого дела наиболее наглядно и лучше всего развернуть на области мелодической синхронно-
112
сти, наиболее удобно поддающейся графическому анализу и одноцветному печатному воспроизведению.
Итак, обратимся в первую очередь к вопросу соответствия музыки и цвета, которое нам проложит путь к проблеме того вида монтажа, который я для удобства называю хромофонным (то есть цветозвуковым).
*
* *Уничтожение противоречия между изображением и звуком, между миром видимым и миром слышимым! Создание между ними единства и гармонического соответствия. Какая увлекательная задача! Греки и Дидро
8, Вагнер9 и Скрябин10 - кто только не мечтал об этом? Кто только не брался за эту задачу? Но обзор мечтаний мы начнем не с них.А самый обзор сделаем для того, чтобы проложить пути к методике слияния звука с изображением и по ряду других его ведущих признаков.
Итак, начнем рассмотрение этого вопроса с того, в каком виде мечта о звукозрительной слиянности уже давным-давно волнует человечество. И здесь на область цвета выпадает львиная доля мечтаний.
Первый пример возьмем не слишком давний, не глубже рубежа XVIII - XIX веков, но очень наглядный. Первое слово предоставим Г. Эккартсгаузену
11, автору книги "Ключ к таинствам натуры". Часть I. С.Петербург, 1804 г. (немецкий оригинал его еще в 1791 году вышел уже вторым изданием). На стр. 295 - 299 этой книги он пишет:"...Долго занимался я исследованием гармонии всех чувственных впечатлений. Чтоб сделать сие яснее и ощутительнее, на сей конец исправил я изобретенную Пастором Кастелем музыкальную машину для зрения, и привел ее в такое состояние, что можно на ней производить все аккорды цветов точно так, как и аккорды тонов. Вот описание сей машины. Я заказал себе цилиндрические стаканчики из стекла, равной величины, в полдюйма в поперечнике; налил их разноцветными жидкостями по теории цветов; расположил сии стаканчики, как струны в клавикордах, разделя переливы цветов, как делятся тоны. Позадь сих стаканчиков сделал я медные клапанцы, коими они закрывались. Сии клапанцы связал я проволокою так, что при ударе по клавишам клапанцы поднимались и цвета открывались. Как тон умолкает, когда палец оставляет клавишу, так и цвет пропадает, как скоро отнимешь палец, ибо клапанцы, по тяжести своей, тотчас упадают и закрывают стаканчики.
Сзади осветил я сии клавикорды высокими свечами. Красоту являющихся цветов описать нельзя, они превосходят самые драгоценные каменья. Так же невозможно выразить приятности ощущения глаза при различных аккордах цветов...
113
...Теория музыки глазной
Как тоны музыки должны соответствовать речам автора в мелодраме, так и цвета должны также согласоваться со словами. Для лучшего понятия я приведу здесь в пример песню, которую я положил на музыку цветов и которую я аккомпанирую на моем глазном клавесине. Вот она:
Слова: "Бесприютная сиротиночка".
Тоны: Тоны флейты, заунывные.
Цвета: Оливковый, перемешанный с розовым и белым.
Слова: "По лугам ходя меж цветочками".
Тоны: Возвышающиеся веселые тоны.
Цвета: Зеленый, перемешанный с фиолетовым и бледно-палевым.
Слова: "Пела жалобно, как малиновка".
Тоны: Тихие, скоро друг за другом последующие, возвышающиеся и утихающие.
Цвета: Темно-синий с алым и изжелта-зеленоватым.
Слова: "Бог услышал песню сиротиночки".
Тоны: Важные, величественные, огромные.
Цвета: Голубой, красный и зеленый с радужным желтым и пурпуровым цветом, переходящими в светло-зеленый и бледно-желтый.
Слова: "Солнце красно из-за гор взошло".
Тоны: Величественные басы, средние тоны, тихо отчасу возвышающиеся!
Цвета: Яркие желтые цвета, перемешанные с розовым и переходящие в зеленый и светло-желтый.
Слова:"И
пустило луч на фиалочку".Тоны: Тихо спускающиеся низкие тоны.
Цвета: Фиолетовый, перемешанный с разными зелеными цветами.
Довольно сего, чтоб показать, что и цвета могут выражать чувства души..."
Если этот пример принадлежит, вероятно, к малоизвестным, то следующее место отведем, наоборот, одному из самых популярных: знаменитому "цветному" сонету Артюра Рембо
12 "Гласные" ("Voyelles"), так долго и много волновавшему умы своей схемой соответствий цветов и звуков:А - черный; белый - Е; И - красный; У -
зеленый;
О - синий; тайну их скажу я в свой черед.
А - бархатный корсет на теле насекомых,
Которые жужжат над смрадом нечистот.
Е - белизна холстов, палаток и тумана,
114
И гордых ледников, и
хрупких опахал.
И - пурпурная кровь, сочащаяся рана
Иль алые уста средь гнева и похвал.
У - трепетная рябь зеленых волн широких,
Спокойные луга, покой морщин глубоких
На трудовом челе алхимиков седых.
О - звонкий рев трубы пронзительный и странный.
Полеты ангелов в тиши небес пространной -
О - дивных глаз ее лиловые лучи.
(Перевод Кублицкой-Пиоттух).
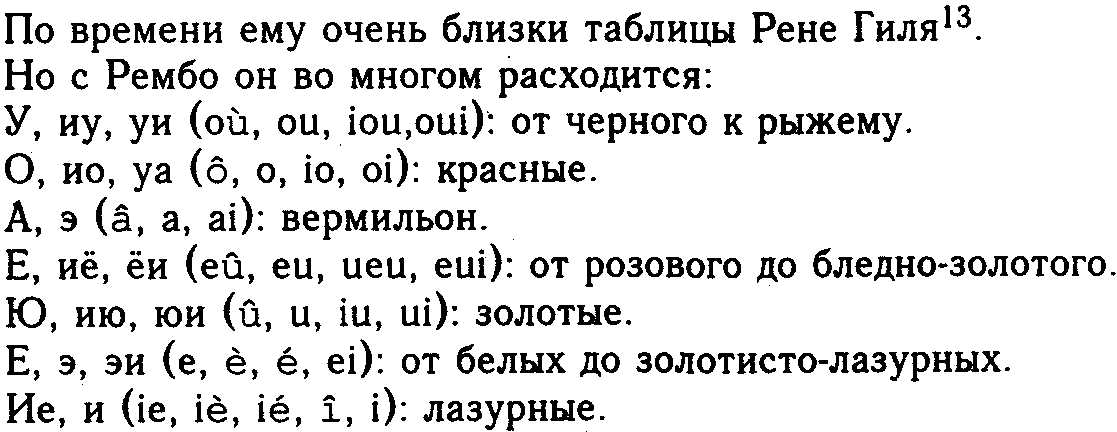
После того как Гельмгольц
14 опубликовал данные своих опытов о соответствии тембров голосовых и инструментальных, Гиль "уточняет" свои таблицы, вводя в них еще и согласные, и тембры инструментов, и целый каталог эмоций, представлений и понятий, которые им якобы абсолютно соответствуют.Макс Дейтчбейн в своей книге о романтизме (Мах Deutschbein, "Das Wesen der Romantik", 1921) считает "синтетизацию разных областей чувств" одним из основных признаков в творчестве романтиков.
В полном соответствии с этим мы снова находим подобную таблицу соответствий гласных и цветов у А.-В. Шлегеля (1767 - 1845)
15 (цитирую по книге: Henry Lanz, "The Physical basis of Rime", 1931, p. 167 - 168):"...
A - соответствует светлому, ясному красному (das rote Licht -helle А) и означает молодость, дружбу и сияние. И - отвечает небесно-голубому, символизируя любовь и искренность. О - пурпурное, Ю - фиолетовое, а У - ультрамарин".Другой романтик более поздней эпохи - тонкий знаток Японии Лафкадио Херн
16 - в своих "Японских письмах" ("The Japanese Letters of Lafcadio Hearn", edited by Elizabeth Bisland, 1911) уделяет этому вопросу тоже немало внимания; хотя он и не вдается в подобные "классификации" и даже осуждает всякие попытки отхода от непосредственности в этом направлении в сторону систематизации (критика книги Саймондза "В голубом ключе", Symonds "In the Key of Blue", в письме от 14 июня 1893 г.)115
Зато за четыре дня до этого он пишет своему другу Базилю Хэллу Чемберлену:
"... Вы были истинным художником в вашем последнем письме. Ваша манера музыкальными терминами описывать цвета ("глубокий бас" одного из оттенков зеленого и т. д.) привела меня в восхищение..."
А еще за несколько дней до этого он разражается по этому поводу страстной тирадой:
"...Допуская уродство в словах, вы одновременно должны признать и красоту их физиономии. Для меня слова имеют цвет, форму, характер;
они имеют лица, манеру держаться, жестикуляцию; они имеют настроения и эксцентричности; они имеют оттенки, тона, индивидуальности".
Далее, нападая на редакции журналов, возражавшие против его стиля и манеры писать, он пишет, что, конечно, они правы, когда утверждают, что: "...читатели вовсе не так чувствуют слова, как вы это делаете. Они не обязаны знать, что вы полагаете букву А светло-розовой, а букву Е - бледно-голубой. Они не обязаны знать, что в вашем представлении созвучие КХ имеет бороду и носит тюрбан, что заглавное Икс - грек зрелого возраста, покрытый морщинками, и т. д.".
Но тут же Херн ответно обрушивается на своих критиков:
"...Оттого, что люди не могут видеть цвета слов, оттенки слов, таинственное призрачное движение слов;
оттого, что они не могут слышать шепота слов, шелеста процессий букв, звуки флейты и барабанов слов;
оттого, что они не могут воспринять нахмуренности слов, рыданий слов, ярость слов, бунт слов;
оттого, что они бесчувственны к фосфоресценции слов, мягкости и твердости слов, сухости их или сочности, смены золота, серебра, латуни и меди в словах,
должны ли мы из-за этого отказываться от попытки заставить их слушать, заставить их видеть, заставить их чувствовать слова? .." (Письмо от 5 июня 1893 г.).
В другом месте он говорит об изменчивости слов:
"Еще давно я сказал, что слова подобны маленьким ящерицам, способным менять свою окраску в зависимости от своего положения".
Такая изощренность Херна, конечно, не случайна. Частично в этом виновата его близорукость, особенно обострившая эти стороны его восприятия. В основном же здесь, конечно, повинно то, что он жил в Японии, где эта способность находить звукозрительные соответствия развита особенно тонко. (Проблеме звукозрительных соответствий в связи с звуковым кино и японской традиции в этом направлении я посвятил в 1929 году обстоятельную статью "Нежданный стык".)
116
Лафкадио Херн привел нас на Восток, где в системе китайских учений звукозрительные соответствия не только присутствуют, но даже точно узаконены соответствующим каноном. Здесь и они подчинены тем же принципам Ян и Инь
17, которые пронизывают всю систему мировоззрения и философии Китая. Сами же соответствия строятся так:1) Огонь - Юг - Нравы - Лето - Красный - Dschi (sol) - горький.
2) Вода - Север - Мудрость - Зима - Черный - Yu (la) - соленый.
3) Дерево - Восток - Любовь - Весна - Голубой (зеленый) - Guo (mi) -кислый.
4) Металл - Запад - Справедливость - Осень - Белый - Schang (re) -острый.
(Цитирую по книге "Herbst und Friihiing des Lu-Bu-We", lena, 1926, S. 463 - 464).
Еще интереснее не только соответствия отдельных звуков и цветов, но одинаковое отражение
стилистических устремлений определенных "эпох" как в строе музыки, так и в строе живописи.Интересно об этом для "эпохи джаза" пишет покойный Рене Гийере в статье "Нет больше перспективы" (Rene Guillere "II n'y a plus de perspective", "Le Cahier Bleu", ?4
, 1933):"...Прежняя эстетика покоилась на слиянии элементов. В музыке - на линии непрерывной мелодии, пронизывающей аккорды гармонии; в литературе - на соединении- элементов фразы союзами и переходными словами от одного к другому; в живописи - на непрерывности лепки, которая выстраивала сочетания.
Современная эстетика строится на разъединении элементов, контрастирующих друг с другом: повтор одного и того же элемента - лишь усиление, чтобы придать больше интенсивности контрасту..."
Здесь в порядке примечания надо отметить, что повтор может в равной мере служить двум задачам.
С одной стороны, именно он может способствовать созданию органической цельности.
С другой стороны, он же может служить и средством того самого нарастания интенсивности, которую имеет в виду Гийере. За примерами ходить недалеко. Оба случая можно указать на фильмах.
Таков для первого случая повтор - "Братья!" в "Потемкине": первый раз - на юте перед отказом стрелять; второй раз не произнесено - на слиянии берега и броненосца через ялики; третий раз - в форме "Братья!" - при отказе эскадры стрелять по броненосцу.
Для второго случая имеется пример в "Александре Невском", где вместо четырех повторяющих друг друга одинаковых тактов, полагавшихся по партитуре, я даю их двенадцать, то есть тройным повтором. Это
117
относится к тому куску фильма, где в зажатый клин рыцарей с тылу врезается крестьянское ополчение. Эффект нарастания интенсивности получается безошибочным и неизменно разрешается вместе с музыкой - громом аплодисментов.
Но продолжим высказывания Гийере:
"...форма джаза, если всмотреться в элементы музыки и в приемы композиции, - типичное выражение этой новой эстетики...
Его основные части: синкопированная музыка, утверждение ритма. В результате этого отброшена плавная кривизна линий: завитки волют
18; фразы в форме локонов, характерные для манеры Массне19; медленные арабески. Ритм утверждается углом, выдающейся гранью, резкостью профиля. У него жесткая структура; он тверд; он конструктивен. Он стремится к пластичности. Джаз ищет объема звука, объема фразы. Классическая музыка выстраивалась планами (а не объемами), планами, располагавшимися этажами, планами, ложившимися друг на друга, планами горизонтальными и вертикальными, которые создавали архитектуру благородных соотношений: дворцы с террасами, колоннадами, лестницами монументальной разработки и глубокой перспективы. В джазе все выведено на первый план. Важный закон. Он одинаков и в картине, и в театральной декорации, и в фильме, и в поэме. Полный отказ от условной перспективы с ее неподвижной точкой схода, с ее сходящимися линиями.Пишут - и в живописи и в литературе - одновременно под знаком нескольких разных перспектив. В порядке сложного синтеза, соединяющего в одной картине части, которые берут предмет снизу, с частями, которые берут его сверху.
Прежняя перспектива давала нам геометрическое представление о Вещах такими, какими они видны одному идеальному глазу. Наша перспектива представляет нам предметы такими, какими мы видим их двумя глазами, на ощупь. Мы больше не строим ее под острым углом, сбегающимся на горизонте. Мы раздвигаем этот угол, распрямляем его стороны. И тащим изображение: на нас, на себя, к себе... Мы соучаствуем в нем. Поэтому мы не боимся пользовать крупные планы, как в фильме: изображать человека вне натуральных пропорций, таким, каким он нам кажется, когда он в пятидесяти сантиметрах от нашего глаза; не боимся метафоры, выскакивающей из поэмы, резкого звука тромбона, вырывающегося из оркестра, как агрессивный наскок.
В старой перспективе планы уходили кулисами, уменьшаясь вглубь -дымоходом, воронкой, чтобы раскрыть в глубине колоннаду дворца или монументальную лестницу. Подобно этому же в музыке кулисы контрабасов, виолончелей, скрипок последовательными планами, один за другим, как по уступам лестницы, уводили к террасам, откуда взору раскрывалось закатом солнца торжество медных инструментов. В литературе также
118
раскрывалась обстановка, выстраиваемая аллеей от дерева к дереву; и человек, описываемый по всем признакам, начиная с цвета волос...
В нашей новой перспективе - никаких уступов, никаких аллей. Человек входит в среду, среда выходит через человека. Они оба - функции друг друга.
Одним словом, в нашей новой перспективе - нет больше перспективы. Объем вещей не создается больше средствами перспективы... разница интенсивности, насыщенность краски создают объем. В музыке объем создается уже не удаляющимися планами: первым планом звучания и удалениями. Объем создается полнотой звучаний. Нет больше больших полотен звука, поддерживающих целое в манере театральных задников. В джазе - все объем. Нет больше аккомпанемента и голоса, подобно фигуре на фоне. Все работает. Нет больше сольного инструмента на фоне оркестра; каждый инструмент ведет свое соло, соучаствуя в целом. Нет также и импрессионистического расчленения оркестра, состоящего в том, что для первых скрипок, например, все инструменты играют ту же тему, но каждый в соседних нотах, дабы придать большее богатство звучанию.
В джазе каждый играет для себя в общем ансамбле. Тот же закон в живописи: сам фон должен быть объемом..."
Приведенный отрывок интересует нас прежде всего как картина полного эквивалента строя музыкального и строя пластического, здесь - не только живописного, но даже архитектурного, поскольку речь идет больше всего о пространственных и объемных представлениях. Однако достаточно поставить перед собой ряд картин кубистов, чтобы одинаковость того, что происходит в этой живописи, с тем, что делается в джазе, стала такой же наглядностью.
Столь же очевидно соответствие обоих архитектурному пейзажу, классическому - для доджазовой музыки и урбанистическому - для джазовой.
Действительно, парки и террасы Версаля, римских площадей и римских вилл кажутся подобными "прообразами" строя классической музыки.
Урбанистический, особенно ночной пейзаж большого города также отчетливо звучит пластическим эквивалентом для джаза. В особенности в той основной черте, которую здесь отмечал Гийере, а именно - в отсутствии перспективы.
Перспективу и ощущение реальной глубины уничтожают ночью моря световой рекламы. Далекие и близкие, малые (на переднем плане) и большие (на заднем), вспыхивающие и угасающие, бегающие и вертящиеся, возникающие и исчезающие - они в конце концов упраздняют ощущение реального пространства и в какие-то мгновения кажутся пунктирным рисунком цветных точек или неоновых трубок, движущихся по единой
119
поверхности черного бархата ночного неба. Так когда-то рисовались людям звезды в виде светящихся гвоздиков, вбитых в небосвод!
Однако фары мчащихся автомобилей и автобусов, отблески убегающих рельс, отсветы пятен мокрого асфальта и опрокинутые отражения в его лужах, уничтожая представления верха и низа, достраивают такой же мираж света и под ногами; и, устремляясь сквозь оба эти мира световых реклам, они заставляют их казаться уже не одной плоскостью, а системой кулис, повисших в воздухе, кулис, сквозь которые мчатся световые потоки ночного уличного движения.
И было одно звездное небо вверху и одно звездное небо внизу, - как рисовался мир действующим лицам из "Страшной мести" Гоголя, плывшим по Днепру между подлинным звездным небосводом вверху и его отражением в воде.
Таково примерно живое ощущение очевидца от вида улиц Нью-Йорка в вечерние и ночные часы. Но это же ощущение можно проверить и на фантастических фотографиях ночных городов!
*
* *Однако приведенный отрывок еще более интересен тем, в какой степени он рисует соответствия музыки и живописи не только друг другу, но обоих, вместе взятых, - самому образу эпохи и образу мышления тех, кто с этой эпохой исторически связан. Разве не близка ей вся эта картина, начиная с самого "отсутствия перспективы", которое кажется отражением исторической бесперспективности буржуазного общества, достигшего в империализме высшей стадии капитализма, и вплоть до образа этого оркестра, где "каждый за себя" и каждый старается выбиться и вырваться вперед из этого неорганического целого, из этого ансамбля самостоятельно вразброд мчащихся единиц, прикованных друг к другу только железной необходимостью общего ритма?
Ведь интересно, что все черты, которые перечисляет Гийере, уже встречались на протяжении истории искусств. Но во все этапы они стремятся к единой цельности и к высшему единству. И только в эпоху торжества империализма и начала декаданса в искусствах это центростремительное движение перебрасывается в центробежное, далеко расшвыривающее в стороны все эти тенденции к единству - тенденции, несовместимые с господством всепронизывающего индивидуализма. Вспомним Ницше
20:"Чем характеризуется всякий литературный декаданс? Тем, что целое уже не проникнуто более жизнью. Слово становится суверенным и выпрыгивает из предложения, предложение выдается вперед и затемняет
120
смысл страницы, страница получает жизнь не за счет целого, - целое уже не является больше целым... Целое вообще уже не живет более: оно является составным, рассчитанным, искусственным..." ("Вагнер как явление", "Der Fall Wagner", стр. 28, 1888).
Основной и характерный признак именно в этом, а не в отдельных частностях. Разве египетский барельеф не обходится без линейной перспективы? Разве Дюрер
2! и Леонардо да Винчи не пользуются, когда им это нужно, в одной картине несколькими перспективами и несколькими точками схода? (В "Тайной вечере" Леонардо да Винчи предметы на столе имеют иную точку схода, чем комната.) А у Яна Ван-Эйка22 в портрете четы Арнольфини - целых три главных точек схода. В данном случае это, вероятно, несознательный прием, но какая особая прелесть напряжения глубины этим достигнута в картине!Разве китайский пейзаж не отказывается от увода глаза в глубину и не распластывает угла зрения вширь, заставляя горы и водопады двигаться на нас?
Разве японский эстамп не знает сверхкрупных первых планов и выразительной диспропорции частей в сверхкрупных лицах? Могут возразить, что дело не в тенденции образцов прежних эпох к единству, а просто в ... в менее решительном диапазоне приложения той или иной черты по сравнению с эпохой декаданса.
Где, например, в прошлом можно найти такую же степень симультанности, как в приведенных случаях "сложного синтеза" в изображении предметов, показанных одновременно и сверху и снизу? Смешение планов вертикальных и горизонтальных?
Однако достаточно взглянуть на планы Коломенского дворца XVII века
23, чтоб убедиться, что он представляет собою проекцию и вертикальную и горизонтальную в одно и то же время!"Симультанные" (одновременные) декорации, например декорации Якулова
24 в "духе традиций кубизма", врезают друг в друга географически разобщенные места действий и интерьеры - в экстерьеры. Этим они удивляют зрителя еще в послеоктябрьский период театра ("Мера за меру" Шекспира в "Показательном театре"). А между тем они имеют совершенно точные прообразы в сценической технике XVI - XVII веков. Тогда на сцене "школьных театров"25 отдельные места действия совершенно так же врезались друг в друга, являя одновременно: пустыню и дворец, пещеру отшельника и трон царя, ложе царицы, покинутую гробницу и разверстые небеса!Больше того - прообразы имеют даже и такие "головокружительные" явления, как, например, портреты работы Ю. Анненкова
26, где на щеке121
профильной головы режиссера Н. Петрова изображена средняя часть его же лица, повернутая ... фасом!
Одна медная гравюра XVII века изображает св[ятого] Иоанна святейшего креста, глядящего искоса сверху на распятие. И тут же врезано в изображение вторично это же самое распятие, скрупулезно вырисованное в перспективном виде полусверху (с точки зрения святого!).
Но если и этого мало, то обратимся к ... Эль Греко
27. Вот случай, где точка зрения художника бешеным скачем носится взад и вперед, снося на один холст детали города, взятые не только с разных точек зрения, но с разных улиц, переулков, площадей!При этом это делается с полным сознанием собственной правоты; настолько, что на специальной табличке, вписанной в городской пейзаж, он подробно описывает эту операцию. Вероятно, во избежание недоразумений, ибо людям, знавшим город, его картина, вероятно, могла бы показаться таким же "левачеством", как портреты Анненкова или симультанные рисунки Бурлюка
28.Дело касается общего вида города Толедо, известного под названием "Вид и план города Толедо". Написан он между 1604 - 1614 годами и находится в Толедском музее.
На нем изображен общий вид города Толедо примерно с расстояния в километр с востока. Справа изображен молодой человек с развернутым планом города в руках. На этом же плане Греко поручил своему сыну написать те самые слова, которые нас здесь интересуют:
"... Я был вынужден изобразить госпиталь Дон Хуана де Тавера маленьким, как модель; иначе он не только закрыл бы собою городские ворота де Визагра, но и купол его возвышался бы над городом. Поэтому он оказался размещенным здесь, как модель, и перевернутым на месте, ибо я предпочитаю показать лучше главный фасад, нежели другой (задний) -впрочем, из плана видно, как госпиталь расположен в отношении города..."
В чем же разница? Изменены и реальные соотношения размеров
, и часть города дана в одном направлении, отдельная же деталь его - в прямо противоположном!Вот это-то обстоятельство и заставляет меня вписать Эль Греко в число предков... киномонтажа. Если в этом случае он своеобразный предтеча... кинохроники и перемонтаж его скорее информационный, то в другом виде города Толедо, в знаменитой "Буре над Толедо" (относящейся к тем же годам), он делает не менее радикальный монтажный переворот реального пейзажа, но здесь уже под знаком того эмоционального урагана, чем так примечательна эта картина.
122
*
* *Однако Эль Греко возвращает нас к нашей основной теме, как раз его живопись имеет своеобразный точный музыкальный эквивалент в одной разновидности испанского музыкального фольклора. Так, Эль Греко примыкает и к проблеме хромофонного монтажа, ибо этой музыки не знать он не мог, а то, что он делает в живописи, уж очень близко по духу тому, чем характерен этот так называемый "Канте Хондо" (Cante Jondo).
На это сходство и сродство обоих по духу (конечно, вне всяких кинематографических соображений!) указывают Лежандр и -Гартман в предисловии к своей капитальной монографии об Эль Греко.
Они начинают с того, что приводят свидетельство Гизеппе Мартинеца о том, что Эль Греко часто приглашал в свой дом музыкантов. Мартинец порицает это как "излишнюю роскошь". Но надо полагать, что эта близость музыки к живописной работе не могла не сказаться на характере работы живописца, который согласно своему характеру выбирал себе и музыку.
Лежандр и Гартман прямо пишут:
"... Мы охотно верим, что Эль Греко любил "Канте Хондо", и мы поясним, в какой мере его картины составляют в живописи эквивалент тому, чем является "Канте Хондо" в музыке!"
Дальше они цитируют характеристику напевов "Канте Хондо" по брошюре Мануэля де Фалья, вышедшей в 1922 году.
Этот автор прежде всего напоминает о трех факторах, влиявших на историю музыки в Испании: принятие испанской церковью византийского напевного строя, вторжение арабов и иммиграция цыган. И в этом сопоставлении он подчеркивает родственность "Канте Хондо" с восточными напевами.
"... В обоих случаях имеют место энгармоничность
29, то есть более мелкое разделение или подразделение интервалов, чем в принятой у нас гамме; кривая мелодии не скандирована размером; мелодический напев редко выходит за пределы сексты30, но и эта секста состоит не из девяти полутонов, как в нашем темперированном строе, поскольку энгармоническая гамма значительно увеличивает количество звуков, которыми пользуется певец; использование одной и той же ноты повторяется с настойчивостью заклинания и часто сопровождается верхней или нижней апподжиатурой (appogiatura)31. Таким образом оказывается, что хотя цыганская мелодия богата орнаментальными добавлениями, как и примитивный восточный напев, однако эти усиления вступают лишь в определенные моменты, как бы акцентируя расширение или порывы чувства, вызванные эмоциональной стороной текста".Именно таково же и само исполнение:
123
"... Первое, что поражает иностранца, впервые слушающего "Канте Хондо", - это необычайная простота певца и аккомпанирующего ему гитариста. Никакой театральности и никакой искусственности. Никаких специальных костюмов: они одеты в свои обыденные одежды. Лица их бесстрастны, и подчас кажется, что всякая сознательность покинула их взоры, лишенные всякого выражения.
Но под этим покровом остывшей лавы кипит затаенный огонь. В кульминационный момент выражения чувств (тема которых была пояснена вначале несколькими малозначащими словами) внезапно из груди певца к его горлу подкатывает порыв такой силы и страсти, что кажется, вот-вот лопнут голосовые связки, и в модуляциях, протяжных и напряженных, как агония, певец изливает порыв своей страсти до тех пор, покуда аудитория не может себя более сдерживать и разражается криками восторга..."
А вот Эль Греко; здесь та же картина:
"... Из монохромного окружения, где "интервалы" цвета разделены на мельчайшие тональные подразделения, где основные модуляции вьются до бесконечности, - внезапно вырываются в цвете те вспышки, те взрывы, те зигзаги, которые так шокируют бесцветные и посредственные
умы. Мы слышим Канте Хондо живописи - выражение Востока и Испании; Восточного, вторгшегося в Западное..." ("Domenikos Theotokopulos called El Greco" by M.Legendre and A.Hartmann, стр. 16, 26, 27, 1937).Другие исследователи Эль Греко (Морис Баррес, Мейер-Греффе, Карер, Виллумсен и др.), никак не ссылаясь на музыку, однако все описывают почти такими же словами характер живописного эффекта полотен Эль Греко. Кому же довелось иметь счастье видеть эту живопись собственными глазами, подтвердит это живым впечатлением!
Не систематизированы, но очень любопытны подобные же явления у Римского-Корсакова (см. В. В. Ястребцев, "Мои воспоминания о Николае Александровиче Римском-Корсакове". Выпуск 1-й, стр. 104-105, 1917. Запись от 8 апреля 1893 года):
"В течение вечера снова зашла речь о тональностях, и Римский опять повторил, что диезные строи в нем лично вызывают представления цветов, а бемольные - ему рисуют настроения или же большую или меньшую степень тепла, что чередование cis-moll с Des-dur в сцене "Египта" из "Млады"
32 для него ничуть не случайное, а, наоборот, предумышленно введенное для передачи чувства тепла, так как цвета красные всегда в нас вызывают представления о тепловых ощущениях, тогда как синие и фиолетовые носят скорее отпечаток холода и тьмы. Поэтому, быть может, - сказал Корсаков, - гениальное вступление к "Золоту Рейна" Вагнера33, именно благодаря своей странной для данного случая тональности124
(Es-dur) производит на меня какое-то мрачное впечатление. Я бы, например, обязательно переложил этот форшпиль в E-dur..."
Мимоходом можем здесь вспомнить живописные симфонии Уистлера
34 (1834 - 1903): "Harmony in Blue and Yellow", "Nocturne in Blue and Silver", "Nocturne in Blue and Gold", "Simphony in White", ? 1, ? 2, ? 3, ? 4 (["Гармония в голубом и желтом"]; "Ноктюрны: голубой с серебром и голубой с золотом"; "Симфония в белом" ? 1,2, 3, 4, 1862 - 1867).Но звукоцветовые соотношения имеют место даже у столь мало почтенной фигуры, как Беклин
35. Макс Шлезингер ("Geschichte des Symbols, ein Versuch von Max Schlesinger", S. 376) пишет:"Для него, вечно задумывавшегося над тайной цвета, как пишет Флерке (Floerke)
36, все краски обладали речью, и, наоборот, все, что он воспринимал, переводилось им на язык цвета... Звук трубы был для него цвета красной киновари..."Как видим, явление это более чем повсеместное, и, исходя из него, вполне уместно требование Новалиса.
"... Никогда не следовало бы рассматривать произведения пластических искусств вне сопровождения музыки; а музыку слушать не в обстановке соответственно декорированных залов..."
Что же касается обстоятельного "алфавита цветов", то по этому поводу нельзя, к сожалению, не присоединиться к глубоко презираемому мною пошляку Франсуа Коппе
37, когда он пишет:Тщетно весельчак Рембо
В форме требует сонетной,
Чтобы буквы И, Е, О
Флаг составили трехцветный.
Тем не менее в этом вопросе приходится разбираться, ибо вопрос о подобных абсолютных соответствиях все еще волнует умы, и даже умы американских кинематографистов. Так, несколько лет назад мне пришлось читать весьма вдумчивые соображения какого-то американского журнала о том, что звучанию пикколо
38 непременно отвечает... желтый цвет!Но пусть этот желтый (или не желтый) цвет, которым якобы звенит это пикколо, послужит нам мостиком перехода к тому, как не в отвлеченных абстракциях, а в реальном художественном творчестве художник, создавая свои образы, обращается с цветом.
Это и составит тему нашей следующей статьи.
125
II
В предыдущей статье о вертикальном монтаже мы подробно коснулись вопроса о поисках "абсолютных" соответствии звука и цвета. Чтобы внести ясность в этот вопрос, обследуем другой вопрос, близко с ним соприкасающийся. А именно: вопрос об "абсолютных" соответствиях между определенными эмоциями и определенными цветами.
Для разнообразия проследим эту тему не столько на рассуждениях и высказываниях по этому поводу, сколько на живой эмоционально впечатляющей деятельности художников в области цвета.
Для удобства выдержим все наши примеры в одной и той же цветовой тональности и, выбрав для этого, например, желтый цвет, распишем из этих примеров некое подобие "желтой рапсодии".
*
* *Начнем наши примеры с самого крайнего случая.
Мы говорим о "внутреннем звучании", о "внутренней созвучности линий, форм, красок". При этом мы имеем в виду созвучность с чем-то, соответствие чему-то и в самом внутреннем звучании какой-то смысл внутреннего ощущения. Пусть смутный, но направленный в сторону чего-то в конечном счете конкретного, что стремится выразиться в красках, в цвете, в линиях и формах.
Однако существуют точки зрения, усматривающие в таком положении недостаток "свободы" ощущений. И, в противовес нашим взглядам и представлениям, они выставляют подобное беспредметно смутное "абсолютно свободное" внутреннее звучание (der innere Klang) не как путь и средство, но как самоцель, как предел достижений, как конечный результат.
В таком виде эта "свобода" - прежде всего свобода от... здравого смысла - единственная, между нами говоря, свобода, абсолютно достижимая в условиях буржуазного общества.
Продуктом разложения этого общества на высших империалистических ступенях его развития и является Кандинский
39 - носитель подобного идеала и автор того произведения, отрывком из которого мы и начнем нашу "желтую рапсодию" образцов.Цитирую по сборнику "Der blaue Reiter" (Мюнхен), сыгравшему такую большую роль в вопросах теоретических и программных обоснований так называемых "левых течений" в искусстве.
126
"Служа как бы дополнительным цветом "Голубому всаднику" обложки сборника, эта "Сценическая композиция" ("Blihnenkom-position") Кандинского так и названа... "Желтое звучание" ("Der gelbe Klang").
Это "Желтое звучание" является программой сценического воплощения смутных авторских ощущений в игре красок, понятых как музыка, в игре музыки, понятой как краски, в игре людей... никак не понятых.
В смутности и неопределенности всегда в конце концов прощупывается то, что наиболее туго поддается формулировкам, - мистическое "зерно". Здесь оно даже религиозно окрашено, завершаясь картиной (шестой):
"... Голубой матовый фон...
В середине светло-желтый Великан с белым, неясным лицом и большими круглыми черными глазами...
Он медленно подымает руки вдоль туловища - ладонями книзу - и вырастает при этом вверх...
В тот момент, когда он достиг полной высоты сцены и его фигура становится похожей на крест, внезапно становится совсем темно. Музыка выразительна и подобна тому, что происходит на сцене..." (стр. 131).
Отсутствующее конкретное содержание произведения в целом передать невозможно ввиду отсутствия как конкретности, так и... содержания.
Поэтому приведем лишь несколько примеров воплощения авторских чувств игрой "желтых звучаний":
"...Картина вторая.
Голубой туман постепенно уступает место резкому белому свету. В глубине сцены, по возможности, крупный ярко-зеленый холм, совсем круглый.
Фон - фиолетовый, довольно светлый.
Музыка резкая, бурная. Отдельные тона в конце концов поглощаются бурным звучанием оркестра. Внезапно наступает полная тишина. Пауза...
...Фон внезапно становится грязно-коричневым. Холм становится грязно-зеленым. И в самой середине холма образуется неопределенное черное пятно, которое проступает то отчетливо, то смазанно. С каждым видоизменением его блекнет яркий белый свет, переходя толчками в серый. Слева на холме внезапно появляется большой желтый цветок. Издали он похож на большой изогнутый огурец и становится все ярче и ярче. Стебель цветка длинный и тонкий. Только один длинный, узкий лист растет из его середины и направлен в сторону. Длинная пауза...
Далее при полной тишине цветок начинает медленно качаться справа налево. Позже вступает и лист, но не вместе с цветком. Еще позже качаются оба, но в разных темпах. Цветок сильно вздрагивает и застывает. В музыке звучания продолжаются. В это время слева входит много
127
людей в ярких длинных бесформенных одеждах (один совсем синий, другой - красный, третий - зеленый и т. д., отсутствует только желтый). Люди держат в руках очень большие белые цветы такой же формы, как желтый цветок... Они говорят на разные голоса и декламируют.
...Внезапно вся сцена теряет ясность очертаний, погружаясь в матовый красный цвет...
Полная темнота сменяется ярко-синим светом...
...Все становится серым (все цвета исчезают!). Только желтый цветок сияет еще ярче!
Постепенно вступает оркестр и покрывает голоса. Музыка становится беспокойной, делает скачки от фортиссимо к пианиссимо...
...Цветок судорожно вздрагивает. Потом внезапно исчезает. Так же внезапно все белые цветы становятся" желтыми...
...К концу цветы как бы наливаются кровью. Люди отбрасывают их далеко от себя и, тесно сгрудившись, подбегают к авансцене... Внезапно темнеет.
Картина третья.
В глубине: две красно-коричневые скалы; одна из них острая, другая -круглая, крупнее первой. Задник - черный. Между скалами стоят Великаны (действующие лица первой картины) и беззвучно шепчут что-то друг другу; то попарно, то сближая все головы. Тела при этом остаются неподвижными. В быстрой смене на них падают резко окрашенные лучи (синий, красный, фиолетовый, зеленый - меняются по нескольку раз). Затем все лучи встречаются на середине, смешиваются. Все неподвижно. Великанов
почти не видно. Внезапно исчезают все краски. На мгновение все черно. Потом по сцене разливается бледно-желтый свет, который постепенно усиливается до тех пор, пока вся сцена становится ярко-лимонно-желтого цвета. С возрастанием интенсивности света музыка уходит вглубь и становится все темнее (это движение напоминает улитку, втягивающуюся в свою раковину).Во время этого двойного движения на сцене не должно быть никаких предметов, ничего, кроме света..." и т. д. и т. д. (стр. 123 - 126).
Метод - показывать лишь абстрагированные "внутренние звучания", освобожденные от всякой "внешней" темы, - очевиден.
Метод этот сознательно стремится к разъединению элементов формы и содержания: упраздняется все предметное, тематическое, оставляется только то, что в нормальном произведении принадлежит крайним элементам формы. (Ср. "программные" высказывания Кандинского там же.)
Отказать подобным композициям в неясном, смутном, - в основном неопределенно беспокоящем воздействии трудно. Но... и только.
128
Но вот делаются попытки эти неясные и смутные цветовые ощущения поставить в какие-то, правда, тоже смутные, отдаленно смысловые соотношения.
Так поступает с подобными "внутренними звучаниями" Поль Гоген
40.В его рукописи "Choses Diverses" есть такой отрывок под заглавием "Рождение картины":
"Манао тупапау" - "Дух мертвых бодрствует".
"...Молодая канакская девушка
41 лежит на животе, открывая одну сторону лица, искаженного испугом. Она отдыхает на ложе, убранном синим "парео" и желтой простыней, написанной светлым хромом. Фиолетово-пурпуровый фон усеян цветами, похожими на электрические искры, у ложа стоит несколько странная фигура.Я был увлечен формой и движениями; рисуя их, я не имел никакой другой заботы, как дать обнаженное тело. Это не более как этюд обнаженного тела, немного нескромный, и тем не менее я хотел создать из него целомудренную картину, передающую дух канакского народа, его характер и традиции.
Канак в своей жизни интимно связан с "парео"; я им воспользовался как покрывалом постели. Простыня из материи древесной коры должна быть желтой, потому что этот цвет возбуждает у зрителей предчувствие чего-то неожиданного, потому что он создает впечатление света лампы, что избавляет меня от необходимости вводить настоящую лампу. Мне нужен фон, несколько пугающий. Фиолетовый цвет вполне подходит.
Вот музыкальная сторона картины, данная в повышенных тонах.
В этом несколько смелом положении что может делать юная канакская девушка, обнаженная, в постели? Готовиться к любви? Это вполне в ее характере, но это нескромно, и я этого не хочу. Спать? Любовное действие, значит, закончено, что опять-таки нескромно. Я вижу только страх. Но какой вид страха? Конечно, не страх Сусанны, застигнутой старцами
42. Его не существует в Океании."Тупапау" (дух мертвых) для этого предназначен. Канакам он внушает непрестанный страх. Ночью они всегда зажигают огонь. Никто не ходит по улицам, когда нет луны; если же есть фонарь, они выходят группами.
Напав на мысль о "тупапау", я всецело отдаюсь ему и делаю из него основной мотив картины. Мотив обнаженного тела отходит на второй план.
Что за привидение может явиться канакской девушке? Она не знает театра, не читает романов и, когда она думает о мертвеце, она в силу необходимости думает о ком-нибудь, ею уже виденном. Мое привидение может быть только маленькой старушкой. Ее рука вытянута как бы для того, чтобы схватить добычу.
129
Декоративное чувство побудило меня усеять фон цветами. Это цветы "тупапау", они светятся - знак, что привидение интересуется вами. Таитянские верования.
Название "Манао тупапау" имеет два значения: "она думает о привидении" или "привидение думает о ней".
Подытожим. Сторона музыкальная: горизонтальные волнистые линии, сочетания оранжевого с синим, соединенные с их производными, желтыми и фиолетовыми оттенками, и освещенные зеленоватыми искрами. Сторона литературная: душа живой женщины, тяготеющая к духу мертвых. Ночь и день.
Очерк происхождения картины написан для тех, кто постоянно хочет знать "почему" и "потому что".
А иначе это просто океанский этюд обнаженного тела..."
Тут все, что нам нужно. И "музыкальная сторона картины, данная в повышенных тонах". И психологическая расценка красок: "пугающий" фиолетовый и интересующий нас желтый цвет, возбуждающий в зрителе "предчувствие чего-то неожиданного".
А вот как пишет о том же желтом цвете другой художник, Ю. Бонди
43, в связи с постановкой "Виновны - невиновны" Стриндберга44 в 1912 году:"...При постановке пьесы Стриндберга была попытка ввести декорации и костюмы в непосредственное участие в действии пьесы.
Для этого нужно было, чтобы все, каждая мелочь в обстановке выражала что-нибудь (играла свою определенную роль). Во многих случаях, например, прямо пользовались способностью отдельных цветов определенно действовать на зрителя. Тогда некоторые лейтмотивы, проходившие в красках, как бы открывали (показывали) более глубокую символическую связь отдельных моментов. Так, начиная с третьей картины, постепенно вводился желтый цвет. Первый раз он появляется, когда Морис и Генриетта сидят в "Auberge des Adrets"
* ; общий цвет всей картины - черный; черной материей только что завешано большое разноцветное окно; на столе стоит шандал с тремя свечами. Морис вынимает галстук и перчатки, подаренные ему Жанной. Первый раз появляется желтый цвет. Желтый цвет становится мотивом "грехопадения" Мориса (он неизбежно при этом связан с Жанной и Адольфом).В пятой картине, когда после ухода Адольфа Морису и Генриетте становится очевидным их преступление, на сцену выносят много больших желтых цветов. В седьмой картине Морис и Генриетта сидят (измученные) в аллее Люксембургского сада. Здесь все небо ярко-желтое,
_____________
130
и на нем силуэтами выделяются сплетенные узлы черных ветвей, скамейка и фигуры Мориса и Генриетты... Нужно заметить, что пьеса вообще была трактована в мистическом плане..."
Здесь выставляется положение о способности "отдельных цветов определенно действовать" на зрителя, связь желтого цвета с грехом, воздействие желтого цвета на психику. И говорится о мистике...
Напомним вскользь, что такими же ассоциациями, если и не обязательно "греховными", то все же роковыми и мертвящими, напоен желтый цвет, например, и у Анны Ахматовой
45: "...Желтой люстры безжизненный зной..." - пишет она в "Белой стае" (1914). В таком же аспекте желтый цвет проходит и через стихотворения разных периодов, вошедшие в ее сборник 1940 года:...Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем...(стр. 288)
...Круг от лампы желтый...
Шорохам внимаю.
Отчего ушел ты?
Я не понимаю...(стр. 286)
...Вижу выцветший флаг над таможней
И над городом желтую муть.
Вот уж сердце мое осторожней
Замирает, и больно вздохнуть...(стр. 249)
...От любви твоей загадочной,
Как от боли, я кричу,
Стала желтой и припадочной, Еле ноги волочу...(стр.
10
Но для того чтобы сделать желтый цвет уж вовсе "страшным", приведем еще один пример.
Мало кто из писателей так остро чувствует колорит, как Гоголь.
И мало кто из писателей более поздней эпохи так остро чувствовал Гоголя, как Андрей Белый
46.И вот в своем кропотливейшем исследовании о Гоголе "Мастерство Гоголя" (1934) Белый подвергает подробному анализу и видоизменения в цветовой палитре Гоголя на протяжении всей его творческой биографии. И что же оказывается? Линия нарастания процентного содержания именно желтого цвета от жизнерадостных "Вечеров на хуторе" и "Тараса
131
Бульбы" к зловещей катастрофе второго тома "Мертвых душ" дает самый крупный количественный скачок.
Для первой группы (названные произведения) средний процент желтого цвета всего лишь 3,5.
Во второй группе (повести и комедии) его уже 8,5%. Третья группа (первый том "Мертвых душ") дает 10,3%. И, наконец, второй том "Мертвых душ" дает целых 12,8%. Близкий к желтому зеленый цвет дает соответственно: 8,6 - 7,7 - 9,6 - 21,6%. И к концу они вместе взятые дают таким образом вообще более трети всей палитры!
С другой же стороны, сюда же можно было бы, как ни странно, причислить еще 12,8%, выпадающих на... "золото". Ибо, как правильно пишет Белый, - "...золото второго тома - не золото сосудов, шлемов, одежд, а золото церковных крестов, подымающих тенденцию православия;
"золотой" звон противостоит здесь "красному звону" казацкой славы; падением красного, ростом желтого и зеленого второй том ("Мертвых душ") оттолкнут от спектра "Вечеров..." (стр. 158).
Еще страшнее покажется нам "роковой" оттенок желтого цвета, если мы вспомним, что точь-в-точь та же цветовая гамма доминирует и в другом трагически закатном произведении - в автопортрете Рембрандта
47 шестидесяти пяти лет.Чтобы избежать всякого обвинения в пристрастности изложения, я приведу здесь не собственное описание колорита картины, но дам его в описании Аллена из статьи его о соотношении эстетики и психологии:
"...Краски здесь темные и тупые, наиболее светлые в центре. Там сочетание грязно-зеленого с желто-серым, смешанное с бледно-коричневым;
кругом все почти черное..."
Эта гамма желтого, расходящегося в грязно-зеленое и блекло-коричневое, еще оттеняется контрастом низа картины:
"...только снизу виднеются красноватые тона; тоже приглушенные и перекрытые, однако они тем не менее, благодаря плотности слоя и относительно большей цветовой интенсивности, создают отчетливо выраженный контраст ко всему остальному..."
Кстати же невозможно не вспомнить, до какой степени бездарно сделан облик старого Рембрандта в фильме Лаутона и Корда "Рембрандт"
48. Верно одетому и правильно загримированному Лаутону не найдено даже отдаленного намека соответствия света к той трагической гамме, которая характерна для цветоразрешения этого портрета!Здесь, пожалуй, еще очевиднее, что желтый цвет и, вероятно, многое из того, что ему приписывают, обязан своей характеристикой частично чертам своего непосредственного спектрального сосуда - зеленого цвета. Зеленый же цвет одинаково тесно связывается как с чертами жизни - зе-
132
леные побеги листвы, листва и сама "зелень", так и с чертами смерти и увядания - плесень, тина, оттенки лица покойника.
Примеров можно было бы громоздить сколько угодно, но и этих уже достаточно для того, чтобы опасливо спросить - а нет ли в самой природе желтого цвета действительно чего-то рокового и зловещего? Не глубже ли это условной символики и подобных привычных или случайных ассоциаций?
За ответом на такой вопрос лучше всего обратиться к истории возникновения символических значений того или иного цвета и прислушаться к тому, что там будет сказано по этому поводу. Об этом можно прочесть в очень обстоятельной книжке Фредерика Порталя, написанной еще в 1837 году и переизданной в 1938 году (Frederic Portal, "Des Couleurs symboliques dans l'Antiquite, le Moyen-ag
e et les temps modernes", Paris, 1938).Вот что говорит этот большой знаток данного вопроса о "символическом значении" интересующего нас желтого цвета, а главное, о происхождении той идеи вероломства, предательства и греха, которые с ним связываются.
"...Религиозная символика христианства обозначала золотом и желтым цветом слияние души с богом и одновременно же противоположное ему - духовную измену.
Распространенные из области религии на бытовой обиход золото и желтый цвет стали соответственно обозначать супружескую любовь и одновременно противоположное ей - адюльтер, разрывающий узы брака.
Золотое яблоко для Греции было эмблемой любви и согласия и одновременно же противоположного ему - несогласия и всех тех бед, которые оно влечет за собой.
Суд Париса
49 - наглядная этому иллюстрация. Совершенно так же Атланта50, подбирающая золотое яблоко, сорванное в саду Гесперид51, побеждена на состязании по бегу и становится наградой победителя..." (Creuzer "Religions de 1'Antiquite", т. II, р. 660)52.Здесь интересна одна черта, свидетельствующая о действительно глубокой древности происхождения этих цветовых поверий: это амбивалентность
53 придаваемых им значений. Состоит это явление в том, что на ранних стадиях развития одно и то же представление, обозначение или слово означает одновременно обе взаимно исключающие противоположности.В нашем случае это одновременно и "союз да любовь" и "адюльтер".
На одной из лекций покойного академика Марра, которую мне довелось слушать, он приводил этому пример на корне "кон", который одновременно связан с представлением конца (кон-ец) и... начала (ис-кон-и).
133
То же самое в древнееврейском языке, где "Кадыш" означает одновременно и "святой", и "нечистый" и т. д. и т. д. Пример этому можно найти даже в приведенном выше отрывке из Гогена, где, как он пишет, "Манао тупапау" имеет одновременно оба значения: "она думает о привидении" и "привидение думает о ней".
Оставаясь же в кругу интересующих нас желтых и золотых представлений, можем еще отметить, что согласно тому же закону амбивалентности золото как символ высшей ценности одновременно же служит любимой метафорой для обозначения.... нечистот. Не только в народном обиходе Западной Европы, но и у нас: хотя бы в термине "золотарь" для людей совершенно определенной профессии.
Таким образом, мы видим, что первая, "положительная" часть чтения своим золотым или желтым блеском еще как-то непосредственно чувственно обоснована и что в нее совершенно естественно вплетаются достаточно броские ассоциации (солнце, золото, звезды).
Так, в таких именно ассоциациях пишет о желтом цвете, например, даже Пикассо
54:"...Есть художники, которые превращают солнце в желтое пятно, но есть и другие, которые благодаря своему искусству и мудрости превращают желтое пятно в солнце..."
И как бы от имени таких именно художников пишет в "Письмах" Ван-Гог
55:"...Вместо того чтобы точно передавать то, что я вижу перед собою, я обращаюсь с цветом произвольно. Это потому, что я прежде всего хочу добиться сильнейшей выразительности... Представь себе, что я пишу портрет знакомого художника... Допустим, что он белокурый... Сперва я его напишу таким, какой он есть, самым правдоподобным образом; но это только начало. Этим картина никак не закончена. Тут-то я только и начинаю произвольную расцветку: я преувеличиваю белокурость волос, я беру цвета - оранжевый, хром, матовый лимонно-желтый. Позади его головы вместо банальной комнатной стенки я пишу бесконечность; я делаю простой фон из самого богатого голубого тона, какой способна дать палитра. И таким образом через это простое сопоставление белокурая освещенная голова, размещенная на голубом фоне, начинает таинственно сиять подобно звезде в темной глубине эфира..."
В первом случае мажорное положительное начало желтого цвета связывает его с золотом (Пикассо), во втором случае - со звездой
(Ван-Гог).Но возьмем еще один пример желтого золота, и тоже в образе белокурых волос - на этот раз белокурых волос самого поэта.
Есенин
56 пишет:134
Не ругайтесь. Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова... (стр
...Вдруг толчок... и из
саней прямо на сугроб я.
Встал и вижу: что за черт - вместо бойкой тройки...
Забинтованный лежу на больничной койке.
И заместо лошадей, по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.
На лице часов в усы закрутились стрелки.
Наклонились надо мной сонные сиделки.
Наклонились и хрипят: "Эх ты, златоглавый,
Отравил ты сам себя горькою отравой..." (стр. 64)
...Не больна мне ничья измена,
И не радует легкость побед, -
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет... (стр. 66)
Любопытно, что, несмотря на очевидный мажор золота вообще, здесь оно трижды связано с минорной темой: с тяжестью, с болезнью, с увяданием.
Впрочем, здесь это не удивительно и на этом частном случае ни с какой амбивалентностью не связано.
Для "деревенского" Есенина золото связано с ощущением увядания через непосредственный образ осени.
Любовь хулигана
Это золото осеннее,
Эта прядь волос белесых -
Все явилось, как спасенье
Беспокойного повесы...(стр. 51)
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым... (стр. 5)
135
Отсюда же, обобщаясь, желтый цвет становится цветом трупа, скелета, тлена:
Песнь о хлебе
...Наше поле издавна знакомо
С августовской дрожью поутру.
Перевязана в снопы солома,
Каждый сноп лежит, как желтый труп. (стр. 13)
Ты прохладой меня не мучай
И не спрашивай, сколько мне лет,
Одержимый тяжелой падучей,
Я душой стал, как желтый скелет. (стр. 55)
...Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только желтый тлен и сырость. (стр. 53)
И, наконец, желтый цвет становится уже обобщенно цветом грусти вообще:
...Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть... (стр. 37)
Никаких обобщений на все творчество Есенина в целом я никак не собираюсь из этого делать - все девять примеров взяты из одного только сборника: Есенин, "Стихи" (1920 - 1924), изд. "Круг".
Однако проследим далее перипетии значений желтого цвета.
И тут приходится сказать, что, несмотря на частые случаи, вроде Есенина, "отрицательное" чтение желтого цвета в основном не имеет даже таких "непосредственно чувственных" предпосылок, какими располагает "мажорное" чтение, и вырастает главным образом все же как противоположность первому.
"...Средние века, - пишет далее Порталь, - автоматически сохранили эти традиции в отношении желтого цвета..."
136
Но здесь интересно то, что один тон, который в древности выражал одновременно обе противоположности, здесь уже "рационализован" и переходит в различие
двух оттенков, из которых каждый обозначает только одну определенную противоположность:"...Мавры различали противоположные символы по двум различным нюансам желтого цвета. Золотисто-желтый означал "мудрый" и "доброго совета", а блекло-желтый - предательство и обман..."
Еще интереснее толковали дело ученые раввины испанского средневековья:
"...Раввины полагали, что запрещенным плодом с древа познания добра и зла был... лимон, противопоставляющий свой бледный оттенок и едкий вкус золотому цвету и сладости апельсина - этого "золотого яблока", согласно латинскому обозначению..."
Так или иначе, это подразделение сохраняется и дальше:
"В геральдике золото обозначает любовь, постоянство и мудрость, а желтый цвет - противоположные ему качества: непостоянство, зависть и адюльтер..."
Отсюда шел обычай во Франции марать двери предателей в желтый цвет (при Франциске I этому подвергли Карла Бурбонского
57 за его предательство). Официальный костюм палача в Испании должен был состоять из двух цветов: желтого и красного, где желтый цвет обозначал предательство виновного, а красный - возмездие. И т. д. и т. д.Вот те "мистические" основы, из которых символисты желали извлечь "извечные" значения цветов и непреложность их воздействий на психику воспринимающего человека.
И вместо с тем какая цепкость сохранения традиций в этом деле!
Именно в этом смысле его сохраняет, например, и парижское "арго" -этот бесконечно живой, остроумный, образный народный язык парижан. Раскроем на слове "jaune" (желтый) страницу 210 одного из многочисленных словарей арго ("Parisismen". Alphabetisch geordnete Sammlung der eigenartigen Ausdrucke des Pariser Argot von prof. D-r Cesaire Villatte, 1912).
"...Желтый цвет - цвет обманутых мужей. Например, выражение "жена окрашивала его с ног до головы в желтый цвет" ("Sa femme le pas-sait en jaune de la tete aux pieds") означает, что жена ему изменяла. "Желтый бал" (Un bal jaune) - бал рогоносцев...".
Но мало этого. Это же обозначение предательства берется шире: "... с) желтый - член антисоциалистического профсоюза" (там же).
Последнее встречается даже и в нашем обиходе. Мы говорим о "желтых профсоюзах" и о Втором - "желтом" - интернационале. Мы со-
137
храняем как бы по традиции этот цвет предательства для обозначения предателей рабочего класса!
Двоюродные братья парижского "арго" - "сленг" и "кант" Англии и Америки обходятся с желтым цветом совершенно в том же смысле.
Согласно словарю 1725 г[ода] (A new Canting Dictionary, 1725) в Англии: желтый - ревнивый (yellow - jealous).
В XVII и XVIII веках там же, в Англии, выражение: "он носит желтые штаны" или "желтые чулки" означает, что он ревнует (См. Е. Partridge, "A Dictionary of Slang and Unconventional English". Lnd., 1937).
В американском, сленге желтый цвет обозначает еще и трусость (yellow - coward); бояться (become yellow - be afraid); трусливо (yellow -livered - cowardly); ненадежность (yellow - streak - undependableness) и т.д.
Так излагает дело словарь "A Dictionary of American slang" by Maurice H. Wessen, 1936.
Такое же применение желтого цвета можно найти и в тексте американских сценариев.
Например, в "Трансатлантической карусели"
58 ("Transatlantic Merry-go-Round") Джозефа Марч и Герри Конн (фильм выпущен "Юнайтед-Артистс") разговор сыщика Мак Киннэя с Нэдом, подозреваемым в убийстве:"...Hэд (взволнованно
): Я рад, что он убит, - да - я сам думал убить его, но не убил.Мак Киннэй: Почему?
Нэд : Потому, вероятно, что я стал желтым... (Because, I was yellow, I guess)".
Наконец, и тут и там желтое вбозначает фальшивое: yellow stuff -фальшивое золото (см. "Lond
inismen - Slang und Cant" von H. Baumann).Там же желтым обозначается и продажность, например, в ставшем ходким повсюду обозначении "желтая пресса".
Однако, пожалуй, самое интересное в этом "символическом осмыслении" желтого цвета - это то, что, по существу, не сам даже желтый цвет, как цвет. Их определял.
В древности, как мы только что показали, это чтение возникало как автоматический антипод солнечно мотивированному положительному "звучанию" желтого цвета.
В средние же века его отрицательная "репутация" слагалась в первую очередь из суммы "привходящих" и уже не узко цветовых признаков. "Блеклость" вместо "блеска" у арабов. "Бледность вместо "яркости" у раввинов. И у них же в первую очередь... вкусовые ассоциации:
"предательский" кислый вкус лимона в отличие от сладости апельсина!
138
Интересно, что в арго сохранилась и эта подробность: есть такое популярное французское выражение... "желтый смех" ("Rire jaune"). Бальзак в маленькой книжечке 1846 года "Paris marie, philosophic de la vie conjugale" ("Философия супружеской жизни") так называет третью главу:
"Des risettes jaunes"
*. Пьер Мак Орлан59 так называет целый роман ("Le Rire jaune"). Это же выражение приводит и упомянутая выше книжечка "Parisismen". Что же оно означает?Точным соответствием ему в русском языке будет выражение: "кислая улыбка". (В немецком языке то же самое: "ein saueres Lachein". Sauer - кислое). Интересно, что там, где француз ставит цветовое обозначение, русский и немец пользуют соответствующее ему по традиции обозначение вкусовое. Лимон испанских раввинов как бы расшифровывает эту неожиданность!
Самую же традицию разделения желтого цвета на два значения, согласно привходящим элементам, продолжает и Гете. Предметно он их связывает с разным характером фактур; психологически же - с новой парой понятий: "благородства" (edel) и "неблагородства" (unedel), в которых звучит элемент уже не только физических предпосылок, но отголоски социальных и классовых мотивов!
В "Учении о цветах" в разделе "Чувственно-нравственное действие цвета" читаем:
"...Желтый.
765. Это цвет, ближайший к свету...
766. В своей высшей чистоте он обладает всегда светлой природой и отличается ясностью, веселостью, нежной прелестью.
767. В этой степени он приятен в качестве обстановки - будет ли это платье, занавес, обои. Золото в совершенно не смешанном состоянии дает нам, особенно когда присоединяется еще и блеск, новое и высокое понятие об этом цвете; точно так же насыщенный желтый цвет, выступая на блестящем шелке, например на атласе, производит впечатление роскоши и благородства...
770. Если в своем чистом и светлом состоянии этот цвет приятен и радует нас и в своей полной силе отличается ясностью и благородством, то зато он крайне чувствителен и производит весьма неприятное действие, загрязняясь или до известной степени переходя на отрицательную сторону. Так, цвет серы, впадающий в зеленый, заключает в себе что-то неприятное.
771. Так неприятное действие получается, когда желтую окраску придают нечистым и неблагородным поверхностям, как обыкновенному
____________
139
сукну, войлоку и т. п., где этот цвет не может появиться с полной энергией. Незначительное и незаметное движение превращает прекрасное впечатление огня и золота в ощущение гадливости, и цвет почета и радости переходит в цвет позора, отвращения и неудовольствия. Так могли возникнуть желтые шляпы несостоятельных должников, и даже так называемый цвет рогоносцев является, собственно, только грязным желтым цветом..."
Однако остановимся здесь на мгновение и вкратце добавим сюда же данные о зеленом цвете - этом ближайшем соседе желтого цвета. Здесь та же картина. И если в своем положительном чтении он вполне совпадает с тем исходным образом, который мы и предполагали выше, то в своем "зловещем" чтении он опять-таки обосновывается не непосредственными ассоциациями, а все той же амбивалентностью.
В первом чтении он символ жизни, возрождения, весны, надежды. На этом сходятся и христианские, и китайские, и мусульманские верования. Магомету, например, согласно их повериям, сопутствовали в самых серьезных моментах его жизни "ангелы в зеленых тюрбанах", и зеленое знамя становится знаменем пророка.
Соответственно этому выстраивался и ряд противоположных чтений. Цвет надежды - он одновременно отвечает и безнадежности и отчаянию; в сценических представлениях Греции темно-зеленый (морской) цвет при известных обстоятельствах имел зловещее значение.
Такой зеленый цвет соприкасается с синим. И интересно, что для японского театра, где цветовое значение "наглухо" закреплено за определенными образами, на долю зловещих фигур выпадает именно синий цвет.
В своем письме от 31 октября 1931 года Масару Кобайоши
60, автор обстоятельного исследования о японских "Кумадори" - живописной росписи лиц в театре Кабуки, - мне пишет:"...Кумадори пользует в основном красный и синий цвет. Красный -теплый и привлекательный. Синий - наоборот. Синий цвет злодеев, а у сверхъестественных существ - цвет призраков и дьяволиц..."
Но вернемся к тому, что пишет Порталь о зеленом цвете:
"...Цвет возрождения души и мудрости, он одновременно означал моральное падение и безумие.
Шведский теософ Сведенборг
61 описывает глаза безумцев, томящихся в аду, зелеными. Один из витражей Шартрского собора62 представляет искушение Христа; на нем сатана имеет зеленую кожу и громадные зеленые глаза... Глаз в символике означает интеллект. Человек может направить его на добро или на зло. И сатана, и Минерва63 - и безумие и мудрость - оба изображались с зелеными глазами..." (стр. 132).140
Таковы данные. Абстрагируя же зеленый цвет от зелени предметов или желтый от желтых, возводя зеленый цвет в "извечно зеленое" или желтый цвет в "символически желтое", символист такого рода подобен тому безумцу, о котором писал Дидро в письме к м[ада]м Воллар
64:"...Одно какое-либо физическое качество может привести ум, который им занимается, к бесчисленному количеству разнообразнейших вещей. Возьмем хотя бы цвет, для примера, желтый: золото желтого цвета, шелк желтого цвета, забота желтого цвета, желчь желтого цвета, солома желтого цвета. С каким количеством других нитей сплетена эта нить? Сумасшедший не замечает этих сплетений. Он держит в руках соломинку и кричит, что он схватил луч солнца..."
Безумец же этот - ультраформалист: он видит лишь форму полоски и желтизну цвета, он видит лишь линию и цвет. И цвету и линии как таковым, вне зависимости от конкретного содержания предмета, он придает решающее значение.
И в этом сам он подобен собственному предку древнейших времен и периода магических верований, здесь также придавалось решающее значение желтому цвету "в себе".
Исходя из этого, так, например, лечили древние индусы... желтуху:
"...основа магической операции состояла в том, чтобы прогнать желтый цвет с больного на желтые существа и предметы, к которым желтый цвет пристал, как, например, солнцу. С другой же стороны, снабдить больного красной краской, перенесенной с полнокровного здорового источника, например, красного быка..."
Соответственным образом строились и заклинания, отсылавшие "желтуху на солнце", и т. д. Такая же лечебная сила приписывалась и одной желтой разновидности галок и особенно ее громадным золотистым глазам. Считалось, что если пристально вглядеться в ее глаза и птица ответит таким же взглядом, то человек будет излечен - болезнь перейдет на птицу, "словно поток, устремившийся вместе со взглядом" (Плутарх)
65. Плиний66 упоминает эту же птицу и приписывает такое же свойство еще и некоему желтому камню, схожему по цвету с цветом лица больного. А в Греции эта болезнь и посейчас называется "золотой болезнью", и ее излечению якобы помогает золотой амулет или кольцо и т.д. и т.д. (подробности об этом см. Frazer67 "The golden Bough", англ[ийское] изд[ание], том I, стр. 79 - 80, в главе об имитативной магии).Не следует впадать в ошибки ни безумца, ни индусского мага, видящих зловещую силу болезни или великую силу солнца в одном лишь золотистом цвете.
Приписывая цвету такое самостоятельное и самодовлеющее значение,
141
отрывая цвет от конкретного явления, которое именно и снабдило его сопутствующим, комплексом, представлений, и ассоциации,
ища абсолюта в соответствиях цвета и звука, цвета и эмоции,
абстрагируя конкретность цвета в систему якобы безотносительно "в себе" действующих красок, -
мы ни к чему не придем или, что еще хуже, придем к тому же, к чему пришли французские символисты второй половины XIX века, о которых писал еще Горький ("Поль Верлен
68 и декаденты", "Самарская газета" 1896 года, ?? 81 и 85):"...Нужно, - сказали они, - связать с каждой буквой известное, определенное ощущение, с А - холод, с 0 - тоску, с У - страх и т. д.; затем окрасить эти буквы в цвета, как это уже сделал Рембо, затем придать им звуки и вообще оживить их, сделать из каждой буквы маленький живой организм. Сделав так, начать их комбинировать в слова..." и т. д.
Вред от такого метода игры на абсолютных соответствиях очевиден. (Художественно Горький пригвоздил его в другом месте, дав Климу Самгину лепетать о "лиловых словах".)
Но если пристальнее всмотреться в приведенные в предыдущей статье отрывки подобных таблиц "абсолютных" соответствий, то мы увидим, что почти неизменно сами же авторы толкуют, по существу, совсем не об декларируемых ими "абсолютных" соответствиях, а об образах, с которыми у них лично связано то или иное цветопредставление. И от этой разнородности образных представлений и проистекает то разнообразие "значений", которые одному и тому же цвету придают разные авторы.
Рембо очень решительно начинает с номенклатурной таблицы абсолютных соответствий: "А - черный, белый - Е" и т. д.
Но во второй строке сам же говорит, "...тайну их скажу я в свой черед..." И дальше действительно раскрывает "тайну", не только тайну образования собственных личных звукоцветосоответствий, но и самого принципа установления подобных соответствий у любого автора.
Каждая гласная в результате его личной жизненной и эмоциональной практики у Рембо принадлежит к определенному ряду образных комплексов, в которых присутствует и цветовое начало.
И - не просто красный цвет. Но:
"...И - пурпурная кровь, сочащаяся рана иль алые уста средь гнева и похвал..."
У - не просто зеленый. Но:
"...
У - трепетная рябь зеленых волн широких, спокойные луга, покой морщин глубоких на трудовом челе алхимиков седых..." (Вспомним, что у Лафкадио Херна - см. выше - на долю схожей фигуры "престарелого грека в морщинах" приходится... заглавное "Икс") и т. д. и т. д.142
Здесь цвет не более как раздражитель в порядке условного рефлекса, приводящий в ощущение и на память весь комплекс, в котором он когда-то соучаствовал.
Вообще же существует мнение, что "Гласные" Рембо написаны под влиянием воспоминаний о детском букваре. Такие буквари, как известно, состоят из крупных букв, рядом с которыми помещаются предметы и животные на ту же букву. Название буквы запоминается через животное или предмет. "Гласные" Рембо, вероятнее всего, созданы по этому "образу и подобию". К каждой букве Рембо подставляет такие же "картинки", с которыми для него связана та или иная буква. Картинки эти разного цвета, и определенные цвета таким образом связываются с определенными гласными.
Совершенно то же самое имеет место и у остальных авторов.
Вообще же "психологическая" интерпретация красок "как таковая" -дело весьма скользкое. Совсем же нелепой она может оказаться, если эта интерпретация еще будет претендовать на социальные "ассоциации".
Как подкупающе, например, видеть в блеклых тонах костюма французской аристократии конца XVIII века и пудреных париков "как бы" отражение "оттока живительных сил от высших слоев общества, на историческую смену которому движутся средние слои и третье сословие". Как выразительно вторит этому блекнущая гамма нежных (читай; изнеженных!) оттенков костюма аристократов! Между тем дело гораздо проще:
первый толчок к этой блеклой гамме давала... пудра, осыпавшаяся с белых пудреных париков на яркие краски костюмов. Так впервые приходит на ум эта "гамма блеклых тонов". Но она тут же становится и "утилитарной" - ее тона становятся как бы защитным цветом - своеобразным "хаки", на котором осыпавшаяся пудра уже не "диссонанс", а просто... незаметна.
Красный и белый цвет достаточно давно связали свою окраску традицией антиподов (войны Алой и Белой розы)
69. В дальнейшем же и с определенным направлением своих социальных устремлений (как и представление "правых" и "левых" в обстановке парламентаризма). Белыми были эмигранты и легитимисты еще с периода Французской революции. Красный цвет (любимый цвет Маркса и Золя) связан с революцией. Но даже и здесь есть моменты "временных нарушений". Так на исходе Великой французской революции "выжившие" представители французской аристократии, то есть самые ярые представители реакции, заводят моду носить... красные платки и фуляры. Это тот период, когда они же носят характерную прическу, отдаленно напоминающую стрижку волос императора Тита70 и названную поэтому "a la Titus". С Титом она "генетически" ничего общего не имеет, кроме случайного внешнего сходства. А по существу143
является символом непримиримой контрреволюционной вендетты, ибо воспроизводит ту стрижку, открывавшую затылок, которой подвергали осужденных на гильотину аристократов. Отсюда^ же и красные платки, как память о тех фулярах, которые <мачивали кровью "жертв гильотины", создавая своеобразные реликвии, вопившие о мести в отношении революции.
Так почти и весь остальной "спектр" красок, проходящий по моде, почти всегда связан с анекдотом, то есть с конкретным эпизодом, связывающим цвет с определенной ассоциацией идей.
Стоит вспомнить из той же предреволюционной эпохи коричневатый оттенок, входящий в моду вместе с рождением одного из последних Людовиков; оттенок, само название которого не оставляет никаких сомнений в своем происхождении: "саса Dauphin"("кака дофина"). Но известны и "Саса d'oie" ("кака гуся"). Так же за себя говорит цвет "рисе" (блоха). А промчавшаяся при Марии Антуанетте мода высшей аристократии на желто-красные сочетания имеет очень мало общего с этой же гаммой у... испанского палача (как обрисовано выше). Это сочетание называлось "Cardinal sur la paille" ("Кардинал на соломе") и несло смысл протеста французской аристократии по поводу заключения в Бастилию кардинала де Роган в связи с знаменитым делом об "ожерелье королевы"
71.Здесь, в подобных примерах, которые можно было бы громоздить до бесконечности, лежит в основе совершенно такая же "анекдотичность", как и в том, что заставляет большинство из приведенных выше авторов давать "особые" истолкования значениям цветов. Здесь они только более наглядны и более известны по тем анекдотам, что их породили!
Можно ли на основании всего сказанного вовсе отрицать наличие каких бы то ни было соответствий между эмоциями, тембрами, звуками и цветами? Соответствий общих, если не всему человечеству, то хотя бы отдельным группам?
Конечно, нет. Даже чисто статистически. Не говоря уже о специальной статистической литературе по этому вопросу, можно здесь сослаться на того же Горького; в уже цитированной статье, приведя сонет Рембо, он пишет:
"...Странно и непонятно, но если вспомнить, что в 1885 году по исследованию одного знаменитого окулиста 526 человек из студентов Оксфордского университета, оказалось, окрашивали звуки в цвета и, наоборот, придавали цветам звуки, причем единодушно утверждали, что коричневый цвет звучит как тромбон, а зеленый - как охотничий рожок, может быть, этот сонет Рембо имеет под собой некоторую психиатрическую почву..."
144
Совершенно очевидно, что в чисто "психиатрическом" состоянии эти явления, конечно, будут еще более повышенны и наглядны.
В подобных же пределах то же можно сказать и о связи цветов с "определенными" эмоциями.
Еще опыты Бине
72 (Alfred Binet, "Recherches sur les alterations de la conscience chez les hysteriques". "Revue philosophique", 1889) установили, что впечатления, доставляемые мозгу чувственными нервами, оказывают значительное влияние на характер и силу возбуждений, передаваемых мозгом в двигательные нервы. Некоторые чувственные впечатления действуют ослабляющим или задерживающим образом на движения ("угнетающе", "запрещающе"), другие, напротив, сообщают им силу, быстроту и живость - это "динамические", или "двигательные". Так как с движением или возбуждением силы всегда связано чувство удовольствия, то всякое живое существо стремится к динамическим чувственным впечатлениям и, напротив, старается обойти задерживающие и ослабляющие впечатления. Красный цвет оказывается чрезвычайно возбудительным. "Когда мы, - говорит Бине в описании опыта с истеричкой, страдающей отсутствием чувствительности половины тела, - клали в бесчувственную правую руку Эмилии К. динамометр, то рука выдавливала 12 килограммов. Стоило ей в этот момент показать красный круг, тотчас количество килограммов под бессознательным давлением удваивалось...""...Насколько красный цвет возбуждает к деятельности, настолько фиолетовый, наоборот, задерживает ее и ослабляет" (Ch. Fere "Sensation et mouvement". "Revue philosophique", 1886).
Это вовсе не случайность, что у некоторых народов фиолетовый цвет избран исключительно траурным... "Вид этого цвета действует угнетающе, и чувство печали, вызываемое им, согласуется с печалью подавленного духа..." и т. д. и т. д. (Цитирую по М. Нордау
73, "Вырождение". Книга первая ("Fin de siecle").Подобные же качества красному цвету приписывает и Гете. Подобные же соображения заставляют его подразделять цвета на активные и пассивные ("плюс и минус"). С этим же связаны и популярные подразделения на тона "теплые" и "холодные".
Так, еще Вильям Блейк
74 (1757 - 1827) в своем памфлетном обращении к римским папам послерафаэлевских эпох восклицает:"...Нанимайте идиотов писать холодным светом и теплыми тенями..."
Если все эти данные, может быть, еще и далеки от того, чтобы образовать убедительный "научный свод", то чисто эмпирически искусство этим пользуется давно и достаточно безошибочно.
Даже несмотря на то, что нормальный человек реагирует на все это, конечно, менее интенсивно, чем м[ада]м Эмилия К. при виде красного
145
цвета, - художник хорошо знает эффекты своей палитры. И не случайно, что для двигательного урагана своих "Баб" Малявин
75 заливает холст разгулом ярко-красного цвета\Очень близкое к этому пишет опять-таки Гете
76. Красный цвет он делит на три разновидности: красный, красно-желтый и желто-красный. Из них желто-красному, то есть тому, что мы назвали бы... цветом "танго", он приписывает именно такие же "способности" психически воздействовать:"...775. Активная сторона достигает здесь высшей энергии, и не мудрено, что энергичные, здоровые, малокультурные люди находят особенное удовольствие в этом цвете. Склонность к нему обнаружена повсюду у диких народов. И когда дети, предоставленные сами себе, занимаются раскрашиванием, они не жалеют киновари и сурика.
776. Когда смотришь в упор на желто-красную поверхность, кажется, будто цвет действительно внедряется в наш орган...
Желто-красная материя вызывает у животных беспокойство и ярость. Я знал также образованных людей, которые не могли выносить, когда в пасмурный день им встречался кто-нибудь в багряном пальто..."
Что же касается непосредственно нас интересующей области соответствий звуков и чувств не только эмоциям, но и друг к другу, то мне пришлось натолкнуться на ряд любопытных данных и помимо научных или полунаучных книг.
Источник этот, может быть, и не совсем "канонический", но зато весьма непосредственный и достаточно логически убедительный.
Речь идет об одном моем знакомом, тов. Ш., с которым меня в свое время познакомили покойный проф[ессор] Выготский
77 и профессор] Лурья78. Тов. Ш., не находя другого применения своим исключительным качествам, несколько лет работал на эстраде, поражая публику турдефорсами в области памяти. Исключительные же качества тов. Ш. состояли в том, что он, будучи абсолютно нормально развитым человеком, вместе с тем сохранил до зрелого возраста все те черты первичного чувственного мышления, которые у человечества по мере развития утрачиваются и переходят в нормально логическое мышление. Здесь на первом месте безграничная способность запоминать в силу конкретно предметного видения вокруг себя всего того, о чем говорят (в связи с развитием способности обобщать эта ранняя форма мышления при помощи накопляемых единичных фактов, хранимых в памяти, отмирает).Так, он с одного раза мог запомнить какое угодно количество цифр или бессмысленно перечисленных слов. При этом он тут же мог по памяти "зачитывать" их с начала к концу; с конца к началу; через одно, два, три; по очереди снизу и сверху и т. д. При этом, встречая вас через год-полтора, он проделывал это с подобным столбцом совершенно так же без-
146
ошибочно. И во всех подробностях воспроизводил не только любой имевший прежде место разговор, но и все эксперименты на память, которым его когда-либо кто подвергал (а "столбцы" иногда содержали по несколько сотен слов!). Здесь и "эйдетика", то есть способность неосмысленно, но зато автоматически точно воспроизводить рисунок любой сложности (эта способность начинает пропадать по мере того, как вырабатывается способность осмыслять соотношения в рисунке или картине и сознательно относиться к изображенным на них вещам) и т. д. и т. д.
Повторяю, что в данном случае все эти черты и способности сохранились одновременно с вполне нормальными чертами вполне развитой деятельности сознания и мышления.
Тов. Ш., конечно, как никто, обладал и синэстетикой, частично образцы которой мы приводили выше и которая состоит в способности видеть звуки - цветом и слышать цвета - звуками. На эту тему мне с ним приходилось беседовать. И самое интересное, за достоверность чего, пожалуй, можно поручиться, это тот факт, что шкалу гласных он видит вовсе не цветовой, а лишь как шкалу оттенков света. Цвет же вступает только с согласными. Для меня такая картина звучит гораздо убедительнее всех тех выкладок, что мы приводили выше.
Можно сказать, что чисто физические соответствия в колебаниях звуковых и цветовых безусловно существуют.
Но столь же категорически приходится сказать и то, что с искусством все это в таком виде будет иметь весьма мало общего.
Если и существует это абсолютное соответствие между цветом и тоном, а это, вероятно, именно так, то даже и тогда орудование этим "абсолютом" соотношений приводило бы наш кинематограф в лучшем случае к такому же курьезу, к какому пришел тот золотых дел мастер, которого описал Жан д'Удин:
"...Один мой знакомый золотых дел мастер, очень умный, очень образованный, но, очевидно, мало артистичный, задался целью делать во что бы то ни стало оригинально вещи: лишенный сам, вероятно, творческой изобретательности, он решил, что все природные формы красивы (что, кстати, совершенно неверно), и вот в своем творчестве он довольствуется точным воспроизведением изгибов и линий, возникающих из разных явлений природы при анализе их физическими аппаратами. Так, он берет за образец световые изгибы, получаемые на экране при помощи диапазонов, снабженных на концах зеркалами и вибрирующих в перпендикулярных друг к другу плоскостях (прибор, употребляемый в физике для изучения относительной сложности музыкальных интервалов). Он копирует, например, на поясной пряжке завиток, образуемый двумя диапазонами, по-
147
строенными в октаву, и, конечно, никто не убедит его в том, что хотя консонанс октавы в музыке и составляет совершенно простои аккорд, однако пряжка, им изобретенная, не вызовет в нас через посредство глаза то же впечатление, какое вызывает октава. Или сделает брошку: возьмет и вырежет в золоте тот характерный изгиб, который производят два диапазона, построенные в нону
79, и совершенно уверен, что он создает в пластике нечто равнозначащее тому, что Дебюсси80 ввел в музыку..." (стр. 60 русского перевода книги Жана д'Удина "Искусство и жест" [Paris, 1910]).В искусстве решают не абсолютные соответствия, а произвольно образные, которые диктуются образной системой того или иного произведения.
Здесь дело никогда не решается и никогда не решится непреложным каталогом цветосимволов, но эмоциональная осмысленность и действенность цвета будет возникать всегда в порядке живого становления цветообразной стороны произведения, в самом процессе формирования этого образа, в живом движении произведения в целом.
Даже в однотонном фильме один и тот же цвет - не только совершенно определенный образный "валер"
81 внутри того или иного фильма, но вместе с тем и совершенно различный в зависимости от того образного осмысления, который ему предписывала общая образная система разных, фильмов.Достаточно сличить тему белого и черного цвета в фильмах "Старое и новое" и "Александр Невский". В первом случае с черным цветом связывалось реакционное, преступное и отсталое, а с белым - радость, жизнь, новые формы хозяйствования.
Во втором случае на долю белого цвета с рыцарскими облачениями выпадали темы жестокости, злодейства, смерти (это очень удивило за границей и было отмечено иностранной прессой); черный цвет вместе с русскими войсками нес положительную тему - геройства и патриотизма.
Пример образной относительности цвета я приводил еще очень давно, разбирая вопрос относительности монтажного образа вообще:
"...Если мы имеем даже ряд монтажных кусков:
1) седой старик,
2) седая старуха,
3) белая лошадь,
4) занесенная снегом крыша,
148
то далеко еще не известно, работает ли этот ряд на "старость" или на "белизну".
И этот ряд может продолжаться очень долго, пока наконец не попадется кусок - указатель, который сразу "окрестит" весь ряд в тот или иной "признак".
Вот почему и рекомендуется подобный индикатор ставить как можно ближе к началу (в "правомерном" построении). Иногда это даже вынужденно приходится делать... титром..." (статья "Четвертое измерение в кино", газета "Кино", август 1929 г.).
Это значит, что не мы подчиняемся каким-то "имманентным законам" абсолютных, "значений" и соотношений цветов и звуков и абсолютных соответствий между ними и определенными эмоциями, но это означает, что мы сами предписываем цветам и звукам служить тем назначениям и эмоциям, которым мы находим нужным.
Конечно, "общепринятое" чтение может послужить толчком, и даже очень эффективным, при построении цветообразной стороны драмы. Но законом здесь будет не абсолютное соответствие "вообще", а выдержанность вещи в определенном тонально-цветовом ключе, который на протяжении вещи в целом предпишет ей образный строй всего произведения в строгом соответствии с его темой и идеей.
III
В первой статье о вертикальном монтаже мы писали о том, что звукозрительные сочетания выдвигают в вопросах монтажа необходимость разрешения совершенно новой проблемы в области композиции. Проблема эта состоит в том, чтобы найти ключ к соизмеримости между куском музыки и куском изображения; такой соизмеримости, которая позволит нам сочетать "по вертикали", то есть в одновременности, каждую фразу пробегающей музыки с каждой фазой параллельно пробегающих пластических кусков изображения - кадров; и при этом в условиях совершенно такой же строгости письма, с какой мы умеем сочетать "по горизонтали", то есть в последовательности, кусок с куском изображения в немом монтаже или фазу с фазой развертывания темы в музыке. Мы разобрались в этом вопросе с точки зрения общих положений о соответствии зрительных и слуховых явлений между собой. Мы разобрались в вопросах соответствия зрительных и слуховых явлений определенным эмоциям.
Для этого мы занялись вопросом соответствия музыки и цвета. И в этом вопросе мы пришли к тому заключению, что наличие "абсолютных"
149
эквивалентов звука и цвета - если оно в природе существует - для произведения искусства никакой решающей роли не играет, хотя иногда и "вспомогательно" полезно.
Решающую роль здесь играет образный строй произведения, который не столько пользует существующие или несуществующие взаимные соответствия, сколько сам образно устанавливает для данного произведения те соответствия, которые предписывают образному строю идея и тема данного произведения.
Сейчас мы от общих положений обратимся к конкретной методике того, каким образом выстраиваются соответствия изображения и музыки. Методика эта будет одной и той же для всех случаев: все равно, сочиняет ли композитор музыку к "вообще" заснятым кускам или к кускам, уже собранным в некий черновой или окончательный монтаж, или же, когда дело строится наоборот и режиссер выстраивает монтажный ход изображений к определенной музыке, уже написанной и записанной на фонограмме.
Нужно сказать, что в фильме "Александр Невский" присутствуют буквально все возможности в этом направлении. Есть сцены, где изображение смонтировано по заранее записанной музыкальной фонограмме. Есть сцены, где музыка написана целиком по совершенно законченному зрительному монтажу. Есть сцены любых промежуточных случаев. Есть, наконец, и почти анекдотические случаи, как, например, сцена со "свиристелками" - дудками и бубнами русских войск: я никак не мог детально объяснить С. С. Прокофьеву, чего именно в звуках я желал бы "видеть" в этой области. Тогда, озлясь, я заказал соответствующий бутафорский (беззвучный) набор инструментов, заставил актеров зрительно "разыграть" на них то, что мне хотелось; заснял это, показал Прокофьеву и... почти мгновенно получил от него точный "музыкальный эквивалент" тому зрительному образу дудочников, которых я ему показал.
Так было и со звуками рыцарских рогов. Совершенно так же в ряде случаев готовые куски музыки иногда толкали на пластически образные разрешения, ни им, ни мною заранее не предусмотренные. Многие из них настолько совпали по объединяющему их "внутреннему звучанию", что кажутся сейчас наиболее "заранее предусмотренными" (например, сцена прощания и объятий Васьки и Гаврилы Олексича, совершенно неожиданно положенная на музыку сложной темы скачущих рыцарей и т. д.).
Все это приводится здесь для того, чтобы подтвердить тот факт, что излагаемая "методика" проверена на фильме "вдоль и поперек", то есть через все возможности и оттенки.
Какова же методика установления звукозрительных сочетаний?
150
Наивная точка зрения в этом вопросе состоит в том, чтобы искать адекватность изобразительных элементов музыки и изображения.
Путь этот наивен, бессмысленен и неизбежно ведет к конфузам вроде тех, что описаны Петром Павленко
82 в "На Востоке"."...- Что это? - спросила она.
- Впечатление о музыке. Когда-то я пробовал свести в систему все, что слышал, понять логику музыки раньше, чем самое музыку. Мне понравился один старик, тапер в кино, бывший полковник гвардии. "О чем звенят инструменты? - Это отвага", - говорил старик. - "Почему отвага?" -спрашивал я. Он пожимал плечами. "До-мажор, ля-бемоль мажор, фа-бемоль мажор - тона твердые, решительные, благородные", - объяснил он мне. Я стал приходить к старику до сеансов, угощал его пайковыми папиросами - я не курю лично - и спрашивал, как ее понимать, музыку.
...На бумажках от конфет он писал мне названия исполненных им произведений и их эмоциональную характеристику. Раскройте тетрадь, посмеемся вместе с вами...
...Она прочла: "Ходим мы к Арагве светлой", песня девушек из "Демона" Рубинштейна - грусть.
Шуман. Оргия 12, ? 2 - воодушевление. Оффенбах. Баркарола из "Сказок Гофмана"
83 - любовь. Чайковский. Увертюра к "Пиковой даме" - болезнь". Она закрыла тетрадку. - Я больше не могу, - сказала она. - Мне стыдно за вас.Он покраснел, но не сдался.
- И, понимаете, я писал, писал, слушал и записывал, сравнивал, сличал. Однажды старик играл что-то великое, воодушевленное, радостное, бодрящее - и я сразу вдруг догадался, что это означает: восторг. Он кончил и бросил мне записку. Оказывается, это был "Данс макабр" Сен-Санса
84 - тема страха и ужаса. И я понял три вещи: во-первых, что мой полковник ни черта не понимает в музыке, во-вторых, что он вообще глуп, как пробка...".Определения вроде тех, что приведены в этом отрывке, не только сами по себе нелепы, но в такой направленности, то есть при узко "изобразительном" понимании музыки, неизбежно будут толкать и к наипошлейшему зрительному воплощению, если таковое понадобится:
"любовь" - обнимается пара,
"болезнь" - старушка с грелкой на животе.
Ну а если под баркаролу должна пойти серия венецианских пейзажей, а под увертюру к "Пиковой даме" - панорамы Петербурга, то как тут быть? В этом случае ни "картинка" влюбленных, ни "картинка" старушки ничего не дадут
.151
Но зато и сбегания и удаления, в которых могли бы здесь решаться воды венецианских пейзажей, и игра разбегающихся и сбегающихся отсветов фонарей по каналам, и все прочее, что могло бы здесь оказаться уместным, - все это оказалось бы совсем не сколками с того, что "изображено" в этой музыке, но возникало бы в ответ на ощущение внутреннего движения баркаролы.
Подобных "частных" изображений в ответ на ощущение общего внутреннего хода баркаролы может быть неисчислимое количество. И все они будут вторить ей, и у всех в основе будет лежать одно и то же ощущение. Вплоть до гениального воплощения этой же самой баркаролы у Диснея
85, где оно решено ...павлином с переливающимся "в музыку" контуром хвоста, павлином, глядящимся в зеркало пруда и видящим в нем точно такого же павлина с точно так же извивающимся хвостом... в перевернутом виде.Те сбегания и удаления, волны, отблески и переливы, через которые могли решаться под эту музыку венецианские пейзажи, - сохранены и здесь в таком же соответствии с движением музыки: хвост и его отражение "сбегаются и разбегаются" в зависимости от приближения или удаления хвоста и поверхности пруда, сам хвост "вьется и переливается" и т. д.
Самое же главное здесь, конечно, в том, что все это, вместе взятое, отнюдь не противоречит... любовной "тематике" баркаролы. Но только дело лишь в том, что здесь вместо "изображения" влюбленных взята такая характерная черта поведения влюбленных, как переливающаяся смена приближений и удалений их друг к другу. При этом взята она не изобразительно, а как основа композиции, проходящая как по рисунку Диснея, так и сквозь движение музыки (о самом этом принципе композиции я писал в статье "О строении вещей").
Кстати, совершенно так же строит свою музыку, например, Бах
86, стараясь передать через доступные ей средства движения то основное движение, что характерно для темы. Бесчисленные нотные примеры этому приводит А. Швейцер в книге "И. С. Бах" (XIII глава, "Музыкальный язык Баха"), вплоть до такого курьезного случая, какой имеет место в кантате "Christus wir sollen loben schon" ("Восхвалим же ныне") (? 121): либреттист сделал в тексте намек на слова "Младенец взыграл во чреве матери своей", и вся музыка в этом месте представляет... беспрерывное конвульсивное движение!Через узко "изобразительные" элементы музыка и изображение действительно несоизмеримы. И если можно говорить о подлинном и глубинном соответствии и соизмеримости обоих, то дело может лишь касаться соответствия основных элементов движения музыки и изображения, то есть элементов композиционных и структурных, ибо соответствия
152
картинок того и другого, да и самые "картинки" музыкального "изображения" как таковые в большинстве случаев настолько индивидуальны по восприятию и настолько мало конкретны, что ни в какое методологическое строгое "упорядочение" не укладываются. Приведенный выше отрывок красноречиво об этом повествует.
И речь здесь может идти лишь о том, что действительно "соизмеримо", то есть о движении, которое лежит в основе как закона строения данного музыкального куска, так и закона строения данного изображения. Здесь понятие о законе строения, о процессе и о ритме становления и развертывания обоих действительно дает единственно твердое основание к установлению единства между тем и другим.
И это не только потому, что так понятая закономерность движения способна в равной степени "материализоваться" через специфические особенности любого искусства, но и главным образом потому, что подобный закон строения вещи есть вообще прежде всего первый шаг к воплощению темы через образ и форму произведения независимо от того, в каком бы материале эта тема ни воплощалась.
Так совершенно очевидно обстоит дело в теории. Но каков же путь к этому на практике?
На практике путь этот еще более прост и ясен.
И строится практика здесь вот на чем.
Все мы говорим, что известная музыка "прозрачна", а другая "скачущая", что третья "строгого рисунка", что четвертая "расплывчатых очертаний".
Это происходит оттого, что большинство из нас, слушая музыку, "видит" при этом перед собой некие пластические образы, смутные или явственные, предметные или абстрактные, но так или иначе какими-то своими чертами отвечающие, чем-то соответствующие по ощущению этой музыке.
Для последнего, более редкого случая, когда возникает не предметное или двигательное, но "абстрактное" представление, характерно чье-то воспоминание о Гуно
87: однажды в концерте он слушал Баха и вдруг задумчиво произнес: "Я нахожу, что в этой музыке есть что-то октагональное (восьмиугольное)..."Это утверждение прозвучит менее неожиданно, если мы вспомним, что Гуно - сын видного художника-живописца и талантливой музыкантши. Оба потока впечатлений детства были в нем так сильны, что - как он пишет в собственных мемуарах - у него были почти одинаковые шансы стать мастером пластических искусств или искусств музыкальных
.Впрочем, подобный "геометризм" и сам по себе, в конечном счете, вероятно, уж не такая исключительная редкость.
153
Заставляет же Толстой воображение Наташи Ростовой рисовать себе геометрической фигурой комплекс значительно более сложный - целый образ человека: Пьер Безухов рисуется Наташе "синим квадратом"
Другой же великий реалист - Диккенс - сам подчас видит облики своих героев таким же "геометрическим образом", и иногда именно через геометризм подобной фигуры раскрывает всю глубину характеристики действующего лица.
Вспомним м[исте]ра Грэдграйнда в "Тяжелых временах" - этого человека параграфов, цифр и фактов, фактов, фактов: "..Местом действия была классная комната с простым голым однообразным сводом, и квадратный палец оратора придавал вес его словам, подчеркивая каждую сентенцию отметкой на рукаве школьного учителя. Упрямая поза оратора, его прямоугольное платье, прямоугольные ноги, прямоугольные плечи - все, вплоть до галстука, обхватывающего его горло туго завязанным узлом, словно упрямый факт, который он в действительности представлял собой, все содействовало этому весу: "В этой жизни нам нужны только факты, сэр, ничего, кроме фактов..."
Это особенно наглядно проступает в том обстоятельстве, что каждый из нас - более или менее точно и, конечно, с любыми индивидуальными оттенками - способен движением руки "изобразить" то движение, ощущение которого в нем вызывает тот или иной оттенок музыки.
Совершенно то же имеет место и в поэзии, где ритмы и размер рисуются поэту прежде всего как образы движения
* .Лучше всего это сказано с точки зрения самочувствия самого поэта, конечно, Пушкиным в знаменитой иронической шестой строфе "Домика в Коломне":
...Признаться вам, я в пятистопной строчке
Люблю цезуру на второй стопе,
Иначе стих то в яме, то на кочке,
И хоть лежу теперь на канапе,
Все кажется мне, будто в тряском беге
По мерзлой пашне мчусь я на телеге.
И самые лучшие образцы переложения движения явления в стихи мы опять-таки найдем, конечно, у него же.
Удар волны. Русский язык не имеет слова, передающего весь рисунок кривой подъема и удара разбивающейся волны. Немецкий язык счастли-
______________
154 Вертикальный монтаж
вее - он знает составное слово Wellenschlag - абсолютно точно передающее эту динамическую картину. Так, где-то, чуть ли не в "Трех мушкетерах". горюет Дюма-отец о том, что французский язык вынужден писать "звук воды, ударявшейся о поверхность", и не имеет для этой цели краткого и выразительного "splash" (всплеск) английского языка.
Зато вряд ли иная литература имеет образцы такого блестящего переложения динамики удара волны в движение стиха, как это сделано в трех строчках "Медного всадника".
Следуя за знаменитым:
...И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен...
оно гласит:
Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревна, кровли,
Товар запасливой торговли....
и т. д. и т. д.
Плывут по улицам!
Народ...
и т. д. и т. д.
Из всего сказанного выше вытекает и простейший практический вывод для методики звукозрительных сочетаний:
нужно уметь ухватить движение данного куска музыки и нужно взять след этого движения, то есть линию или форму его, за основу той пластической композиции, которая должна соответствовать данной музыке.
Это для тех случаев, когда пластическая композиция выстраивается согласно определенной музыке (наиболее наглядно это в движениях и росчерке мизансцен балетной композиции).
____________
155
Для случая же, когда перед нами ряд заснятых кадров, одинаково "равноправных"
* по месту, которое они могут занимать, но разных по композиции, то приходится из них подбирать к музыке именно те, которые окажутся соответствующими музыке по выше раскрытому признаку.То же самое приходится делать композитору, перед которым оказывается смонтированный отрывок или смонтированная сцена: он должен ухватить монтажное движение как через систему монтажных кусков, так и во внутрикадровом движении. И... взять их за основу своих музыкально-образных построений.
Ибо движение, "жест", который лежит в основе того или другого, не есть что-то отвлеченное и не имеющее к теме никакого отношения, но есть самое обобщенное пластическое воплощение черт того образа, через который звучит тема.
"Стремящееся вверх", "распластанное", "разодранное", "стройное", "спотыкающееся", "плавно разворачивающееся", "спружиненное", "зигзагообразное" - так называется оно в самых простых абстрактных и обобщенных случаях. Но, как увидим на нашем примере, подобный росчерк может вобрать в себя не только динамическую характеристику, но и комплекс основных черт и значений, характерных для содержания образа, ищущего воплощения. Иногда первичным воплощением для будущего образа окажется интонация. Но это дела не меняет, ибо интонация - это движение голоса, идущее от того же движения эмоции, которая служит важнейшим фактором обрисовки образа.
Именно поэтому так легко бывает жестом изобразить интонацию, как и самое движение музыки, в основе которой в равной мере лежат голосовая интонация, жест и движение создающего ее человека. Подробнее по этому вопросу - в другом месте
88.Здесь же остается оговорить разве только тот еще факт, что чистая линейность, то есть узко "графический" росчерк композиции, есть лишь одно из многих средств закрепления характера движения.
"Линия" эта, то есть путь движения, в разных условиях, в разных произведениях пластических искусств может выстраиваться и не только чисто линейным путем.
Движение это может выстраиваться с таким же успехом, например, путем переходов сквозь оттенки светообразного или цветообразного строя
_________________
156
картины или. раскрываться последовательностью игры объемов и пространств.
Для Рембрандта такой "линией движения" было бы движение сменяющейся плотности мерцающей светотени.
Делакруа
89 ощущал бы ее в скольжении глаза по нагромождающимся объемам формы. Ведь именно в его "Дневниках" мы находим заметки о набросках Леонардо да Винчи, которыми он восторгается, находя в них возрождение того, что он называет "Le systeme antique du dessin par boules" - "рисунок посредством "шаров" (объемов) - у древних".Это же заставляет близкого к теориям Делакруа Бальзака утверждать устами живописцев его романов (например, Френхофера), что человеческое тело отнюдь "не замыкается линиями" и что, строго'говоря, "нет линий в природе, где все наполнено" ("Il n'ya pas de lignes dans la nature ou tout est plei
n").Здесь можно было бы им противопоставить яростные филиппики
90 энтузиаста "контура" Вильяма Блейка (William Blake, 1757 - 1827) с его патетическим возгласом: "О Линия Абриса! - Мудрая мать!" ("О dear Mother Outline! O wisdon most sage!") и ожесточенной полемикой против сэра Джошуа Рейнольдса91, недостаточно уважавшего требования строгости очертаний.При всем этом совершенно очевидно, что спор здесь идет вовсе не о самом факте движения внутри самого произведения, а лишь о тех средствах воплощения этого движения, которые характерны для разных художников.
У Дюрера подобное движение могло бы идти через чередование математически прочных формул пропорций его фигур.
Совершенно так же как, скажем, у Микеланджело
92 ритм его произведений набегал бы в динамической лепке извивающихся и нарастающих нагромождений мускулатур, вторящих не только движениям и положениям изображенных фигур, но прежде всего бегу пламенной эмоции художника*93У Пиранези
94 не менее темпераментный бег прочерчивался бы линией устремлений и смены... "контробъемов" - проломов арок и сводов его "Темниц", сплетающих свою линию бега с линией бега бесконечных лест-157
ниц, рассекающих линейной фугой это нагромождение фуги пространственной.
Ван-Гог воплощает то же самое в бешеном линейном изгибе... бегущего мазка, как бы сплавляя этим в единстве бег линии с красочным взрывом цвета. Здесь он делал по-своему то же самое, что в ином индивидуальном аспекте выражения имел в виду Сезанн
95, когда писал: "Le dessin et la couleur ne sont pas distincts" ("Рисунок и цвет неотделимы друг от друга") и т. д. и т. д.Мало того, и любой "передвижник" знает подобную "линию". У него эта линия выстраивается не пластическими элементами, а... чисто "игровыми" и сюжетными. Так сделан, например, какой-нибудь "Крах банка". Так же сделан и "Никита Пустосвят"
96.При этом следует иметь в виду, что для кино подыскивание "соответствий" между изображением и музыкой отнюдь не останавливается на любой из этих "линий" или на сочетании нескольких из них. Помимо этих общих элементов формы тот же закон управляет и подбором самих людей, обликов, предметов, поступков, действий и целых эпизодов из всех одинаково возможных в условиях данной ситуации.
Так, в немом еще кинематографе мы говорили об "оркестровке" типажных лиц (например, нарастание "линии" скорби, данное через крупные планы в "трауре по Вакулинчуку", и т. д.)
Так, в звуковом возникает, например, упомянутое выше "игровое действие" - прощальное объятие Васьки и Гаврилы Олексича именно в этом месте музыки; а, скажем, крупные планы рыцарских шлемов не позволяют себе показаться раньше того места атаки, куда они врезаны, ибо только к этому месту начинает звучать в музыке то, что общими и средними планами атаки уже невыразимо и что требует ритмических ударов, скачущих крупных планов и т. д.
Вместе со всем этим нельзя отрицать и того, что наиболее броским и непосредственным, раньше всего бросающимся в глаза, конечно, будет случай совпадения движения музыки именно с движением графическим, контурным, с графической композицией кадра, ибо контур - абрис - линия есть как бы наиболее отчетливый выразитель самой идеи движений.
Но обратимся к самому предмету нашего анализа и на одном фрагменте из фильма "Александр Невский" попытаемся показать, каким образом и почему определенный ряд кадров в определенной последовательности и в определенных длительностях именно так, а не иначе был связан с определенным куском музыки.
И раскроем на этом случае "секрет" тех последовательных вертикальных соответствий, которые шаг за шагом связывают музыку с ка-
158
дром через посредство одинакового жеста, который лежит в основе движения как музыки, так и изображения.
Случай этот любопытен тем, что здесь музыка была написана к совершенно законченному пластическому монтажу. Пластическое движение темы здесь до конца уловлено композитором в такой же степени, как музыкальное движение было уловлено режиссером в следующей сцене атаки, где куски изображения "нанизаны" на заранее написанную музыку.
Метод установления органической связи через движение остается одним и тем же в обоих случаях, а потому методологически совершенно безразлично, с какого бы конца ни начинался самый процесс установления звукозрительных сочетаний.
*
* *Наиболее цельного слияния звукозрительная сторона "Александра Невского" достигает в сценах "Ледового побоища", а именно - в "атаке рыцарей" и в "рыцарском каре". Это во многом определяет и то, что из всех сцен "Александра Невского" атака оказалась одной из наиболее впечатляющих и запоминающихся. Метод звукозрительного сочетания один и тот же сквозь любые сцены фильма. Поэтому для разбора мы поищем такую сцену, которую легче всего запечатлеть на печатной странице, то есть такую, где
целый комплекс разрешен неподвижными кадрами, то есть такими, которые наиболее удобно поддаются репродукции. Такой кусок легко найти. К тому же по закономерности письма он оказывается одним из наиболее строгих.Это двенадцать кадров того "рассвета, полного тревожного ожидания", который предшествует началу атаки и боя после ночи, полной тревог, накануне "Ледового побоища". Сюжетная нагрузка этих двенадцати кусков одна: Александр на Вороньем камне и русское воинство у подножия его, на берегу замерзшего Чудского озера, вглядываются в даль и ждут наступления врага.
Столбики, изображенные на схеме (см. вкладку), дают последовательность кадров и музыку, через которую выражена данная ситуация. Кадров - 12; тактов музыки - 17. (Расположение изображений и тактов в таком именно соразмещении станет ясным в процессе разбора: он связан с главными внутренними членениями музыки и изображений.)
Представим себе, что перед нами проходят эти 12 кадров и 17 тактов музыки, и постараемся в порядке живого впечатления вспомнить из пробегающих перед нами звукозрительных сочетаний те из них, которые наиболее сильно приковали наше внимание.
159
Первым и наиболее впечатляющим куском оказывается кусок III в сочетании с куском IV. Здесь надо иметь в виду не впечатление от фотографин как таковых, а то звукозрительное впечатление, которое получается в сочетании этих двух кусков с соответствующей музыкой при движении ленты по экрану. В музыке этим двум кадрам - III и IV - соответствуют такты 5, 6 и 7, 8.
Что именно это первая, наиболее впечатляющая звукозрительная группа, легко проверить, сыграв "под эти два кадра" соответствующие четыре такта музыки. Это же подтверждается при разборе данного отрывка на аудитории, например на студенческой аудитории Государственного института кинематографии, где я разбирал данную сцену.
Возьмем эти четыре такта и попробуем прочертить рукой в воздухе ту линию движения, которая нам диктует движение музыки.
Первый аккорд воспринимается как некоторая "отправная площадка".
Следующие же за ним пять четвертей, идущие гаммой вверх, естественно, прочертятся уступами напряженно подымающейся линии. Поэтому изобразим ее не просто стремящейся вверх линией, но линией чуть-чуть дугообразной.
Зарисуем это на рис. 1 (ав).
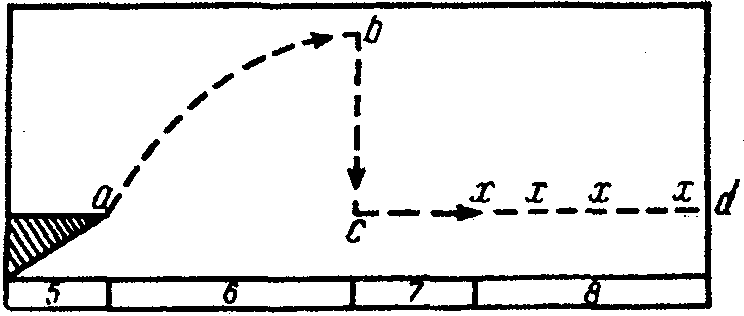
Рис. 1
Следующий аккорд (начало такта 5) с предшествующей, резко акцентируемой шестнадцатой в данных условиях произведет на всякого впечатление резкого падения bс
*. Следующий ряд одной ноты, четыре раза повторяемой через паузы осьмушками, естественно, прочертится некоторой горизонтальной линией, на которой сами осьмушки обрисуются акцентированными точками с-а.Зарисуем и это (см. рис. 1; bс и cd) и расположим эту схему движения музыки
abcd над соответствующей строчкой клавира.Теперь изобразим схему движения глаза по
главным линиям тех двух кадров III и IV, которые
"отвечают" этой музыке.
________________
160
Повторим ее движением руки. Это даст нам следующий рисунок, который явится жестом, выразившим то движение, которое закрепилось в этих двух кадрах через линейную композицию.
Вот эта схема:
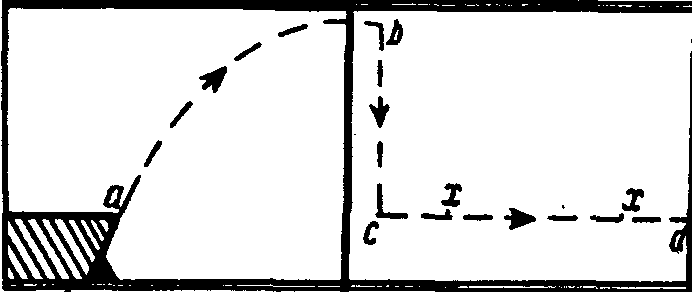
Рис.2
От а к
b идет нарастание "сводом" вверх: этот свод прочерчивается очертанием темных облаков, нависших над болеенависших светлой нижней частью неба.
От
b к с - резкое падение глаза вниз: от верхнего края кадра III почти до нижнего края IV - максимум возможного падения глаза по вертикали.От с к d - ровное горизонтальное - не повышающееся и не понижающееся движение, дважды прерываемое точками флагов, выдающихся над горизонтальным контуром войск.
Теперь сличим обе схемы между собой. И что же оказывается? Обе схемы движения абсолютно совпадают, то есть имеет место тот факт, что совпадают движение музыки и движение глаза по линиям пластической композиции.
Другими словами, один и тот же, общий для обоих жест лежит в основе как музыкального построения, так и пластического.
Думаю, что жест этот, кроме того, правильно найден и в соответствии с движением эмоциональным. Восходящий тремолирующий ход виолончелей гаммой C-moll здесь отчетливо вторит как нарастанию напряжения волнения, так и нарастанию всматривания. Аккорд как бы дает оторваться от этого. Ряд осьмушек чертит как бы неподвижную горизонталь войск: чувство войска, разлившегося по всему фронту; чувство, которое через один такт V снова начинает нарастать в такое же напряжение VI и т. д.
Интересно, что IV, отвечающий тактам 7 и 8, имеет два флажка, а музыка - четыре осьмушки. Глаз как бы дважды проходит по двум флажкам, и фронт кажется вдвое шире того, что видно в кадре. Идя слева направо, глаз "отстукивает" осьмушки флажками, и две из них уводят ощущение за кадр вправо, где воображению рисуется продолжение линии фронта войск.
Теперь совершенно ясно, почему именно эти два куска приковывают внимание в первую очередь. Пластические элементы движения и движение музыки здесь совпадают целиком, и при этом с предельной степенью наглядности.
161
Пойдем, однако, дальше и постараемся уловить, что приковывает внимание - "во вторую очередь". Вторичный "прогон" кусков перед нами задержит наше внимание на кусках I, VI - VII, IX - X.
Если мы всмотримся в музыку этих кусков, то увидим, что по структуре она одинакова с музыкой кадра III. (Вообще же вся музыка данной сцены состоит из двух чередующихся двухтактных фраз А и В, определенным образом сменяющих друг друга. Отличие будет состоять здесь лишь в том, что, принадлежа структурно к одной и той же фразе А, они различны тонально: I и III одной тональности (c-moll), а VI - VII и IX - Х другой тональности (cis-moll). Сюжетный смысл этого сдвига в тональности будет указан ниже в разборе куска V.)
Таким образом, и для кадров I, VI - VII и IX - Х музыка будет иметь ту же схему движения, что и для кадра III (см. рис. 1).
Но взглянем на самые кадры. Находим ли мы в них снова ту же самую схему линейной композиции, которая "спаяла" через одно и то же движение кадры III и IV с их музыкой (такты 5, 6, 7, 8)?
Нет.
А вместе с тем ощущение звукозрительного единства здесь совершенно так же сильно.
В чем же дело?
А дело в том, что приведенная схема движения может быть выражена не только через линию аbс, но и через любые иные средства пластического выражения. Мы об этом говорили в вводной части, и именно с таким-то случаем мы здесь и имеем дело.
Проследим это через все три новых случая I, VI - VII, IX - X.
I. Полного ощущения куска I фотография передать не может, ибо этот кадр возникает из затемнения: сперва проступает слева темная группа со знаменем, затем постепенно проясняется небо, на котором видны темные пятна отдельных облачных клочьев.
Как видим, движение внутри куска совершенно идентично тому же движению, что мы прочертили для куска III. Разница здесь лишь в том, что это движение не линейное, а движение постепенного просветления куска, то есть движение нарастающей степени освещенности.
Согласно этому та "отправная площадка" а, отвечавшая там начальному аккорду, здесь оказывается темнейшим пятном, по временам проступающим в первую очередь, и той "подошвой" темноты, "ватерлинией" темноты, от которой начинается "отсчет" постепенного просветления кадров. "Сводчатость" здесь сложится как цепочка последовательности кадриков, из которых каждый следующий будет светлее предыдущего. Сводчатость отразится в кривой постепенного просветления куска. Отдельные же уступы - фазы просветления - отметятся здесь последовательным
162
появлением облачных пятен. По мере выхода из затемнения всего кадра из них проступит в первую очередь наиболее темное пятно (центральное). Затем - более светлое (верхнее). Затем переходные к общему светлому тону неба - темные "барашки" справа и слева вверху.
Мы видим, что и здесь даже в деталях соблюдена та же самая кривая движения, но не по контуру пластической композиции, а по "линии..."
тонально-световой.
Таким образом, мы можем сказать, что кусок I вторит тому же основному жесту, но в данном случае - тоном, тонально.
II. Рассмотрим следующую пару кусков VI - VII. Мы берем их парой, ибо если фраза А в куске I целиком (обоими своими тактами) ложится на одно изображение, то здесь на фразу а) (равную А в новой тональности) приходится почти полных два изображения VI и VII. (См. общую таблицу соответствия изображений и тактов.)
Проверим их по ощущению музыки.
В кадре VI слева стоят четыре воина с поднятыми копьями и щитами. За ними слева виднеется край контура скалы. Дальше вдаль, вправо уходят ряды войск.
Не знаю, как у других, но субъективно на меня первый аккорд такта 10 здесь всегда производит впечатление грузной массы звука, как бы сползшей по линиям копий сверху вниз (см. схему на рис. 3).
(Из-за этого именно ощущения я именно этот кусок именно в этом месте в монтаже и ставлю.)
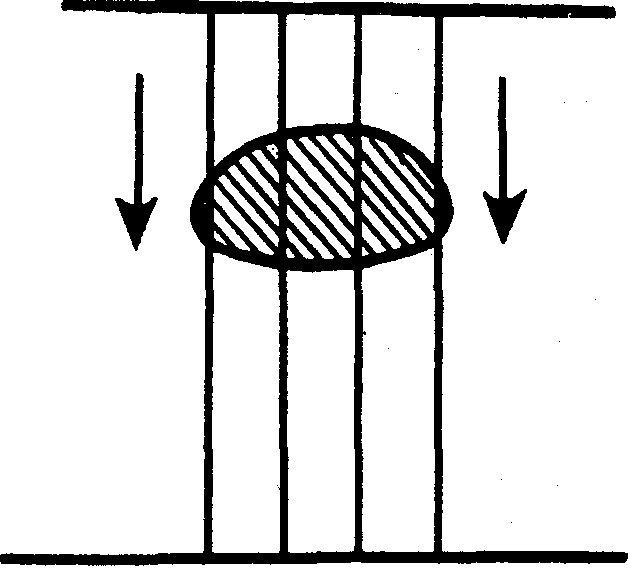
Рис.3
За этой группой четырех копьеносцев расположилась линия войск, уступами уходящих вправо, вглубь. Самым крупным "уступом" будет переход от всего кадра VI в целом к ... кадру VII, который продолжает линию войск в том же направлении дальше вглубь. Воины даны немного крупнее, но общее движение уступами вглубь продолжает это же движение из кадра VI. Мало того, здесь имеется еще один очень резкий уступ: кусок белой полосы вовсе пустого горизонта в правой части кадра VII. Этот кусок обрывает цепь войск и продолжает движение уже в новую область - на линию горизонта, по которой небеса соприкасаются с поверхностью Чудского озера.
163
Изобразим схематически это основное движение уступами через оба кадра.
Здесь войска расположатся как бы кулисами 1, 2, 3, 4 вглубь, начиная с четырех фигур, работающих как отправная плоскость, совпадающая с плоскостью экрана, откуда начинается движение вглубь. Если мы теперь себе вообразим линию, объединяющую эти кулисы, то мы получим некоторую кривую а, 1, 2, 3, 4. Что же это за кривая? Всмотревшись в нее, мы увидим, что она окажется все той же самой кривой нашего "свода", но на этот раз расположенной не по
вертикальной плоскости кадра, как в случае III, но разместившейся горизонтально перспективно в глубь кадра.Эта кривая имеет совершенно такую же (здесь тоже кулисную) отправную плоскость а из четырех рядом стоящих фигур. Кроме того, отсрочка фаз, помимо менее четко заметных границ кулис, прочерчивается четырьмя вертикалями: тремя фигурами воинов в кадре VII (х, у, z) и... линией, отделяющей кадр VI от кадра VII.
Что же в музыке приходится на отрезок горизонта?
И тут надо обратить внимание на то обстоятельство, что музыки фразы а
1, на всю длину кусков VI и VII не хватает и что в куске VII уже вступает начало музыкальной фразы b1 - точно: три четверти такта 12.Что же это за три четверти такта?
А это как раз тот же аккорд с предшествующей резко акцентируемой шестнадцатой, который для случая кадра III соответствовал ощущению резкого падения по вертикали вниз при переходе из кадра III в кадр IV.
Там все движение размещалось по вертикальной плоскости, и резкий разрыв в музыке читался там как падение (от верхней правой точки кадра III к нижней левой точке кадра IV). Здесь все движение размещается по горизонтали - в глубь кадра. И в качестве пластического эквивалента этому же резкому разрыву в музыке в здешних условиях следует предположить аналогичный резкий толчок, но не сверху вниз, а... перспективно -вглубь. Именно таким толчком и является "скачок" в кадре VII от линии войск до ... линии горизонта. Таким образом, это опять-таки "максимум разрыва", ибо для пейзажа горизонт и есть предел глубины!
Таким образом, мы вполне обоснованно можем считать, что зрительным эквивалентом музыкальному "скачку" между тактом 11 и тремя первыми четвертями такта 12 и будет этот отрезок горизонта в правой части кадра VII.
Можно добавить, что чисто психологически звукозрительное сочетание вполне передает именно такое ощущение людей, чье внимание переброшено далеко за горизонт, откуда они ждут наступления врага.
164
Таким образом, мы видим, что структурно одинаковые куски музыки -эффект "скачка" в начале такта 7 и такта 12 - пластически в обоих случаях разрешаются совершенно аналогично через пластический разрыв.
Но в одном случае - это разрыв по вертикали и на переходе из кадра в кадр III - IV. А во втором случае - по горизонтали и внутри кадра VII в точке М (см. рис. 4).
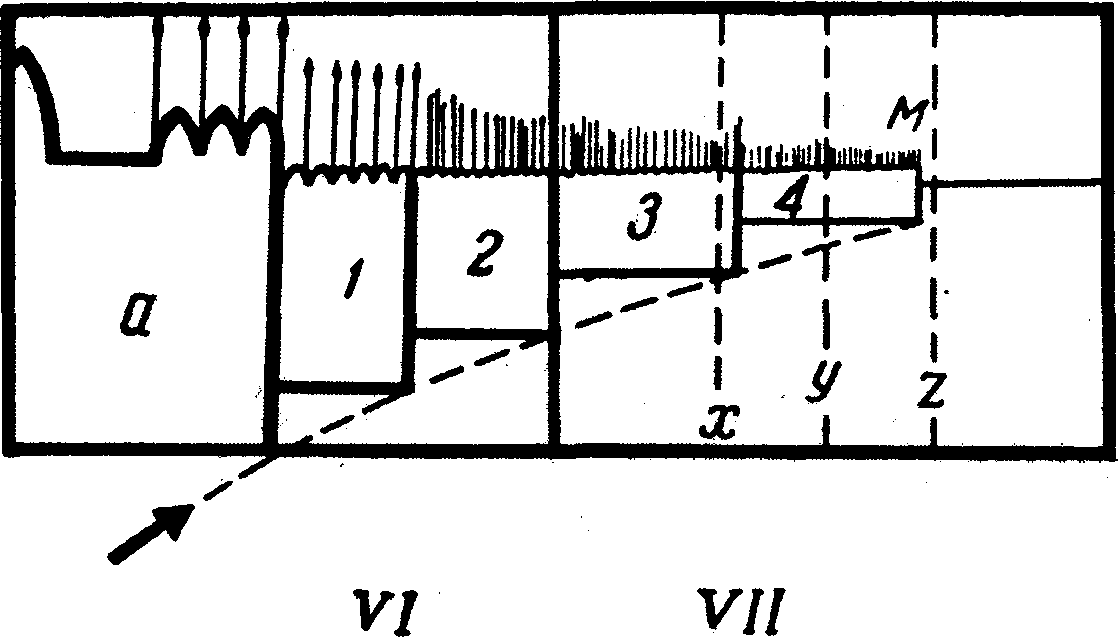
Рис. 4
Но этого мало. В случае III у нас наша линия "свода" размещалась на плоскости. В случае же VI и VII она размещалась перспективно вглубь, то есть пространственно. Ведь по этой линии разместилась система кулис, развертывающая вглубь само пространство, которое, нарастая от плоскости экрана (кулиса а) в глубь экранного пространства, вторит нарастающей вверх гамме звуков.
Таким образом, в случае VI - VII мы можем отметить еще один вид соответствия музыки и изображения, решаемых все через ту же схему, через тот же жест. На этот раз - соответствие пространственное.
Зачертим, однако, в общей схеме этот новый вариант соответствия движений музыки и изображения. Для полноты картины докончим в музыке фразу В (прибавив остальные один с четвертью такта). Это даст нам в музыке полный повтор группы III - IV. Но по линии изображения это вынудит нас добавить кадр VIII, конец которого совпадает с концом такта 13, то есть с концом фразы b
1.Заодно вглядимся в этот кадр VIII.
165
Пластически он рассечен как бы на три части. На первый план внимания внушительно выдвигается впервые за все восемь кусков появляющийся крупный план (Василиса в шлеме). Он занимает лишь часть кадра, оставляя другую его часть фронту войск, размещенных в таком же характере, как и в предыдущих кусках. Этот кадр VIII служит как бы переходным. С одной стороны, он пластически завершает мотив VI - VII. (Не забудем, что вместе с удалением вглубь кусок VII по размеру является укрупнением в отношении предыдущего куска VI, дающим возможность в куске VIII перейти на крупный план.) Органическую связность этих трех кусков VI, VII и VIII между собой как единого целого доказывает и то, что они музыкально окованы фразой а
1 - b1. Это видно из того, что крайние границы этих четырех тактов 10, 11, 12, 13 совпадают с концами кусков VI и VIII, тогда как внутри их ни граница между тактами 10 и 11 не совпадает с пластическим членением, ни граница между кусками изображения VII и VIII не совпадает с членением на такты 11 и 12. (См. схему трех кадров и соответствующей музыки.)В куске VIII заканчивается фраза средних планов войска, идущая через куски VI, VII, VIII, и начинается фраза крупных планов VIII - IX - X.
Совершенно так же через три куска I - II - III шла фраза князя на скале, после чего начиналась фраза общих планов войск у подножья скалы. В фразу о войсках она переходила не через скрещивание в одном кадре, а приемом скрещивания через монтаж.
После куска III вступал кусок следующей фразы "войско", данное общим планом IV, после чего снова появлялся "князь на скале", тоже данный общим планом V.
Этот существенный переход от "князя" к "войскам" отмечен и существенным сдвигом в музыке - переходом из тональности в тональность (C-moll в Cis-moll).
Менее кардинальный переход не от темы (князь) к теме (войско), а внутри одной и той же темы - от средних планов войска к крупным -решается не монтажным, переплетом. III - IV - V - VI, а внутри куска VIII (оборотная сторона вкладки).
Здесь он разрешается средствами двупланной композиции, новая тема (крупные планы) выходит на передний план, а угасающая тема (общая линия фронта) отодвигается на задний. Можно, кроме того, отметить, что "угасание" предыдущей темы здесь выражено еще и бесфокусной съемкой фронта, работающего как фон крупного плана Василисы.
Сам же крупный план Василисы вводит крупные планы - планы Игната и Савки - IX, X, которые вместе с последними двумя кусками XI, XII
166
дадут очередное новое пластическое чтение все той же нашей схеме жеста.
Но об этом дальше.
Сейчас разберем кусок VIII с тем, чтобы можно было зачертить нужную нам схему трех кусков VI - VII - VIII.
Кадр VIII явственно состоит из трех частей.
На первом плане - крупное лицо Василисы. Справа в кадре длинный ряд бесфокусного войска с поблескивающими из бесфокусности шлемами. Слева коротенький отрезок фронта со знаменем, отделяющий голову Василисы от левого края кадра.
Взглянем теперь на то, что мы соответственно имеем в музыке.
На это изображение приходится один такт с четвертью - последняя четверть такта 12 и весь такт 13. В этом отрезке музыки совершенно отчетливо имеются три элемента, из которых на первый план проступает средняя часть - аккорд в начале такта 13. Этот аккорд отчетливо сливается с "ударом" впечатления, который производит здесь первое появление крупного плана.
С середины же такта идут четыре осьмушки, прерываемые паузами. И как когда-то этому не повышающемуся горизонтальному ходу вторили в куске IV флажки, так здесь звездочками вторят... блики, играющие на шлемах войска.
Без "соответствий" как будто остается левый край. Но... мы забыли о восьмушке, оставшейся от предыдущего такта 12, которая "слева" предшествует начальному аккорду такта 13: именно она и "отвечает" этому кусочку пространства слева от головы Василисы.
На основании всего сказанного кусок VIII и соответствующий ему ход музыки мы можем изобразить следующим образом (рис. 5).
В этом месте совершенно естественно встает вопрос: Позвольте! Как вы можете уравнивать строчку музыки с картинкой изображения? Ведь левая сторона одной и левая сторона другой -означают совершенно разные вещи.
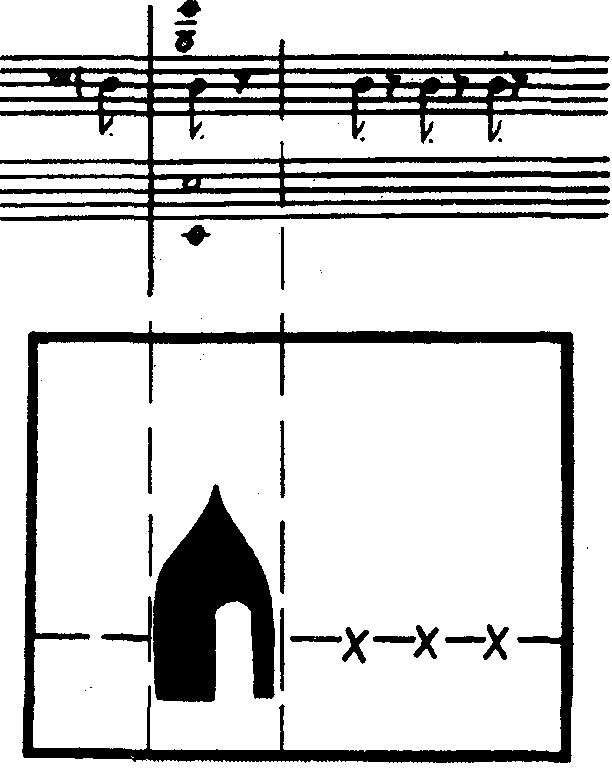
Рис. 5
Неподвижная картинка существует пространственно, то есть в единовремении, и левая или правая ее сторона или центр не имеют характера по-
167
следовательности события во времени. Между тем на нотной линейке мы имеем именно ход времени. Там левая сторона означает "раньше", а правая сторона - "позже".
Все наши рассуждения имели бы силу, если бы в кадре отдельные элементы появлялись бы последовательно, то есть по схеме на рис. 6.
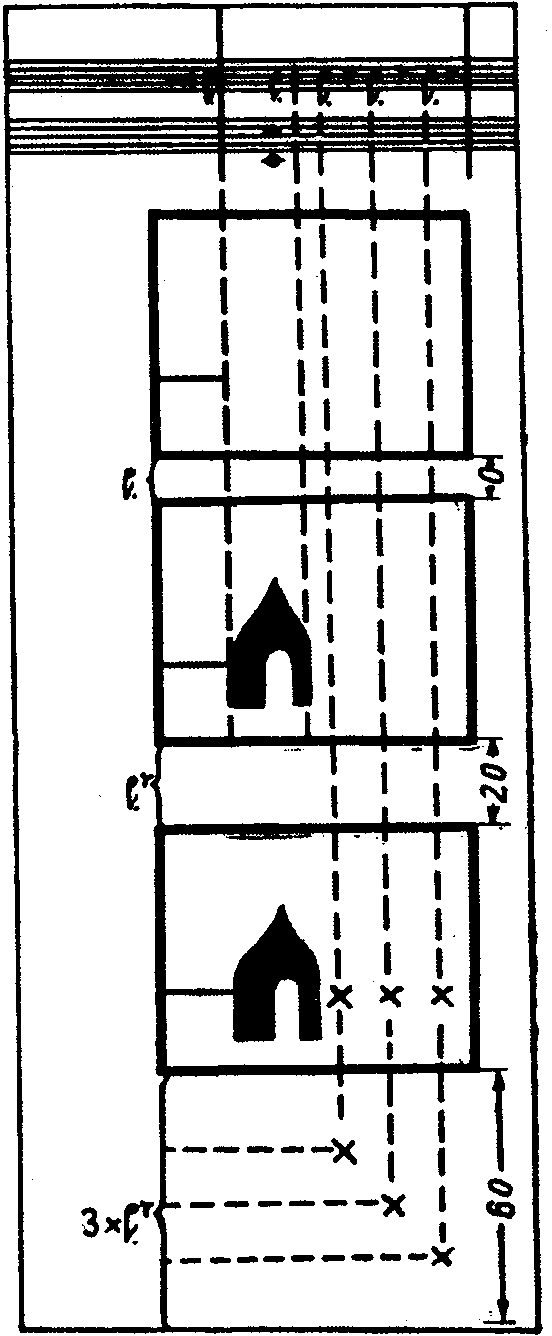
Рис. 6
На первый взгляд это возражение звучит вполне резонно и обоснованно.
Но здесь упущено одно чрезвычайно важное обстоятельство, а именно то, что неподвижное целое картины отнюдь не сразу и не всеми своими частями одновременно входит в восприятие зрителя (за исключением тех случаев, когда композиция рассчитана именно на такой эффект).
Искусство пластической композиции в том и состоит, чтобы вести внимание зрителя тем именно путем, с той именно последовательностью, которые, автор предпишет глазу зрителя двигаться по полотну картины (или по плоскости экрана, если мы имеем дело с изображением кадра).
Интересно отметить, что на более ранней стадии живописи, когда понятие "пути глаза" еще трудно отделимо от физического образа... дороги, в картины так и вводится... предметное изображение дороги, по которой распределяются события согласно желаемой последовательности восприятия. Там это прежде всего касается последовательности разных сцен, как известно, в те периоды изображавшихся на одной картине, несмотря на то, что они происходят в разное время. Сцены, которые зритель должен видеть в желаемой последовательности, располагаются в определенных точках подобной дороги. Так, например, у Дирка Боутса
97 в картине "Сон Ильи в пустыне" на первом плане спит Илья, а в глубине вьется дорога, на которой изображен тот же Илья, продолжающий по ней свой путь. В "Поклонении пастухов" Доменико Гирландайо98 на первом плане сама сцена вокруг младенца, из глубины вьется к перво-168
му плану дорога, по которой движутся волхвы: таким образом, дорога связывает события, разделенные по сюжету на целых тринадцать дней (24 декабря - 6 января)!
Совершенно так же Мемлинг" свои семь дней страстной седьмицы размещает по улицам города.
В дальнейшем, когда подобные скачки во времени уходят с плоскости одной картины, исчезает и физически изображаемая дорога как одно из средств предначертания пути последовательного разглядывания картины.
Дорога переходит в путь глаза, переходя из области изобразительной в область композиции.
Классическим примером в этом отношении остается "Явление Христа народу" А. Иванова, где композиция идет по сворачивающейся кривой, имеющей своей точкой схода самую маленькую по размеру и самую важную по теме фигуру - фигуру приближающегося Христа. Эта кривая нужным для художника образом ведет внимание зрителя по поверхности картины именно к этой фигурке в глубине.
Средства здесь бывают самые разнообразные, хотя для всех характерно одно: в картине есть обычно нечто, что в первую очередь приковывает внимание, которое затем отсюда движется по тому пути, который желателен художнику. Этот путь может быть прочерчен либо линией движения графической композиции, либо как путь градации тонов, либо даже группировкой и "игрою" персонажей картины (например, классический случай расшифровки игры фигур в этом именно плане сделан Роденом для "Отправки на остров Цитеры" Ватто, - см. книгу Поля Гзелля о Родене)
100.Имеем ли мы право говорить о наших кадрах, что в них тоже есть такое же, определенным образом установленное движение глаза?
Мы не только можем на это ответить утвердительно, но еще и добавить, что движение это именно идет слева направо, при этом совершенно одинаково для всех двенадцати кадров, и по характеру своему в полном соответствии с характером движения в музыке.
Действительно, в музыке мы имеем на протяжении всего отрезка чередование двух типов фраз: А и Б.
А построено по типу рис. 7.
Б построено по типу рис. 8.
Сперва аккорд, и затем на фоне его звучания либо "сводом" идущий подъем гаммы
*, либо горизонтально движущаяся повторяемость одной и той же ноты.Например, для куска III это будет восходящий тремолирующий ход виолончелей гаммой до-минор (C-moll). (Прим. С. М. Эйзенштейна
).169
Совершенно так же пластически строятся все кадры (кроме IV и XII, которые работают не как самостоятельные кадры, а как продолжение движении предыдущих).
Действительно, у них у всех в левой части кадра - наиболее темное, плотное, тяжелое, сразу же приковывающее внимание подобие тяжелого пластического "аккорда".
В кадрах I - II - III это черные фигуры, расположенные на тяжелых массивах скалы. Они приковывают внимание не только тем, что черные, но и тем, что это единственные живые люди в кадрах.
В кадре V - это те же фигуры, но еще и черный массив камня.
В кадре VI - четыре копьеносца первого плана.
В кадре VII - массив войска и т. д. И во всех этих кадрах вправо располагается то, на что обращаешь внимание во вторую очередь: нечто легкое, воздушное, поступательно "идущее", заставляющее глаз следовать за собой.
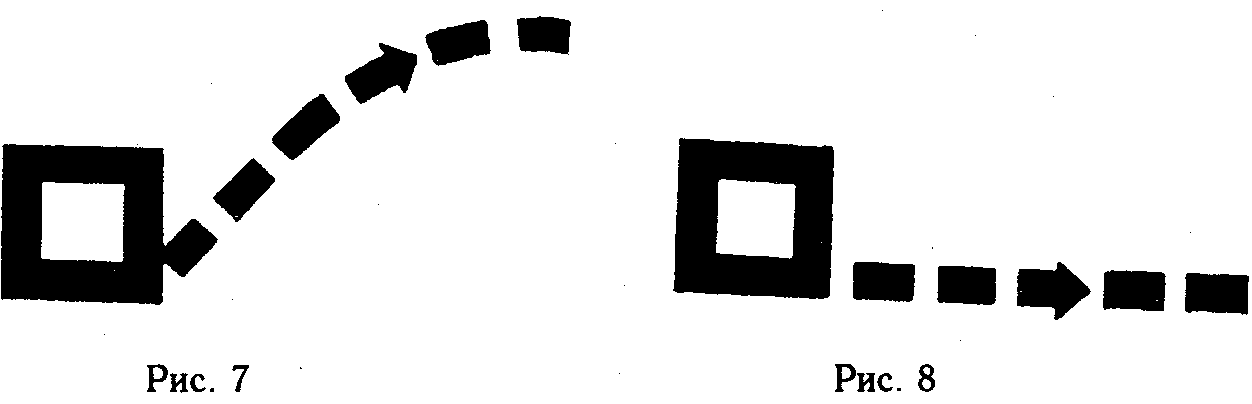
В кадре III - линией "свода" вверх,.
В кадрах VI - VII "кулисами" войск - в глубину.
В кадре V - в "размыв" полос неба.
Таким образом, и для системы пластических кадров: левое - это "прежде", а правое - "потом", ибо глаз совершенно определенным образом через каждый в себе неподвижный кадр действительно движется слева направо.
Это дает нам право, дробя композицию кадров по вертикали, устанавливать в них доли тактов, которые приходятся на отдельные пластические элементы и на "вступление" новых.
Именно на ощущение этого обстоятельства собирались кадры и уточнялись звукозрительные соответствия и соединения. Такой кропотливый анализ и раскрытие соответствий, какой мы делаем сейчас, возможен, конечно, только post factum, но он свидетельствует лишь о том, до какой степени конструктивно ответственна та композиционная "интуиция", которая "чутьем" и "ощущением" осуществляет звукозрительную сборку.
170
Итак, кадр за кадром глаз приучивается к тому, чтобы читать изображение слева направо.
Но мало этого: это горизонтальное чтение каждого отдельного кадра Все в том же направлении - слева направо, настолько приучает глаз к горизонтальному чтению вообще, что кадры психологически пристраиваются друг к другу тоже как бы рядом по горизонтали, все. в том же направлении слева направо.
А это дает нам право не только отдельный кадр членить "во времени" по вертикали, но и пристраивать кадр к кадру по горизонтали и прочерчивать по ним хода музыки именно таким образом.
Воспользуемся этим обстоятельством и зачертим одной общей схемой наши три последовательных кадра VI - VII - VIII (см. общую [таблицу]), движение сливающейся с ними музыки и ход того общего пластического жеста, который лежит в основе движения обоих. Жест этот тот же самый, что проходит через сочетание кусков III - IV. Интересно, что здесь он решен не через два куска, а через три и что эффект "падения" здесь помещен внутри кадра VII, а не на переходе из кадра в кадр, как это сделано в кусках III - IV
* .По этой схеме, добавив к ней еще ряд изображений, мы дальше выстраиваем и общую схему-график для всех двенадцати кусков. Сличив же схему VI - VII - VIII со схемой III - IV, мы увидим, насколько в данном случае сложнее звукозрительная разработка "вариаций" на базе одного и того же исходного движения - жеста.
Немного выше мы обратили внимание на тот факт, что повторяющееся в каждом кадре движение слева направо дает психологическую предпосылку к тому, что и самые кадры как бы пристраиваешь друг к другу по горизонтали в одном и том же движении слева направо. Это, в частности, и разрешило нам на схеме именно так, по горизонтали, располагать последовательность наших кадров.
Однако в связи с этим здесь имеет место еще одно
гораздо более важное обстоятельство другого
порядка, ибо психологический эффект от этих
кадров, неизменно бьющих (кроме IV и XII, о которых
речь будет впереди) слева направо, слагается уже
в обобщающий образ общего внимания,
направленного откуда-то слева куда-то вправо.
___________
171
Это же подчеркивает еще и игровой "индикатор" - направленность взглядов участников все в ту же сторону I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI.
Крупный план IX глядит влево, но этим он только усиливает общую направленность внимания вправо.
Он подчеркивает это внутри игры "трезвучия" тех трех крупных планов VIII, IX, X, где он занимает среднее положение наиболее короткое время (три четверти такта музыки при одном с осьмой и одном с четвертью тактах, выпадающих на долю кусков VIII и X).
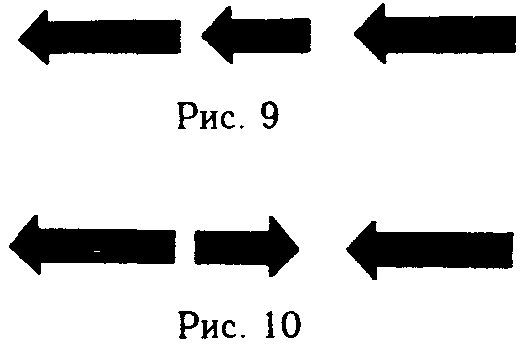
Его поворот влево дает вместо монотонного ряда (рис. 9) нервный ряд (рис. 10), при котором третий крупный план Х приобретает еще резкую подчеркнутость своего направления от переброски его на целых 180° вместо общей маловыразительной направленности, которую дала бы схема первая.
Так же строит в некоторых случаях и Пушкин. Он дает три детали убиваемых в бою с печенегами ("Руслан и Людмила"):
один поражен стрелой, другой - булавой, а третий раздавлен конем.
Последовательность - стрела, булава, конь - соответствовала бы прямому нарастанию.
Пушкин поступает иначе. Он располагает "массивность" удара не по простой восходящей линии, но с "отходом" в среднем звене:
не: стрела - булава - конь, а: булава - стрела - конь.
...Тот опрокинут булавою;
Тот легкой поражен стрелою;
Другой, придавленный щитом, Растоптан бешеным конем...
("Руслан и Людмила")
Итак, отдельные движения глаза слева направо через всю систему кадров складываются в один обобщающий образ чего-то расположенного слева, но устремленного "нутром" куда-то вправо.
Но... ведь именно этого-то ощущения и добивается весь этот комплекс из 12 кусков: и князь на скале, и войско у подножья скалы, и об-
______________
172
щее ожидание - все направлено туда, вправо, вдаль, куда-то за озеро, откуда появится пока еще незримый враг.
На этом этапе сцены враг дан пока что только через ожидание его русским воинством.
Затем будут три пустых кадра пустынной снежной поверхности озера.
И в середине третьего куска появится враг "в новом качестве" - прогремит его рог. Конец звучания рога ляжет на кусок, изображающий группу Александра. Это даст ощущение того, что звук "шел издалека" (серия пустых пейзажей) и "дошел" до Александра ("лег на изображение русских").
Звук вступает с середины куска пустого пейзажа, и этим звук воспринимается как бы из середины изображения - фасом. Отсюда - фасом (лицом к врагу) его слышит кадр с группой русских.
В дальнейшем фасом же движется атака рыцарской конницы, вырастающей из линии горизонта, с которой она кажется слившейся вначале. (Эту тему наступления фасом задолго до этого, загодя подготавливают куски IV и XII - оба фасные; и вот в чем их основное композиционное обоснование помимо совершенно точного пластического эквивалента, который они дают в своем месте музыке.)
Ко всему сказанному выше следует сделать одну существеннейшую оговорку.
Совершенно очевидно, что горизонтальное прочтение кадров и "пристройка" их в восприятии друг к другу по горизонтали отнюдь не всегда имеет место. Оно, как мы показали, целиком вытекает из образного ощущения, которое надобно вызвать сценой; ощущения, связанного с вниманием, направленным слева направо.
Эта черта образа достигнута одинаково полно как изображением, так и музыкой, и подлинной внутренней синхронностью обоих. (Ведь и музыка рисуется расходящейся и двигающейся вправо от тяжелых аккордов, занимающих "левую" сторону. Для наглядности стоит себе на мгновение представить эти фразы, имеющие аккорды "справа", то есть оканчивающимися аккордами: в таком случае никакого ощущения "полета" за дали Чудского озера в них бы уже не было!)
В других случаях, работая на другой образ, композиция кадров станет "воспитывать" глаз на совершенно иное пластическое чтение.
Она приучит глаз не пристраивать кадр к кадру сбоку, а заставит его, например, наслаивать кадр на кадр.
Это даст ощущение втягивания внимания в глубину или наезда изображения на зрителя.
173
Представим себе, например, последовательность четырех возрастающих крупных планов различных людей, расположенных строго по центру. Естественно, что восприятие прочтет их не по схеме первой, а по схеме второй (рис. 11).
То есть не как движение мимо глаза - слева направо, а как движение от глаза при последовательности 1, 2, 3, 4 или на глаз при последовательности 4, 3, 2, 1.
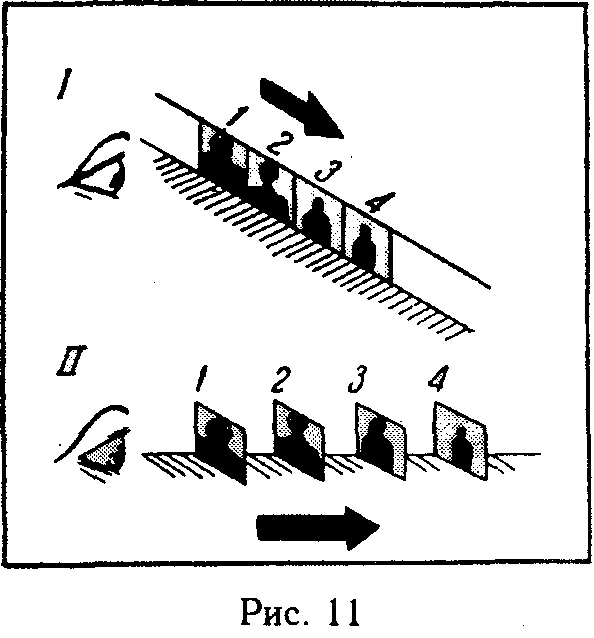
Разновидность второго типа мы только что отметили, разбирая звучание рога и перестройку на фасную глубину для сцены, которая идет в фильме вслед за разобранной.
Ведь кадр типа XII, на который попадает первое звучание рога, мог бы тоже читаться "по инерции" слева направо, а не вглубь (рис. 12).
Однако перемене движения внимания именно вглубь способствуют две вещи.
Во-первых, звук, вырывающийся из середины куска по времени: восприятие невольно поместит его по аналогии и пространственно в середину куска.
Во-вторых, ступенчатый ход серо-белых полос снега в нижней части кадра, идущий вверх (рис. 13).
Эта как бы "лестница" ведет глаз вверх, но это движение вверх по плоскости есть вместе с тем приближение к линии горизонта, таким образом психологически читается как пространственное движение к горизонту, то есть вглубь, таким образом как раз так, как нам нужно. Это еще усиливается тем, что следующий за ним кусок дан почти таким же, но с пониженной линией горизонта: увеличивающееся пространство неба гонит глаз на восприятие еще большей дали. В дальнейшем этот условный ход глаза сперва звуково (приближающимся звуком), а затем предметно (скачущей конницей) окончательно материализуется к моменту атаки.
Так же легко приучить глаз системой расположения пятен, линий или движений к вертикальному чтению и т. д. и т. д.
Остается еще вовсе кратко сказать о кусках IX - Х и XI - XII. Как уже было указано выше, куски IX - Х ложатся на фразу a1 (равную А в новой тональности). К этому можно добавить, что куски XI - XII совершенно так же ложатся на фразу b1i.
Как видим, здесь, в отличие от кусков III и IV, в которых на два такта фразы a
1 - б1 приходится по одному изображению, на каждые два такта фразы a1 - bi приходится по два изображения.174
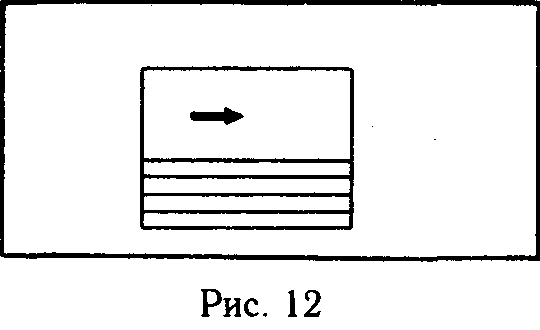
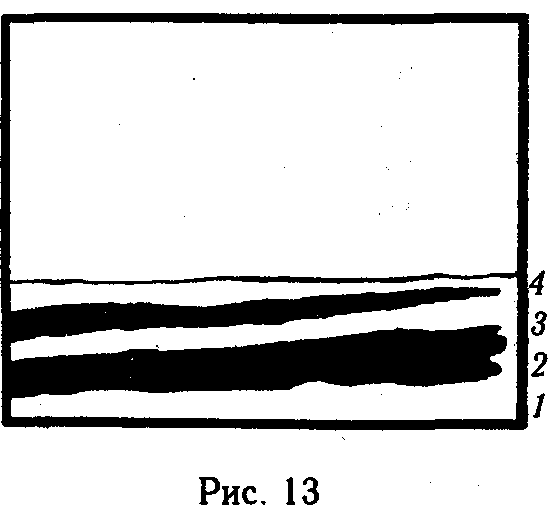
Посмотрим, повторят ли куски IX - Х - XI - XII ту же схему движения жеста, что мы имели в кусках III - IV, и если да, то в каком новом аспекте это произойдет. Первые три четверти первого такта падают на крупный план IX. Эти три четверти такта падают на вступительный аккорд -"площадку", как мы его называли. И изображение, которое ему вторит, кажется увеличением с первых трех
четвертей куска VI: крупный план бородача (Игната) на густом фоне копий - здесь, как четыре копьносца - там, оставшиеся пять четвертей фразы падают на кадр X. И фон этого куска сравнительно с предыдущим рисуется почти свободным от копий (их в восемь раз меньше, чем в кадре IX): налицо такое же "облегчение", как было в "кулисах" правой части кадра VI сравнительно с его левой стороной. Любопытно, однако, что толчки, которыми возрастал "свод", тоже присутствуют и здесь - и при этом вовсе неожиданным образом, а именно:в виде... толчков пара, последовательно вылетающих из прерывисто дышащей
глотки. Однако же основное, чем проигрывается здесь наш "свод", - это,
конечно, нарастающее напряжение, которое дано здесь в игре - в нарастающей игре волнения.
Таким образом, здесь появляется еще новый фактор воплощения нашего "жеста" - психологически-игровой, идущий через нарастание чувств.
Но это воплощение можно рассматривать и как объемное. Ибо здесь в переходе с кадра Х к кадру XI, аналогичному "падению" III - IV, мы имеем не менее резкий скачок от крупного и объемного плана молодого лица, повернутого в сторону аппарата (Савки), снова к общему плану мелких фигур, повернутых спиной к аппарату и смотрящих вдаль. Скачок здесь дан не только через "падение" масштаба, но еще и
через оборот фигур.Эти два кадра Х и XI аналогичны правой и левой сторонам одного кадра VII. Каждая из половинок кадра VII там представлена здесь целым кадром аналогичного звучания. Естественно, что они представлены здесь обогащенно и отяжеленно (сравним VII и XI или отрезок горизонта в VII с целым куском пустого поля кадра XII).
В остальном же они ведут игру совершенно одинаковую. Любопытно, что в куске XII также фигурирует отстук флажков куска IV или бликов
175
куска VIII: здесь они даны по вертикали через полоски, отделяющие белые полосы от серых на поверхности снега.
Итак, мы видим, что одна и та же схема жеста, устанавливающая синхронность внутреннего движения музыки и изображения, пластически предстала перед нами во всех вариациях:
тонально (кадр I),
линейно (кадр III),
пространственно (кулисами кадров VI - VII),
игрово и объемно (поведением внутри кусков IX - Х и пластически в переходе Х - XI).
Так же различного рода вариациями игралось и само тревожное ожидание врага: смутно, "общо" и невысказанно, через свет I и линию III, мизансценой, группировкой VI - VII и, наконец, вплотную открытой нарастающей игрой VIII - IX - X.
Осталось оговорить лишь еще один нетронутый кусок V. По ходу разбора он уже был назван "переходным". Тематически он именно таков:
это переход от князя на скале к войскам у подножия.
Музыкально он тоже переходит из одной тональности в другую, что тематически вполне обосновано. Наконец, и чисто пластически он таков же. Здесь в единственном куске на протяжении всего эпизода мы имеем обратную фигуру того, что мы назвали "сводом": она в левой стороне кадра, а не в правой; служит контуром не для легкой части кадра, а для тяжелой; и движется не вверх, а вниз, в полном соответствии с музыкой, где это же выражено движением вниз кларнет-баса на продолжающемся фоне тремолирующих скрипок.
Однако вместе со всем этим кадр не может целиком вырываться из общей картины; не может целиком противопоставляться, ибо тематическое содержание его (князь на скале) связано в единстве с тематическим содержанием прочих кадров (русские войска у подножия скалы).
Иначе обстояло бы дело, если бы в этом куске фигурировал бы элемент антагонистической темы, например, врагов-рыцарей. Тогда резкая врезка, умышленное разрывание общей ткани было бы не только "желательно", но и закономерно необходимо. Именно так, резким звуком врывается дальше тема противника (см. описание выше). А дальше "стычка" тем обоих противников скрещивается поединком из сталкивающихся кусков. Сперва она идет как столкновение монтажных кусков, резко противоположных по композиции и по строю: белые рыцари - черные русские войска; неподвижные русские войска - скачущие рыцари; открытые живые, переживающие лица русских - закованные, железные маски вместо лиц у рыцарей и т. д.
Эта мысль о столкновении врагов сперва дана как столкновение контрастно скомпонованных монтажных кусков: так решается эта первая
176
вводная фаза боя - боя, решенного пока без физически игрового соприкосновения войск, но вместе с тем боя, уже звучащего через столкновение пластических элементов оформления обоих антагонистов.
Конечно, ничего подобного между куском V и всеми остальными быть не может. И кстати же сказать, несмотря на то, что все признаки куска V противоположны всем признакам других кусков, он все-таки не выскакивает и не вырывается из их единства. Чем же это достигнуто?
Очевидно, не чертами самого куска, который, как мы видели, всеми своими чертами отрывается от других.
Что же тем не менее "впаивает" его в их среду? Искать этого надо, видимо, за пределами самого куска. И если мы взглянем на весь развернутый фронт изображений, то мы быстро обнаружим, что есть еще два куска, которые в более слабой степени прочерчивают ту же самую перевернутую кривую свода, характерную для спадающей линии черной скалы куска V.
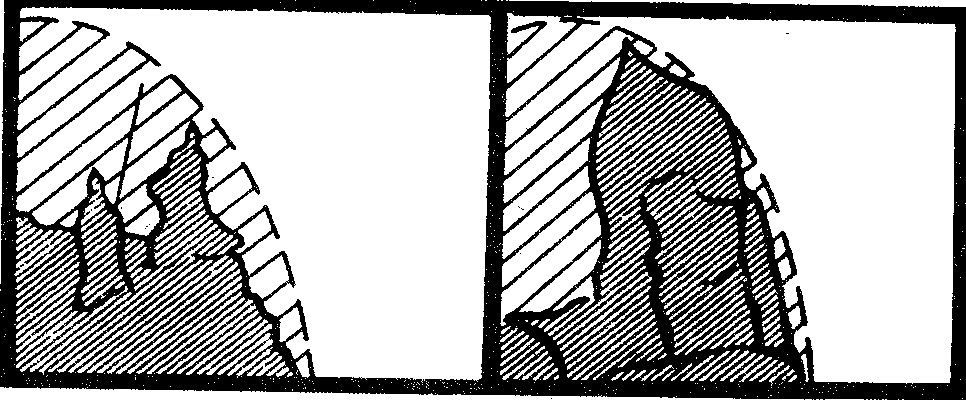
Рис. 14
Расположены эти куски по разные стороны от куска V, то есть один из них по времени предшествует ему, другой - следует за ним.
Другими словами, один кусок пластически подготовляет появление куска V. Другой - снова сводит его "на нет".
Оба куска как бы "амортизируют" его появление и исчезновение, которые без них были бы чрезмерно резкими.
При этом оба куска еще и равно удалены от куска V (по количеству промежуточных между ними изображений).
Эти куски: кусок II и кусок VIII.
Действительно, если мы прочертим по ним основную направляющую линию их главных массивов, то увидим, что линии эти совпадут с линией контура скалы из куска V (рис. 14).
177
В отличие от того, что происходит в куске V, в кусках II и VIII эта линия физически не прочерчена, но она служит конструктивной линией, по которой возведены основные массивы обоих кусков II и VIII.
Кроме этих основных средств спайки куска V с остальными есть еще любопытные "скрепы" этого куска с кусками, рядом стоящими.
С кадром IV он связан... флажком на скале, который как бы проделывает игру флажков по фронту куска IV; и последний музыкальный акцент флажков, собственно говоря, уже совпадает с появлением флажка в кадре V.
С куском же VI кусок V связан тем, что в самой левой части кадра виден черный контур низа скалы.
Этот низ скалы здесь важен не только по пластически композиционным соображениям, но и по чисто топографически информационным: он дает представление о том, что войска расположены действительно у подножия Вороньего Камня. Несоблюдение таких, казалось бы, "информационных мелочей", к сожалению, встречается в наших фильмах чересчур часто и, суммируясь, ведет к тому, что часто вместо отчетливой дислокации целого боя со своей определенной топографической и планировочной логикой мы имеем дело с истерическим хаосом схваток, сквозь которые никак не уловить общей картины разворачивания и поступи всего события в целом.
При всем этом, однако, надо иметь в виду, что композиционное единство здесь достигается, как ни странно, еще и тем самым обстоятельством, что кусок V дает противоположность зеркального порядка. И поэтому здесь ощущается такое же единство, какое ощущается количественно в одной и той же величине, представленной со знаком плюс или минус.
Совсем иначе воспринималось бы дело, если бы в куске V, например, была бы не только та же самая, хоть и перевернутая кривая свода, а ломаная линия или прямая. Тогда бы она приравнялась бы к перечисленным противоположностям дальнейшего порядка (черное - белое, неподвижное - подвижное и т. д.), где мы имеем дело с качествами полярно-различными, а не с одинаковыми количествами, снабженными лишь разными знаками.
Но эти соображения общего порядка могли бы нас завести слишком далеко.
Воспользуемся здесь лучше тем обстоятельством, что мы теперь можем со спокойной совестью вычертить общую схему звукозрительных соответствий и кривую их движения на протяжении всего эпизода. (При повторном прочтении самого разбора рекомендуется следить за рассуждением, имея перед глазами эту схему.)
178
В подробности гармонической игры повторов и вариации мы здесь не входим. В этом отношении схема говорит сама за себя как строчкой разбивок, так и строчкой движения типовой фигуры.
Остается, однако, коснуться еще одного вопроса.
Дело в том, что мы в самом начале статьи высказали общий принцип, согласно которому достигается звукозрительное единство и соответствие:
мы определили его как единство обоих "в образе", то есть через единый образ.
Сейчас же мы обнаружили, что пластически-музыкальным "объединителем" оказался росчерк того движения, который несколько раз проходит, повторяясь, через все построения в целом. Нет ли здесь противоречия и можем ли мы, с другой стороны, утверждать, что в нашей типовой для данного отрезка линейной фигуре есть известная "образность", к тому же образность, еще и связанная с "темой" куска?
Всмотримся в нее на общей схеме жеста (см. рис. 1).
Если мы постараемся прочесть ее эмоционально, применительно к сюжетной теме отрывка, то на поверку окажется, что мы здесь имеем дело со своеобразной обобщенной "сейсмографической" кривой некоторого процесса и ритма тревожного ожидания.
Действительно, начиная от состояния относительного покоя идет напряженно (см. выше) нарастающее движение - легко читаемое как напряженное вглядывание - ожидание.
К моменту, когда напряжение достигает предела, происходит внезапная разрядка, полное падение напряжения, как вырвавшийся вздох.
Сравнение здесь вовсе не случайно, ибо это даже не сравнение, а... прообраз самой схемы, которая, как всякая живая композиционная схема, всегда есть сколок с известного эмоционально окрашенного действия человека; с закономерностей этого действия; с его ритмов.
И фрагмент а - в - с совершенно отчетливо воспроизводит "затаенность дыхания" - задержанного выдоха, в то время как грудная клетка готова разорваться от нарастающего волнения, неразрывного с усиленным втягиванием воздуха в себя - "Вот-вот проступит на горизонте враг". "Нет. Еще не видно". И облегченный вздох: грудная клетка, дыбившаяся вверх, вместе с глубоким выдохом спадает вниз... Даже здесь, в строчке описания, невольно ставишь после этого... многоточие, многоточие, как пульсирующий отыгрыш реакции на только что нараставшее напряжение.
Но вот вновь что-то задело внимание... Снова неподвижная остановка с новым начальным аккордом новой музыкальной фразы перед тем, чтобы снова через нарастающее напряжение подняться до соответствующей точки, снова падение и т. д. И так идет весь процесс, равномерно, неизменно
179
повторяясь с тон монотонной повторностью, которая делает подобное ожидание нестерпимым для ожидающих...
Расшифрованная таким образом наша кривая подъемов, падений и горизонтальных отзвуков вполне обоснованно может считаться предельным графическим обобщением того, во что может воплотиться обобщенный образ процесса некоего взволнованного ожидания.
Свое реальное наполнение точным содержанием, свой полный образ "ожидания" это построение получает лишь через всю полноту кадра, то есть тогда, когда эти кадры наполнены реальным пластическим изображением, однако таким, которое окажется оформленным композиционно согласно той схеме, что в самом обобщенном виде прочерчивает эту же тему (то есть согласно нашей схеме).
При этой не меняющейся обобщенной схеме эмоционального содержания сцены, музыкально повторяющейся несколько раз подряд, на долю пластической стороны, на долю
сменяющихся изображений кадров выпадает роль нарастания напряжений.И в нашем эпизоде мы видим, что нарастающая интенсивность вариаций в изображениях проходит последовательно по ряду измерений:
1. Тонально I.
2. Линейно III - IV.
3. Пространственно VI - V
II - VIII.4. Объемно (массивами крупных планов) и одновременно же игрово (игрою этих крупных планов) с IX - Х - XI - XII.
При этом самый порядок отыгрыша их именно в такой последовательности тоже вовсе не случаен. Он тоже составляет отчетливо нарастающую линию от "смутной", неконкретной, тревожной "игры света" (выход из затемнения) вплоть до явной конкретной игры. человека - реального персонажа, реально ожидающего реального противника.
Остается ответить лишь еще на один вопрос, который с неизбежностью ставится всяким слушателем или читателем, когда перед ним развертываешь картину закономерностей композиционных построений: "А вы заранее это знали? А вы заранее это имели в виду? А вы заранее все это так рассчитали?"
Подобный вопрос обычно раскрывает полную неосведомленность вопрошающего в том, каким порядком в действительности идет творческий процесс.
Ошибочно думать, что предвзятым составлением режиссерского сценария, каким бы "железным" он ни именовался, заканчивается творческий процесс и процесс начертания таких нерушимых композиционных формул, которые априори определяют все тонкости конструкции.
180
Это совершенно не так или в лучшем случае лишь в известной мере так.
Особенно же в тех сценах и эпизодах "симфонического" порядка, где куски связаны динамическим ходом развития какой-либо широкой эмоциональной темы, а не ленточкой сюжетных фаз, которые могут развертываться только в определенном порядке и в определенной последовательности, предписываемых им житейской логикой.
С этим же вопросом тесно связано и другое обстоятельство, а именно то, что в самый период работы не формулируешь те "как" и "почему", которые диктуют тот или иной ход, то или иное выбираемое "соответствие". Там обоснованный отбор переходит не в логическую оценку, как в обстановке постанализа того типа, который мы сейчас развернули, но в непосредственное действие.
Выстраиваешь мысль не умозаключениями, а выкладываешь ее кадрами и композиционными ходами.
Невольно вспоминаешь Оскара Уайльда
101, говорившего, что у художника идеи вовсе не родятся "голенькими", а затем одеваются в мрамор, краски или звуки.Художник мыслит непосредственно игрой своих средств и материалов. Мысль у него переходит в непосредственное действие, формулируемое не формулой, но формой. (Пусть мне простят эту аллитерацию, но уж больно хорошо она раскрывает взаимосвязь всех троих.)
Конечно, и в этой "непосредственности" необходимые закономерности, обоснования и мотивировки такого именно, а не иного размещения проносятся в сознании (иногда даже срываются с губ), но сознание не задерживается на "досказывании" этих мотивов, - оно торопится к тому, чтобы завершить само построение. Работа же по расшифровке этих "обоснований" остается на долю удовольствий постанализов, которые осуществляются иногда через много лет спустя после самой "лихорадки" творческого "акта", того творческого "акта", про который писал Вагнер в разгаре творческого подъема 1853 года
102, отказываясь от участия в теоретическом журнале, задуманном его друзьями. "Когда действуешь - не объясняешься".Однако от этого сами плоды творческого "акта" нисколько не менее строги или закономерны, как мы попытались показать это на разобранном материале.
1940
181
Примечания
Цикл статей написан в июле - августе 1940 г. Опубликован в журнале "Искусство кино", 1940, ? 9, стр. 16-25; ? 12, стр. 27-35; 1941, ? 1, стр. 29-38, по тексту которых и воспроизводится с небольшими уточнениями по авторскому подлиннику (РГАЛИ, ф. 1923, on. 1, ед. хр. 1279-1283).
Как указывается в начале первой статьи, "Вертикальный монтаж" является прямым продолжением статьи "Монтаж 1938". В личном архиве Эйзенштейна сохранился план книги о монтаже, в который помимо названия "Монтаж 1938" с подзаголовком "Горизонтальный монтаж" включены названия "Монтаж 1939 (Вертикальный монтаж)" и "Монтаж 1940 (Хромофонный монтаж)
". Как видно из подзаголовков этой неосуществленной книга, ее материал вошел в основном в исследование "Вертикальный монтаж".Кроме того, "Вертикальный монтаж" как по замыслу, так и по материалу связан с исследованием 1937 г. "Монтаж".
Первая статья исследования посвящена общему теоретическому обоснованию идеи вертикального (звукозрительного) монтажа. Ее родословная восходит к декларации 1928 г. "Будущее звуковой фильмы. Заявка", подписанной Эйзенштейном, В. И. Пудовкиным и Г. В. Александровым. Отказываясь от максимализма вывода этой декларации, требовавшей обязательного несовпадения (несинхронности) звука и изображения, Эйзенштейн развивает в "Вертикальном монтаже" принцип звукозрительного контрапункта. Основное внимание при этом уделяется поискам соизмеримости изображения и музыки, слияния их в единое гармоническое целое. К решению этой задачи Эйзенштейн подходит с разных сторон, анализируя возможности образного соотнесения музыки с цветом, световой тональностью, линейным контуром или, по определению самого
Эйзенштейна, "обертонами" монтажного кадра. Впервые "обертонный монтаж" изображения был применен им в фильме "Старое и новое", теоретически обоснован в статье "Четвертое измерение в кино". Вторая статья данного исследования, известная также под названием "Желтая рапсодия", представляет собой исторический обзор и критический анализ многочисленных попыток навязать каждому цвету определенный смысл. Основные положения этой статьи были изложены Эйзенштейном еще в 1937 г. в неопубликованном фрагменте, предназначавшемся для III раздела исследования "Монтаж". Отстаивая и обосновывая принцип образного смысла цвета, устанавливаемого самим художником, Эйзенштейн отвечает на вопрос, поставленный им в декларации 1940 г. "Не цветное, а цветовое" (полный текст см. в сб.: С. М. Эйзенштейн, Из-182
бранные статьи, М., 1956). В дальнейшем идеи "Желтой рапсодии" были развиты в статьях и заметках 1947-1948 гг., посвященных цвету в кино.
В третьей статье "Вертикального монтажа" на примере звукозрительного построения эпизода из фильма "Александр Невский" Эйзенштейн демонстрирует технику гармонизации изображения и музыки в случае, когда за основу берется принцип соотнесения их линейных контуров. Подробный анализ образного смысла, раскрываемого линейным построением кадра и пластическим развитием изображения, дан им ранее в статье "Э! О чистоте киноязыка" и в I разделе исследования "Монтаж".
В статьях, объединенных заголовком "Вертикальный монтаж", Эйзенштейн более глубоко по сравнению с его ранними статьями анализирует проблему взаимодействия формы и содержания художественного произведения, раскрывает определяющее значение темы, идеи. Полемизируя со сторонниками "чистой формы", он пишет: "...не мы подчиняемся каким-то "имманентным законам" абсолютных "значений" и соотношений цветов и звуков... мы сами предписываем цветам и звукам служить тем назначениям и эмоциям, которым мы находим нужным". Далее Эйзенштейн, отвергая упреки в том, что его фильмы якобы являются иллюстрациями к научным опытам, дает развернутую характеристику особенностей творческого процесса. В частности, он пишет: "Выстраиваешь мысль не умозаключениями, а выкладываешь ее кадрами и композиционными ходами".
С другой стороны, "Вертикальный монтаж" продолжает линию основных статей Эйзенштейна о театре - "Нежданный стык" и "Воплощение мифа". В первой из них Эйзенштейн обращал внимание на важность для звукового кино традиций японского театра Кабуки, в котором образный строй происходящего на сцене действия, его эмоциональное богатство обусловлены использованием "разных измерений" театрального спектакля - от жеста и мизансцены до декорации и музыки. В "Воплощении мифа" он пишет, в частности, об идеале "синтетического театра" Рихарда Вагнера, опираясь на свой опыт постановки в Большом театре оперы "Валькирия".
Таким образом, "Вертикальный монтаж" как бы подытоживает несколько направлений, по которым шел Эйзенштейн в исследовании законов киномонтажа. Окончательный итог своей концепции он подвел в фундаментальном теоретическом труде "Неравнодушная природа".
1
...о принадлежности выразительных средств к самым разнообразным областям толкуют почти все примеры от Леонардо да Винчи до Пушкина и Маяковского включительно. - Примечательна связь этого высказывания с первой декларацией Эйзенштейна "Монтаж аттракционов". Уже давно не делая упора на физиологическое воздействие произве-183
дения, Эйзенштейн сохраняет "рациональное зерно" своей ранней декларации, подчеркивая активную роль всех выразительных средств театра и кино в создании образной ткани произведения.
2
Как. и всегда, неисчерпаемым кладезем опыта останется и остается человек. - В подготовительных материалах к статье "Монтаж 1938" сохранилась следующая выписка Эйзенштейна: "Природу можно мыслить независимо от человека; искусство же необходимо приурочено к человеку; ибо искусство существует только через человека и для него". Гете, 1799, "Коллекционер и его семья" ("Der Sammler und die Seinige")" (РГАЛИ, ф. 1923, on. 1, ед. хр. 1414).3
..."Явление Христа народу" Иванова и эскизы к нему...- Иванов Александр Андреевич (1806-1858) - русский художник; речь идет об эскизах для монументального полотна "Явление Христа народу", работа над которым продолжалась много лет. Было создано более трехсот эскизов, многие из которых по своим художественным достоинствам считаются наиболее высокими образцами творчества А. А. Иванова.4
Гонкуры - братья Эдмон (1822-1896) и Жюль (1830-1870) - французские писатели. Всегда выступали в соавторстве, вплоть до смерти Жюля; после 1870 г. Эдмон продолжал публиковать свои собственные романы. "Дневник Гонкуров" - мемуары обоих писателей, охватывающие два десятилетия, с 1850 до 1870 г.5
...мы совместно с Пудовкиным и Александровым подписывали нашу "Заявку" о звуковом фильме еще в 1929 году. - "Будущее звуковой фильмы" написано и опубликовано в 1928 г.6
...я писал в связи с выходом фильма "Старое и новое" (1929). -Эйзенштейн имеет в виду статью "Четвертое измерение в кино".7
...синкопированных сочетаний... - Синкопа в музыке - перенесение ударения с акцентированной ноты на неакцентированную.8
Дидро Дени (1713-1784) - французский философ-материалист, писатель, автор ряда философско-эстетических произведений.9
Вагнер Рихард (1813-1883) - немецкий композитор.10
Скрябин Александр Николаевич (1871-1915) - русский композитор и пианист.11
Эккартсгаузен Карл, фон (Эйзенштейн ошибочно указывает инициал Г.) (1752-1803) - немецкий писатель.12
Рембо Артюр (1854-1891) - французский поэт, один из основоположников символизма.13
Рене Гиль - псевдоним французского писателя Р. Жильбера (1862-1925). Обособившись в конце 1880-х гг. от символистов. Гиль создал свою поэтическую школу "инструменталистов", утверждающих, что звук каж-184
дого слова должен вполне соответствовать выражаемой идее. Впоследствии он создал теорию научной поэзии, являющейся "верховным актом мысли" и долженствующей пополнять выводы науки.
14
Гельмголъц Герман (1821-1894) - один из крупнейших немецких естествоиспытателей, ему принадлежат фундаментальные работы в области физиологии слуха и зрения. Таблицы, о которых упоминает Эйзенштейн, приведены в работе Гельмгольца "Акустика".15
Шлегель Август Вильгельм (1767-1845) - немецкий критик, литературовед и переводчик.16
Хёрн Лафкадио - английский писатель; прожил долгие годы в Японии, написав о ней несколько книг.17
Ян и Инь - древние восточные символы, обозначающие отрицательное (пассивное) и положительное (активное) начала.18
Завитки волют... - Волюта - архитектурный термин, завиток канители ионической или коринфской колонны.19
Массне Жюль-Эмиль-Фредерик (1842-1912) - французский композитор, мастер лирической оперы.20
Ницше Фридрих (1844-1900) - немецкий философ.21
Дюрер Альбрехт (1471-1528) - немецкий живописец, гравер и рисовальщик.22
Ван Эйк Ян (ум. 1441) - нидерландский художник, ему приписывалось изобретение масляной живописи.23
...планы Коломенского дворца... - Коломенское - подмосковная вотчина русских царей в XV-XVII вв., их летняя резиденция. В XVII в. в Коломенском существовал большой Коломенский дворец (снесен в 1768 г.), являвшийся образцом русского деревянного зодчества. В музее "Коломенское" хранится деревянный макет этого дворца, дающий полное представление о расположении всех дворцовых строений и их внешнем виде. Там же хранятся и планы дворца.24
Якулов Георгий Богданович (1884-1928) - живописец и театральный декоратор, ему принадлежат декорации по многим спектаклям Камерного театра, студии "Габима". Спектакль "Мера за меру" Шекспира осуществлен им в Показательном театре в Москве в 1919 г.25
"Школьные театры" - тип нравоучительного театра, существовавший с конца XV по XVIII в. при духовных учебных заведениях Западной Европы, в России в XVII-XVIII вв.26
Анненков Юрий Павлович (1889-1974) - русский живописец, театральный художник, график. Речь идет о портрете режиссера Н. В. Петрова работы Ю. П. Анненкова.185
27
Эль Греко, или Теотокопули Доменико (1541-1614) - испанский живописец.28
Бурлюк Давид Давидович (1882-1967) - русский художник, поэт, художественный критик, один из основателей "русского футуризма".29
Энгармоничн.ость (или энгармонизм) - приравнивание и отождествление музыкальных звучаний. Употребляется главным образом для облегчения чтения нот, когда большое число музыкальных знаков заменяется меньшим.30
Секста - интервал, охватывающий шесть ступеней диатонического звукоряда. Девять полутонов (например, до-ля) составляют так называемую большую сексту.31
Апподжиатура - приукрашивающая нота, чуждая тому аккорду, к которому она прибавлена.32
"Млада" (1891) - "волшебная опера-балет" Н. А. Римского-Корсакова.33
"Золото Рейна" - музыкальная драма Рихарда Вагнера, часть тетралогии "Кольцо Нибелунгов".34
Уистлер Джеме, Мак Нейль (1834-1903) - американский живописец, офортист и литограф. Называл музыкальными терминами свои пейзажи и портреты.35
Бёклин Арнольд (1827-1901) - швейцарский живописец, один из виднейших представителей стиля "модерн" в живописи конца XIX в.36
Флерке - автор книги "10 лет с Беклином" (1902).37
Коппе Франсуа (1842-1908) - французский прозаик и поэт, творчество которого проникнуто сентиментальностью и идиллическим приукрашиванием действительности.38
Пикколо - самый маленький музыкальный инструмент самого высокого звучания в каком-либо семействе инструментов, например флейта-пикколо, домра-пикколо и др.39
Кандинский Василий Васильевич (1866-1944) - русский художник, один из основоположников абстрактного искусства. Сборник "Голубой всадник" ("Der blaue Reiter") был издан им совместно с Ф. Марком в Мюнхене в 1912 г.40
Гоген Поль (1848-1903) - французский живописец.41
Канакская девушка. - Канаки - полинезийское племя.42
...страх Сусанны, застигнутой старцами. - Библейская легенда, по которой Сусанна, славившаяся своей красотой и добродетелью, была ложно обвинена двумя старцами в измене мужу. Этот сюжет был разработан в живописи многими художниками.186
43
Бонди Юрий Михайлович (ум. 1926) - драматург, художник, работавший с В. Э. Мейерхольдом.44
Стриндберг Август (1849-1912) - шведский романист и драматург. Пьеса "Виновны - невиновны" была поставлена в Петербурге группой молодых актеров с А. А. Мгебровым и В. П. Веригиной в главных ролях.45
Ахматова Анна Андреевна (1889-1966) - русская поэтесса, - участница литературного направления "акмеизм". Эйзенштейн цитирует ее стихи из сборников "Вечер", "Белая стая".46
Белый Андрей (псевдоним Бугаева Бориса Николаевича, 1880-1934) - русский поэт, прозаик и литературовед, один из крупнейших теоретиков русского символизма. Эйзенштейн внимательно изучал его книгу "Мастерство Гоголя" (1934).47
Автопортрет, на который указывает Эйзенштейн, написан в 1666 г. (Венская картинная галерея), то есть тогда, когда Рембрандту было не шестьдесят пять, а шестьдесят лет.48
...в фильме Лаутона и Корда "Рембрандт". - Лаутон (Лафтон) Чарльз (1899-1962) - крупный английский актер и театральный режиссер. Корда Александр (1893-1956) - продюсер и кинорежиссер, автор главным образом постановочных фильмов. В фильме "Рембрандт" (производство "Лондонфильм", 1937) А. Корда является продюсером и режиссером, Ч. Лаутон исполняет главную роль.49
Суд Париса - древнегреческий миф, согласно которому юноша Парис должен был отдать яблоко самой прекрасной из трех богинь - Гере, Афине или Афродите. Парис отдал яблоко последней, что вызвало гнев двух других и привело к Троянской войне. Отсюда выражение "яблоко раздора".50
Атланта из Аркадиит - девушка из древнегреческого мифа, быстрая в беге, как самый быстроногий олень.51
Геспериды - дочери титана Атласа, охранявшие яблоки, росшие на золотом дереве. Одиннадцатый подвиг Геракла состоял в том, что он раздобыл три золотых яблока Гесперид.52
Крейцер Георг Фридрих (1771-1858) - немецкий филолог, профессор Гейдельбергского университета, автор ряда работ по античной филологии и мифологии, в частности "Религия античности", которую цитирует Эйзенштейн.53
Амбивалентность - одновременно испытываемое чувство влечения и неприязни к одному и тому же лицу или предмету.54
Пикассо Пабло (1881-1937) - современный французский художник, испанец по происхождению.187
55
Ван-Гог Винцент (1853-1890) - французский живописец, голландец по происхождению. После его смерти были опубликованы его "Письма" к брату Тео и Э. Бернару, ставшие важным художественно-историческим и литературным памятником эпохи.56
Есенин. Сергеи Александрович (1895-1925) - русский поэт.57
Карл Бурбонский (1489-1527) - вассал французского короля Франциска I (1515-1547). Карл Бурбон изменил королю, перейдя на сторону его врагов - испанского императора Карла V и английского короля Генриха VIII.58
"Трансатлантическая карусель" - американский фильм, уголовная драма с элементами музыкальной комедии. Производство "Релай-энс", прокат "Юнайтед Артисте", 1934, режиссер Бенджамен Столов, сценарий Дж. Марча и Г. Конна.59
Мак-Орлан Пьер - французский писатель.60
В своем письме от 31 октября 1931 года Масару Кобайоши мне пишет... - В архиве Эйзенштейна это письмо не сохранилось.61
Сведенборг Эммануил (1688-1772) - шведский натуралист, теософ.62
Шартрский собор - один из знаменитых памятников готического искусства во Франции (XIII в.). Витражи - цветные стекла в окнах готических соборов, которые, подобно мозаике, воспроизводили сцены из священной истории, легенды, гербы, узоры. В Шартрском соборе находятся замечательные образцы витражей.63
Минерва - римская богиня, покровительница ремесел и искусств, отождествлялась с греческой Афиной.64
...писал Дидро в письме к м-м Воллар. - Переписка Д. Дидро (1713-1784) с м-ль Volland (а не Воллар, как пишет Эйзенштейн) относится к 70-80-м гг. XVIII в. Многочисленные письма Дидро к ней, посвященные различным вопросам литературы, искусства, общественной жизни, вошли в двадцатитомное Собрание сочинений Дидро (Paris, 1825-1877).65
Плутарх (ок. 46-126) - древнегреческий писатель и историк.66
Плиний-старший (23-79) - древнеримский писатель и ученый, автор "Естественной истории в 37 книгах".67
Фрезер Джемс Джон (1854-1941) - английский ученый-этнограф, его основной труд - "Золотая ветвь. Исследование о магии и религии".68
Верлен Поль (1844-1896) - французский поэт.69
...войны Алой и Белой розы - междоусобные династические сословные войны в Англии во второй половине XV в., названные так по эмблемам Ланкастерской и Йоркской партий.70
Император Tum (39-81) - римский император из династии Флавиев.188
71
...заключения в Бастилию кардинала де Роган в связи с знаменитым делом об "ожерелье королевы". - Роган Эдуард де (1734-1803) -французский кардинал. Известно, что он поверил интриге графини де Ла Мотт, сообщившей ему о том, что королева Мария Антуанетта мечтает об ожерелье стоимостью в 1 600 000 ливров, в котором ей будто бы отказал король. Стремясь заслужить благосклонность королевы, кардинал приобретает ожерелье у ювелиров Бомаре и Бассанжа и отдает его де Ла Мотт для передачи королеве. Ожерелье исчезает, кардинал не может уплатить за него, дело открывается, и де Рогана заключают в Бастилию, а затем высылают из Парижа, а де Ла Мотт наказывают розгами и каленым железом, после чего отправляют в богадельню Сальпетриер.72
Бине Альфред (1857-1912) - французский психолог-позитивист, профессор Сорбоннского университета. Эйзенштейн ссылается на его "Исследование об изменениях сознания у истериков".73
Нордау Макс (1849-1923) - немецкий писатель, выступавший в конце XIX в. с рядом статей, написанных в острой парадоксальной форме с "разоблачением" вырождения европейской культуры.74
Блейк Вильям (1757-1827) - английский писатель, рисовальщик и график, предтеча английских романтиков и символистов. Как художник оказал большое влияние на английскую школу прерафаэлитов, стремившихся возродить "наивное" искусство раннего Ренессанса.75
Малявин Филипп Андреевич (1869-1939) - русский живописец. Один из главных мотивов его полотен - русские бабы в ярких цветистых сарафанах. Эйзенштейн имеет в виду его картину "Вихрь" (Третьяковская галерея).76
Гете. "Учение о цвете".77
Выготский Лев Семенович (1896-1934) - советский психолог.78
Лурия Александр Романович (1902-1977) - советский психолог, профессор Московского университета, друг Эйзенштейна.79
Нона - музыкальный термин, интервал, девятая ступень в гамме.80
Дебюсси Клод Ашиль (1862-1918) - французский композитор, родоначальник импрессионизма в музыке.81
Валер (Valeur) - термин, употребляемый в живописи: оттенки тона или градации света и тени в пределах одного цвета.82
Павленко Петр Андреевич (1899-1951) - советский писатель; его роман "На Востоке" опубликован в 1936 г.83
Баркарола из "Сказок Гофмана" - часть романтической оперы Жака Оффенбаха (1819-1880).84
Сен-Санс Камиль (1835-1920) - французский композитор, автор симфонической поэмы "Пляска смерти".189
85
Дисней Уолт (1901-1966) - американский художник-мультипликатор и режиссер. Приведенный пример относится к одному из короткометражных фильмов Диснея.86
Бах Иоганн Себастьян (1685-1750) - немецкий композитор.87
Гуно Шарль (1818-1893) - французский композитор.88
Подробнее по этому вопросу - в другом, месте. - См. "О строении вещей" и "Неравнодушная природа".89
Делакруа Эжен (1798-1863) - французский живописец, автор статей о художниках и широко известного "Дневника" (русское издание в двух томах, изд. Академии художеств, М., 1961).90
Филиппики - обличительные речи. Когда македонский царь Филипп (в IV в. до н. э.) стал подготавливать нападение на Грецию, Демосфен выступил с резким обличением и раскрыл его тайные замыслы. Эти речи Демосфена получили название филиппик.91
Рейнольдс Джошуа (1723-1792) - английский художник, автор исторических полотен и портретист.92
Микеланджело Буонаротти (1475-1564) - итальянский живописец, скульптор, архитектор и поэт.93
...о нем пишет Гоголь... - Эйзенштейн имеет в виду статью Н. В. Гоголя "Последний день Помпеи", в которой сопоставляются К. П. Брюллов и Микеланджело (см.: Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, М., 1952, стр. 111).94
Пиранези Джованни Баттиста (1720-1778) - итальянский гравер и архитектор, автор гравюр, изображающих архитектурные памятники. Широко известны его серии "Римские древности" и "Темницы".95
Сезанн Поль (1839-1906) - французский живописец.96
Так сделан, например, какой-нибудь "Крах банка". Так же сделан и "Никита Пустосвят ". - "Крах банка" - картина художника В. Г. Маковского (1881). "Никита Пустосвят" - картина художника В. Г. Перова (1881). Обе хранятся в Третьяковской галерее.97
Боутс Дирк ван Хаарлем (ок. 1415-1475) - фламандский живописец.98
Гирландайо Доменико (1449-1494) - итальянский живописец.99
Мемлинг Ганс (ок. 1435-1494) - нидерландский живописец.100
...книгу Поля Гзелля о Родене. - В книге Огюста Родена "Искусство" (беседы, собранные Полем Гзеллем, 1912) приводится толкование Родена, касающееся расположения фигур на картине Антуана Ватто (1684-1721) "Отправка на остров Цитеры", которое обозначает сложное развитие действия во времени.101
Уайльд Оскар (1856-1900) - английский писатель.190
102
Вагнер в разгаре творческого подъема 1853 года - В 1853 г. Р. Вагнер создал первую часть своего "Кольца Нибелунгов" - "Золото Рейна"; середина 1850-х гг. была периодом наивысшего творческого расцвета в жизни Р. Вагнера.Сохраните html в Word и выберете режим просмотра. Конечно можно и в ACD See.
-1
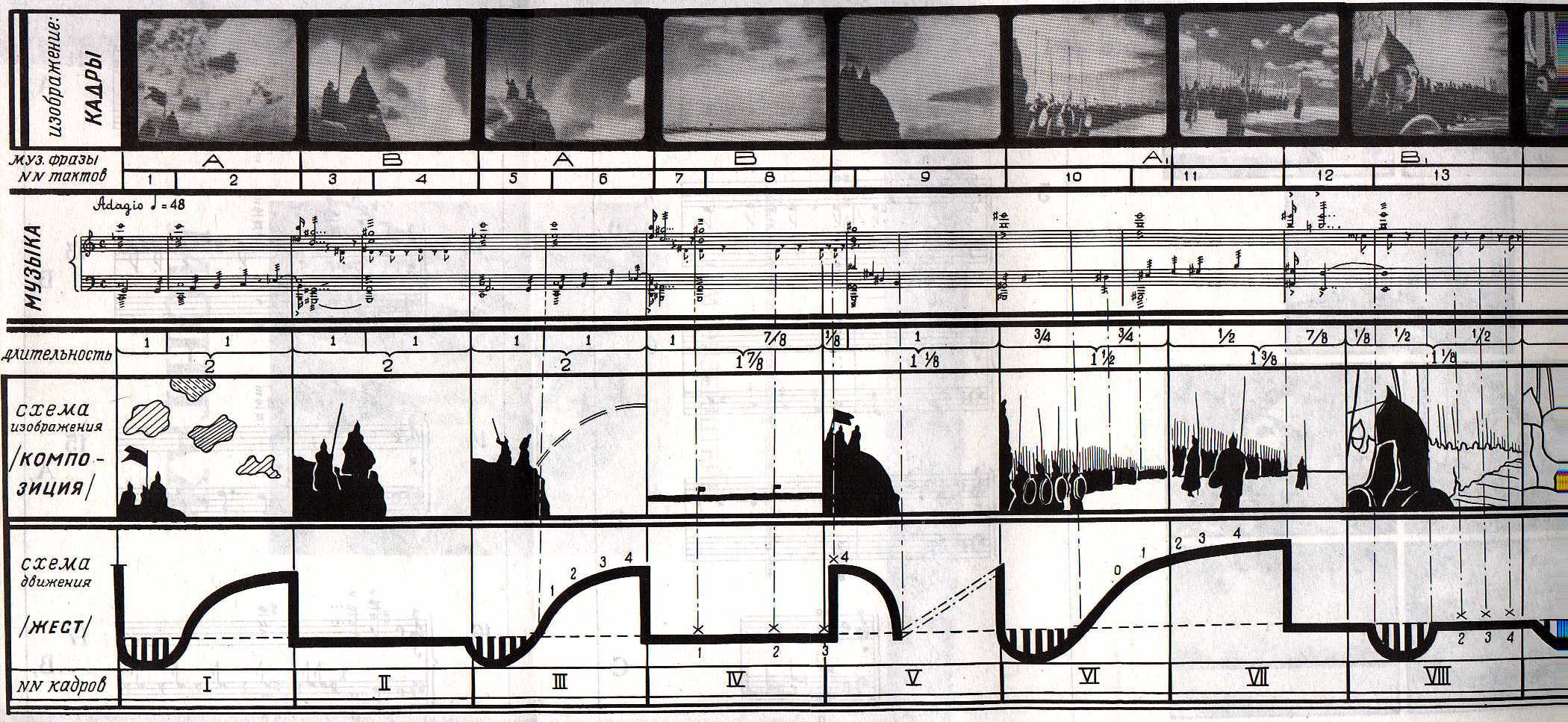
+1
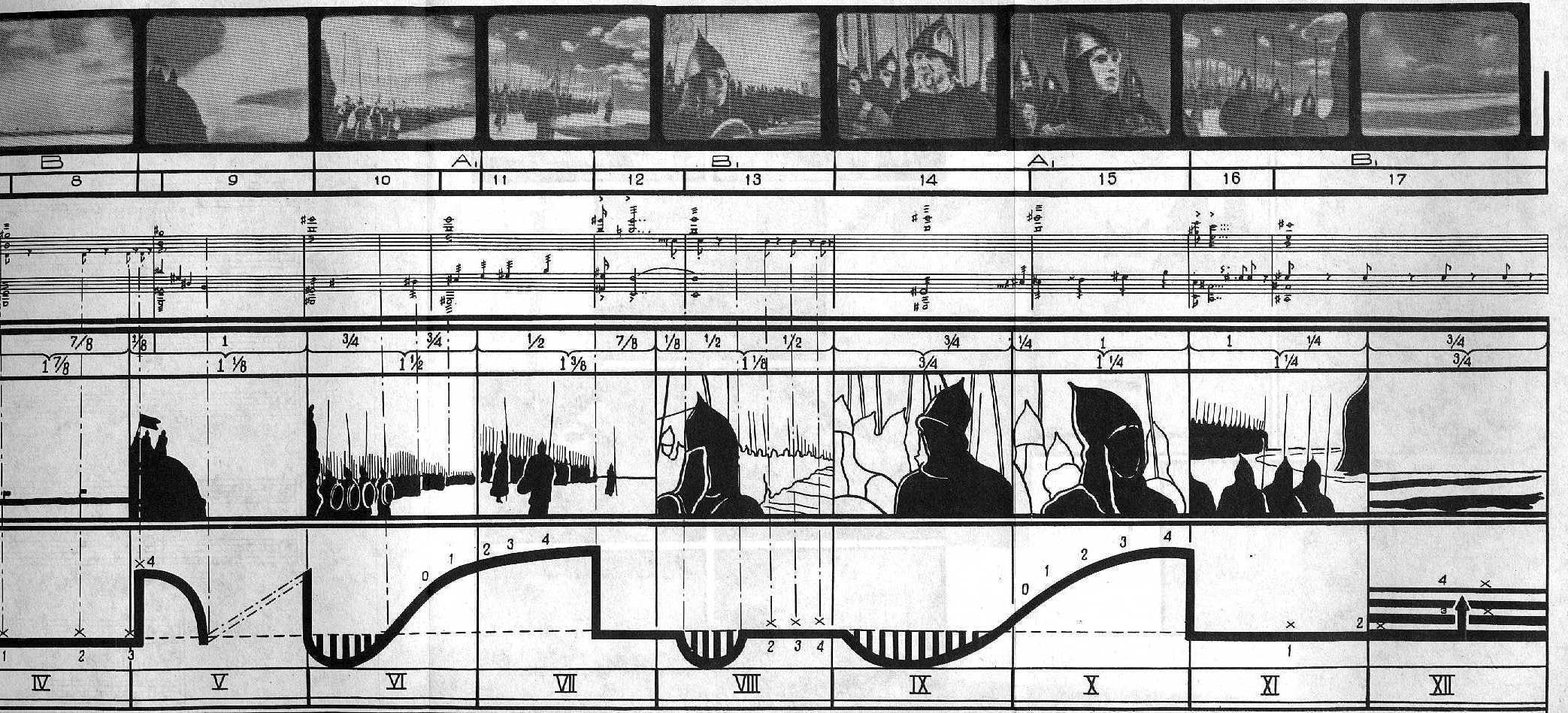
2
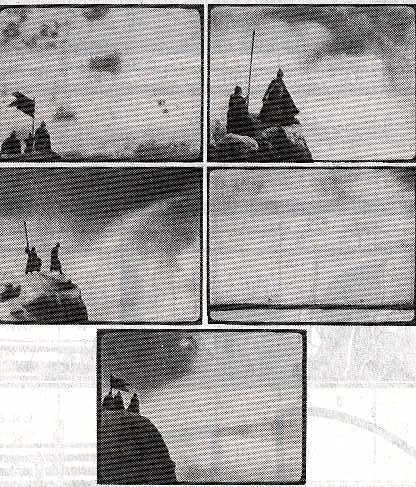
3
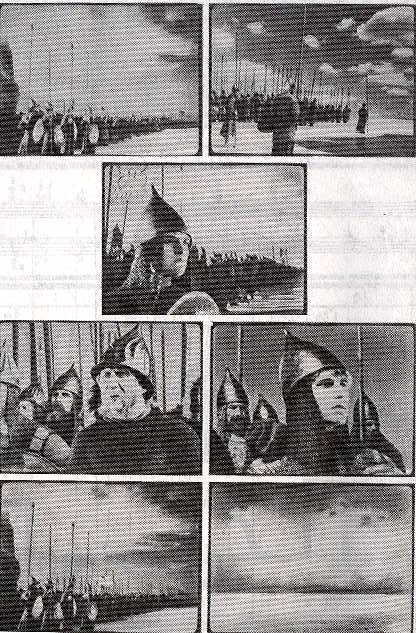
4

5

СОДЕРЖАНИЕ
Р. Юренев. Эйзенштейн о монтаже
3192
Э 308 С.М. Эйзенштейн. Монтаж. - М.: ВГИК, 1998. - 193 с. ISBN 5-87149-038-7
Настоящее учебное пособие представляет собой переиздание известных теоретических исследований С.М. Эйзенштейна, посвященных разработке отдельных вопросов монтажа в кино. Издание приурочено к 100-летию со дня рождения режиссера.
ББК 85.374
Публикуется по изданию:
С.М. Эйзенштейн. Избранные произведения в шести томах. Т. 2. М.:
"Искусство". 1964. С.45-59, 156-188, 189-268, 269-273. 283-297, 492-493. 513-529, 534-535. - Редколлегия: П.М. Аташева, И.В. Вайсфельд, Н.Б. Волкова, Ю.А. Красовский, С.И. Фрейлих, Р.Н. Юренев. Главный редактор - С.И. Юткевич. Составители - П.М. Аташева, Н.И. Клейман, Ю.А. Красовский, В.П. Михайлов. Подготовка текста - В.П. Коршуновой.
Учебное издание Сергей Михайлович Эйзенштейн Монтаж
Составители и редакторы Е.А. Литвинова, М.А. Ростоцкая Компьютерно-графическое исполнение Д.А. Архипов, С.Я. Пальчицкии
Подписано к печати 21.11.1997. Формат 60х84 1-/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Уч.-изд. л. - 12. Тираж 1000.
Подготовлено к печати Информационно-издательским отделом ВГИК имени С.А. Герасимова. Москва, ул. В. Пика, д. 3.
Зак. тип. ? 134
Отпечатано в типографии АО "Черметинформация".
Москва, ул. Кржижановского, д.14/3.
Сканирование Янко слава
yankos@dol.ru