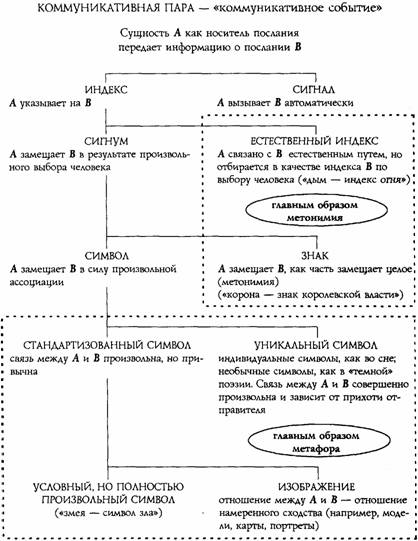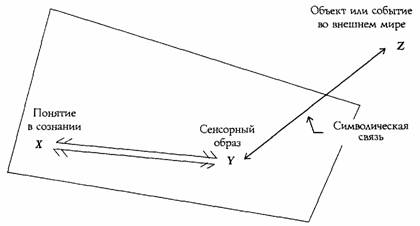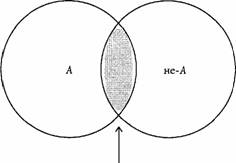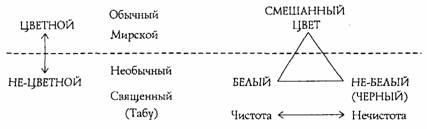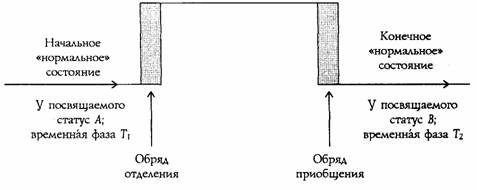'УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА'
Издание
выпущено при поддержке Института 'Открытое общество' (Фонд Сороса) в рамках мегапроекта 'Пушкинская библиотека'
This edition is published with the support
of the Open Society Institute
within the framework of "Pushkin Library"
megaproject
Редакционный совет серии 'Университетская библиотека':
Н. С. Автономова, Т. А. Алексеева, М. Л. Андреев,
В. И. Бахмин, М. А. Веденяпина, Е. Ю. Гениева,
Ю. А. Кимелев, А. Я. Ливергант, Б. Г. Капустин,
Ф. Пинтер, А. В. Полетаев, И. М. Савельева,
Л. П. Репина, А. М. Руткевич, А. Ф. Филиппов
"University
Library" Editorial Council:
Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Mikhail Andreey,
Vyacheslav Bakhmin, Maria Vedeniapina, Ekaterina Genieva,
Yuri Kimelev, Alexander Livergant, Boris Kapustin,
Frances Pinter, Andrei Poletayev, Irina Savelieva,
Lorina Repina, Alexei Rutkevich, Alexander Filippov
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Серия основана в 1983 году
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
д. и. н. В. А. Тишков (председатель)
д. и. н. Д. Д. Тумаркин (зам. председателя)
к. и. н. М. М. Керимова (ученый секретарь)
к. филол. н. С. М. Аникеева
д. и. н. А. К. Байбурин
акад. Г. М. Бонгард-Левин
д. и. н. Н. Л. Жуковская
д. и. н. И. С. Кон
д. и. н. В. А. Попов
д. и. н. Ю. И. Семенов
РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ им. Н. Н.
МИКЛУХО-МАКЛАЯ
Эдмунд Лич
КУЛЬТУРА И КОММУНИКАЦИЯ
Логика
взаимосвязи символов
К использованию структурного анализа в социальной
антропологии
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА 'ВОСТОЧНАЯ
ЛИТЕРАТУРА' РАН 2001
УДК 39 ББК 63. 5 Л66
Edmund Leach
CULTURE AND COMMUNICATION: the logic
by which symbols are connected
An introduction to the use of structuralist analysis in
social anthropology
© Cambridge University Press, 1976
Перевод с английского И.
Ж. Кожановской
Статья Я. В. Чеснова
Редактор издательства С.
В. Веснина
Лич Эдмунд
Л66 Культура
и коммуникация: Логика взаимосвязи символов.
К использованию структурного анализа в социальной антропологии. Пер. с англ. - М. :
Издательская фирма 'Восточная литература' РАН, 2001. - 142 с. (Этнографическая
библиотека).
ISBN 5-02-018235-4
В книге Э. Р. Лича (1910-1989), одного из теоретиков
британской социальной антропологии, с позиции структурного анализа
рассматриваются проблемы
терминологии, теории магии и колдовства, предписания и запреты при выборе брачного партнера,
логика и мифо-логика, обряды перехода и проч.
По замыслу автора, книга адресована
студентам-антропологам младших
курсов.
ББК 63. 5
© ИЖКожановская, перевод, 2001
© Я. В. Чеснов, статья, 2001
© Издательская фирма
ISBN 5-02-018235-4
'Восточная литература'
РАН, 2001
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
ВВЕДЕНИЕ
1. ЭМПИРИКИ И РАЦИОНАЛИСТЫ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ И АКТЫ
КОММУНИКАЦИИ
2. ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ
Схема 1
3. ОБЪЕКТЫ, СЕНСОРНЫЕ ОБРАЗЫ, ПОНЯТИЯ
Схема 2
4. СИГНАЛЫ И ИНДЕКСЫ
5. ТРАНСФОРМАЦИИ
Схема 3а
Схема 3б
6. ТЕОРИИ МАГИИ И КОЛДОВСТВА
7. СИМВОЛИЧЕСКОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ МИРА ЧЕЛОВЕКОМ: ГРАНИЦЫ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
Схема 4
8. МАТЕРИАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ АБСТРАКТНЫХ ИДЕЙ: 'СГУЩЕНИЕ'
ПОСРЕДСТВОМ РИТУАЛА
9. ИГРА ОРКЕСТРА КАК
МЕТАФОРА РИТУАЛЬНОГО ДЕЙСТВА
10. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОСНОВА ЗНАКОВЫХ/СИМВОЛИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ
11. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ:
ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО КАК ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
12. РАНЖИРОВАННОСТЬ ПОНЯТИЙ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
13. ПРИМЕРЫ БИНАРНОГО КОДИРОВАНИЯ
Схема 5
Схема 6
14. ПРЕДПИСАНИЯ И
ЗАПРЕТЫ ПРИ ВЫБОРЕ БРАЧНОГО ПАРТНЕРА
15. ЛОГИКА И
МИФО-ЛОГИКА
16. НАЧАЛА КОСМОЛОГИИ
17. ОБРЯДЫ ПЕРЕХОДА (RITES DE PASSAGE)
Схема 7
18. ЛОГИКА
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Схема 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
УКАЗАТЕЛЬ
ОТ КОММУНИКАЦИИ К КУЛЬТУРЕ, ИЛИ ЗАЧЕМ СЭРУ ЭДМУНДУ ЛИЧУ НУЖНО
ПОНЯТЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА. Я.В. Чеснов
СОДЕРЖАНИЕ
Институт этнологии и антропологии им. Н. Н
Миклухо-Маклая и издательская фирма 'Восточная литература' РАН продолжают издание
книжной серии 'Этнографическая библиотека', начатое в 1983 г.
В серии публикуются лучшие работы отечественных и
зарубежных этнографов, оказавшие большое влияние на развитие этнографической науки и сохраняющие по нынешний
день свое важное теоретическое и методологическое значение. В состав
серии включаются произведения, в которых на этнографических материалах освещены закономерности
жизни человеческих обществ на том или ином
историческом этапе, рассмотрены крупные проблемы общей этнографии. Так как
неотъемлемой задачей науки о народах является постоянное пополнение фактических данных и глубина
теоретического осмысления и обобщения
зависит от достоверности и детальности фактического материала, то в 'Этнографической библиотеке' находят свое место
и работы описательного характера, до
сих пор представляющие огромный интерес благодаря уникальности содержащихся в
них сведений и важности методических принципов, положенных в основу полевых исследований.
Серия рассчитана на широкий круг
специалистов в области общественных наук, а также на преподавателей и студентов
высших учебных заведений.
Серия
открылась изданием книг: 'Лига ходеносауни, или ирокезов' Л. Н. Моргана и 'Структурная антропология' К.
Леви-Строса. Обе они вышли в 1983 г. (в 1985 г. 'Структурная антропология' вышла дополнительным тиражом). Далее изданы:
М. Мид. Культура и мир детства. Избранные
произведения. Пер. с англ. и коммент. ЮААсеева. Сост. и послесл. И. С. Кона. 1988.
В. В. Радлов. Из Сибири. Страницы
дневника. Пер. с нем. К. Д. Цивиной и Б. Е. Чистовой. Примеч. и послесл. С. И.
Вайнштейна. 1989.
В. Г. Богораз. Материальная культура чукчей. Авторизован. пер. с англ. Послесл. и примеч. И. С. Вдовина. 1991.
Д. К. Зеленин. Восточнославянская
этнография. Пер. с нем. К. Д. Цивиной. Послесл. и примеч. К. В. Чистова. 1991.
Н. Ф. Сумцов. Символика славянских
обрядов. Избранные труды. Послесл. А. К. Байбурина и В. З. Фрадкина; сост. и
примеч. А. К. Байбурина. 1996.
М. Мосс. Общества, обмен, личность. Труды по
социальной антропологии. Пер. с франц. , послесл. и примеч. А. Б. Гофмана. 1996.
А. Н. Максимов. Избранные труды. Сост.
, автор послесл. и коммент. О. ЮАртемова. 1997.
А. ван Геннеп. Обряды перехода.
Систематическое изучение обрядов. Пер. с. франц. Ю. В. Ивановой и Л. В. Покровской.
Послесл. Ю. В. Ивановой. 1999.
От редколлегии
А. Р. Рэдклифф-Браун. Структура
и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции. С предисловием Э. Э.
Эванс-Причарда и Фрэда Эггана. Пер. с англ. , коммент.
и указ. О. ЮАртемовой. Статья АА. Никишенкова. 2001.
Д. Пирцио-Бироли. Культурная
антропология Тропической Африки. Пер. с англ. Г. А. Матвеевой.
2001.
Готовится
к изданию:
Э. Эванс-Причард. История
антропологической мысли. Пер. с англ. А. Л. Елфимова.
Вниманию читателей предлагается труд одного из теоретиков
британской социальной антропологии Э. Лича.
7
Предполагаемый читатель данного эссе - это неподготовленный студент, только начинающий знакомиться с
литературой по социальной
антропологии. Очень может статься, что некоторых таких потенциальных читателей, а возможно, и некоторых
их учителей, оттолкнут известный
формализм и внешняя сложность изложения первых разделов книги, - посему я
должен объясниться.
Много лет назад я навлек на себя немилость
старших коллег-антропологов, когда осмелился сказать, что этнография чужого народа часто очень
скучна. Меня неправильно поняли, но я продолжаю упорствовать в своей ереси.
Работа социального антрополога заключается в анализе и
интерпретации
непосредственно наблюдаемых этнографических фактов и традиционного
поведения. Самое главное отличие современных антропологов от их предшественников
столетней давности заключается в том, что сегодня обращение с этнографическими данными
всегда
имеет функционалистский характер. Сегодня любая деталь обычая воспринимается как
часть некоего комплекса; общепризнано, что детали, рассматриваемые изолированно, так
же лишены смысла, как и взятые в отдельности буквы алфавита. Поэтому этнография перестала быть
инвентарной описью обычая; она стала искусством подробного описания,
замысловатым переплетением сюжета и контрсюжета, не хуже, чем в произведении какого-нибудь
видного романиста [Geertz, 1973].
И если мы с этим согласны, то ясно, что ни одна деталь в
собственной
полевой работе не покажется антропологу скучной: деталь для него - самое
существенное. Однако детали чужой полевой работы - уже, пожалуй, иное дело.
Только в очень редких случаях
антропологические монографии написаны таким образом, что читатель может ощутить, что
понимает
чуждую ему культурную среду, в которой происходят описываемые события. Однако
при отсутствии подобного ощущения нагромождение деталей лишь усиливает
непонимание.
Как же в таком случае следует приобщать студента, не
имеющего опыта путешествий, к тайнам социальной антропологии?
8
Обычно это делается посредством этнографических 'консервов' - упрощенных
кратких изложений, вроде тех, что составляют восхитительные и популярные серии
'Конкретных исследований в культурной антропологии' (изд-во 'Holt, Rinehart and Winston, Inc.'), а также
посредством учебников, в которых общие положения иллюстрируются выдернутыми из
контекста примерами, почерпнутыми из классических антропологических монографий, где
повествуется
о нуэрах, тикопиа, талленси, о тробрианцах, о ком угодно. Оба средства
представляют собой обман. Читателя-новичка вводят в заблуждение, принуждая
думать о фактах действительности как о гораздо менее сложных, чем они есть на самом
деле; такой читатель легко может прийти к заключению, что в предмете социальной
антропологии
нет ничего такого, чего не мог бы с легкостью уразуметь десятилетний
ребенок.
Альтернативный подход, который я применил в данном
случае, состоит
в предположении, что единственное этнографическое описание, с которым новичок в
социальной антропологии, вероятно, сколько-нибудь близко знаком, - это то,
которое проистекает из его (или ее) собственного жизненного опыта. Я сознательно
поместил
в своем эссе очень мало примеров этнографических фактов, а те, что здесь
имеются, - общеизвестны; едва ли не единственная этнографическая монография, на которую
читателя просят обратить серьезное внимание, - это Библия. Вместе с тем мы
выражаем надежду, что каждый читатель привлечет свой собственный опыт для иллюстрации
представленных мной аргументов.
После всего сказанного мой главный тезис
становится весьма тривиальным: культура осуществляет коммуникацию; сама по себе сложная взаимосвязь
культурных событий передает информацию тем, кто в этих событиях участвует. Исходя из
этого, моя цель состоит в том, чтобы предложить систематическую процедуру, посредством которой
антрополог, пользующийся методикой 'включенного наблюдения', может приступить к
расшифровке посланий, содержащихся в наблюдаемых им сложных объектах. Данный
метод может
считаться полезным, только если он применяется к сложному материалу. Каждому
читателю нужно подыскать подходящий для себя комплекс таких этнографических
данных.
Все идеи в этой работе заимствованы у других;
единственное, что оригинально
во всей аргументации, это форма, в которой она представлена. Но данное эссе посвящено семантике культурных форм, а поскольку форма принадлежит мне, стало быть, и
смысл тоже.
9
В этом разделе я намерен уточнить границы своей задачи.
Та работа
Мэри Дуглас, которую я привел в библиографии [Douglas, 1972], имеет - как вы
можете видеть из ее названия - непосредственное отношение к моей теме. Комментируя
известную статью о сезонном ритме жизни эскимосов, опубликованную в начале
столетия [Mauss-Beuchat,
1906], Дуглас пишет следующее:
'[Это] - явное наступление на географический
или технологический детерминизм при интерпретации жизни домохозяйства. Такая интерпретация требует
экологического подхода, при котором структура представлений и структура общества,
способ добычи средств к существованию и архитектура жилища понимаются как единое
взаимодействующее целое, в котором ни про один элемент невозможно сказать, что
он определяет собой другой элемент'.
Истолкованная таким образом статья об
эскимосах может рассматриваться как образец того, что каждый британский социальный
антрополог мечтал бы сделать с этнографическими данными, заполняющими его рабочие
тетради. Ведь на практике те монографии, которые пишут антропологи, редко сохраняют
указанную выше сбалансированность.
Мы обнаруживаем, что в зависимости от склонностей
автора особый акцент делается либо на структуре представлений, либо на структуре общества, либо на способе
добычи средств к существованию, а принцип, который мы все время имеем в виду ('единое взаимодействующее целое'), легко
забывается.
Так же легко забывается, что и сами-то противоположные
пристрастия
отдельных авторов - часть единого взаимодействующего целого.
Все социальные антропологи берут в качестве
основной темы многообразие человеческой культуры и общества, и все они полагают, что их задача -
не только описывать существующее многообразие, но и объяснять, почему оно существует.
Есть много разного рода 'объяснений', и предпочтение одного из них - дело
главным образом
личных пристрастий.
10
Некоторые антропологи с очевидностью понимают, что все объяснения должны
даваться в понятиях причины и следствия. Ученые этого типа концентрируют свое внимание
на историческом описании
предшествующих событий. Другие считают, что главное - это понять взаимозависимость различных частей данной
системы, какой она существует в
настоящее время; эти люди предлагают структурно-функциональные объяснения. Для третьих цель их деятельности в том, чтобы показать, что тот или иной отдельно
взятый культурный институт, наблюдаемый в реальности, - это лишь одна
'перестановка' из целого ряда возможных
'перестановок' и комбинаций, часть
которых тоже можно непосредственно наблюдать в других культурных комплексах. Эти ученые предлагают
структуралистские объяснения (если
использовать термин 'структуралистский' в том смысле, в каком его понимал Леви-Строс).
Но прежде чем надеяться что-то объяснить, вам нужно
понять, что
происходит. Что представляют собой те факты, которые следует объяснять? Дискуссия
по этому поводу, идущая в самое последнее время в среде социальных антропологов,
выявляет существование напряженности между двумя несхожими позициями:
эмпирической и рационалистической.
Эмпирическая позиция, возможно, наилучшим
образом представлена Фредриком Бартом [Barth, 1966], его интерпретацией 'сделки'. Данный
подход является развитием функционалистской традиции (первоначально созданной Малиновским
и Раймондом Фиртом), которая, в свою очередь, весьма близка структурному функционализму
Рэдклифф-Брауна, Фортеса и Глакмана, а также многих из числа их идейных
наследников. Эмпирики полагают, что основная задача антрополога-полевика -
фиксировать непосредственно наблюдаемое межличностное поведение членов
локального сообщества, взаимодействующих друг с другом в своей повседневной жизни.
Это локализованное поле человеческой
деятельности анализируется затем как такое, в котором социальные персонажи,
действуя
вне
принятых обычаев, обусловленных их конкретными ролями и статусами, вступают в
экономические сделки. Благодаря экономическим сделкам выявляется скрытый смысл системы
зримых институтов -
политических, правовых и религиозных, - в рамках которых действует сообщество. В этом случае то, что
описывается как социальная структура данной системы,
выводится из совокупности подобных непосредственно наблюдаемых сделок.
Антропологи-эмпи-
11
рики
избегают дискуссии о 'структуре представлений, имеющих хождение внутри
общества'; большинство их, как правило, считают, что эти представления второстепенны,
что они суть не поддающиеся наблюдению абстракции, которые выдуманы
теоретиками.
В монографиях, написанных антропологами, работающими в этой эмпирической
(функционалистской) традиции, социальные структуры обычно предстают в
виде моделей родства и принципов счета происхождения. Это легко объяснимо,
поскольку очевидно, что едва ли не во всех самодостаточных обществах, где все
знают друг
друга в лицо, отношения родства создают ту основную сеть, в которой и
совершаются отслеживаемые экономические сделки. Вследствие этого отношения родства
видятся как 'трансформация' экономических отношений.
Иная - рационалистическая - точка зрения изначально
представлена творчеством Леви-Строса и некоторыми последними работами Эванс-Причарда.
Тот рационализм, о котором идет речь, - это не рационализм
Декарта,
уверенного, что с помощью последовательных точных приемов логического
рассуждения мы можем в уме сконструировать 'истинную' модель вселенной и эта модель будет точно соответствовать объективно существующей вселенной,
которую мы воспринимаем посредством
наших чувств; то, о чем мы говорим, несколько
ближе к 'новой науке' Джамбаттисты Вико, итальянского философа XVIII в. , который признавал, что операции
человеческого сознания, связанные с
воображением, являются 'поэтическими' и не укладываются в твердые, легко
формулируемые правила Аристотелевой и
математической логики.
Рационалисты, следующие за Леви-Стросом, называют себя 'структуралистами',
но структура здесь имеет отношение к структуре представлений, а не структуре общества.
В силу свойственного
антропологам-рационалистам интереса к представлениям (как противоположности
объективных фактов) их больше занимает то, что говорится, нежели то, что
делается. В полевых исследованиях они придают особое значение мифологии и утверждениям
информаторов о том, как должно быть. Там, где имеет место расхождение между
словесными заявлениями и наблюдаемым поведением, рационалисты склонны утверждать,
что социальная
реальность 'существует' в словесных заявлениях, а не в том, что происходит в
действительности.
12
Оправданность такой позиции можно проиллюстрировать с помощью аналогии. Некая симфония Бетховена
'существует' в виде партитуры, которую можно
интерпретировать по-разному и любыми оркестрами. Тот факт, что чрезвычайно
неумелое исполнение сильно расходится
с авторской партитурой, не заставит нас говорить, что 'настоящая' симфония - это плохое исполнение, а не ее
идеальная партитура.
По мысли социальных
антропологов-рационалистов (структуралистов), 'структура' системы социальных
представлений имеет такое же отношение к тому, что происходит в реальности,
какое партитура
имеет к ее исполнению. Партитура является в известном смысле 'причиной'
того, что происходит, но мы не можем действовать в обратном порядке и достоверно судить о
партитуре исходя из непосредственно наблюдаемого поведения какого-нибудь исполнителя. В случае с
музыкой очевидно, что партитура возникает в сознании композитора. По аналогии с
этим упомянутые рационалисты стремятся писать о культурных системах как о
созданиях своего рода коллективного 'человеческого сознания'. Из этого они делают вывод, что необходимо изучить
несколько несходных эмпирических примеров
(несколько отдельных выступлений отдельных оркестров), прежде чем мы сможем быть уверены, что знаем, в чем состоит общая абстрактная 'реальность', лежащая в
основе их всех.
Те, кто придерживается такого подхода,
интерпретируют непосредственно наблюдаемые взаимодействия между индивидами (т. е. то, что
функционалисты-эмпирики воспринимают как экономические сделки) по-другому - как акты коммуникации.
Здесь, однако, позвольте мне напомнить о том,
что я говорил ранее. Соперничающие теории антропологов сами по себе суть части единого
взаимодействующего целого. Обе точки зрения принимают центральный догмат функционализма:
культурные детали всегда должны рассматриваться в контексте; все сцеплено со всем. В этом отношении
указанные два подхода - эмпирический (функциональный) и рационалистический
(структурный) - являются взаимодополняющими, а не противоречащими друг другу:
один представляет собой трансформацию другого.
Согласно
Малиновскому - отцу-основателю функционально-эмпирической
антропологии, 'принцип взаимности' пронизывает все социальное поведение.
Говоря это, он желал подчеркнуть, что экономические
сделки, происходящие на основе взаимности, социально обусловлены, но он признавал также и то, что взаимность -
13
это форма
коммуникации. Она не только нечто делает, но и нечто говорит.
Если я делаю вам подарок, вы будете чувствовать себя
морально обязанным
дать что-то в ответ. С точки зрения экономических понятий вы у меня в
долгу, но с точки зрения понятий коммуникации смысл обоюдного обязательства - в
выражении взаимного понимания, что мы оба принадлежим к одной и той же
социальной системе. Более того, способ, которым вы отвечаете на мой подарок, скажет нечто и о
наших взаимоотношениях. Если вы отвечаете на мой подарок его точным эквивалентом
(кружка пива на кружку пива, поздравительная открытка на поздравительную
открытку), то такое поведение выражает равенство статусов. Но если взаимообмен предполагает
подарки, которые качественно различаются (я тебе - трудовое усилие, ты мне - заработную
плату), то такое поведение выражает неравенство статусов: нанятого и нанимателя.
И именно для того чтобы акцентировать то, что
две указанные выше точки зрения в антропологии (которые я здесь обозначил общо как 'эмпирическую'
и 'рационалистическую') должны рассматриваться как взаимодополняющие, а не как
истинная и ложная, - я должен подчеркнуть, что моя собственная деятельность включает монографии,
представляющие собой образчики обоих типов. У Лича 1954 г. - стиль рационалиста, Лич 1961 г. - эмпирик.
Аргументация всей последующей части данного эссе будет иметь не
функционалистский (эмпирический), а структуралистский (рационалистический)
уклон. Моя главная тема - коммуникация; но я говорю так лишь в целях изложения.
На практике коммуникацию и экономику никогда невозможно разделить. Даже в таком очевидно символическом
коммуникативном действе, как христианская литургия, где священник предлагает
участникам хлеб и вино и заявляет, что этот хлеб и это вино являются
соответственно телом и кровью Иисуса Христа, имеет место экономическая
подоснова. Кто-то в какой-то момент должен был эти хлеб и вино купить.
Однако сосредоточившись на . коммуникативном аспекте
сделок, я
могу ограничить разнообразие параметров, которые мне нужно принимать в расчет.
Если ввести такое ограничение, то к отдельным сторонам наблюдаемого поведения и
отдельным деталям обычая можно относиться, как к словам и предложениям в языке или
как к
музыкальным пассажам.
14
В случае с обычным языком или обычным музыкальным исполнением каждое
отдельное 'высказывание' возникает у человека в мозгу, и главная трудность состоит в
том, чтобы определить, насколько
'значение', передаваемое слушателю, соответствует тому, которое имел в виду его автор. Теперешняя моя задача - рассказать, как, будучи наблюдателями, антропологи должны
браться за решение вопроса о том, что, так сказать, 'значат' обычаи, отличные от
вербальных.
Если мы собираемся обсуждать этот вопрос не в
самых общих терминах, то нужно разработать искусственную, формальную систему координат; мы
должны подойти к этому почти как к математической проблеме. Поэтому следующие три
раздела данной книги будут посвящены разработке аппарата терминов и системы
понятий,
которые смогут служить инструментами анализа. Если вы не привыкли, что
аргументация подается таким формальным, схематическим образом, то, вероятно,
это вас отвратит. Все, что я могу сказать в защиту такой процедуры, - это то, что
она работает. Если вы сможете приучить себя обращаться с этнографическими данными так, как я
предлагаю, вы обнаружите, что многие вещи, которые до того выглядели как
совершеннейший хаос случайных образов, сделаются вам понятны.
15
Когда мы находимся в компании близких друзей или соседей, мы не задумываемся о
том, что коммуникация - это комплексный непрерывный процесс, имеющий много как
вербальных, так и невербальных компонентов. И лишь встречаясь с чужаками, мы
вдруг осознаем,
что информация передается всем обыденным поведением (а не только речевыми
актами), и поэтому мы не можем понять, что происходит, пока нам не известен определенный
код. Как же в таком случае следует приступать к расшифровке обычаев другого народа?
Мы можем легко выделить три аспекта
человеческого поведения:
1) естественная
биологическая активность человеческого тела: дыхание, биение сердца, процесс обмена
веществ и т. д. ;
2) технические
действия, направленные на изменение физического состояния внешнего мира: выкапывание ямы
в земле, варка яйца;
3) 'выражающие'
действия, которые либо просто говорят нечто о состоянии мира, каким он является, либо
претендуют на изменение мира метафизическим способом.
Помимо обычных вербальных высказываний, 'выражающие' действия, безусловно,
включают жесты, такие, как кивание головой, гримасничанье, размахивание руками, но, кроме
того, они включают и такие виды поведения, как ношение формы, стояние на кафедре и надевание
обручального кольца.
Выделенные мной три аспекта поведения никогда не
бывают полностью
автономны друг от друга. Даже акт дыхания является 'выражающим': он
'говорит', что я еще жив. Даже простейшее техническое действие имеет два значения:
биологическое и 'выражающее'. Если я готовлю себе чашку кофе, это не только
изменяет состояние
внешнего мира, но еще и стимулирует мои внутренние процессы обмена
веществ, а также о чем-то 'говорит'. Тот способ, которым я готовлю кофе, и те приспособления,
которые я использую при этом, несут информацию о моем культурном багаже.
16
Те способы и те каналы, посредством которых мы сообщаемся друг с другом,
весьма разнообразны и весьма сложны, но в первом приближении и в качестве первичного анализа берусь
утверждать, что человеческая коммуникация
обеспечивается посредством 'выражающих'
действий, которые проявляются в виде сигналов, знаков и символов. Большинство из нас,
даже те, кто действительно может использовать эти три общеизвестных слова в
широкой гамме вариантов1, не вполне точно различают их, однако в нашем эссе каждому из этих слов будет придано особое,
специфическое значение, которое я
чуть ниже подробно разъясню.
При одних видах коммуникации 'выражающее' действие отправителя
интерпретируется получателем непосредственно. Я говорю - вы слушаете; я киваю
головой - вы видите, как я это делаю. Но в других случаях указанная связь опосредована. Я пишу письмо и воспроизвожу некую конфигурацию знаков и
символов на листке бумаги; некоторое
время спустя вы получаете бумагу и интерпретируете то, что я написал.
Пределы опосредованной коммуникации этого последнего вида
очень
широки. Все наше время уходит на интерпретацию результатов 'выражающих'
действий других людей. Я могу понять, что церковь не является обычным жилым домом,
всего лишь посмотрев на нее, однако 'выражающие действия', положившие начало
этому различию,
имели место много лет назад.
1 Специальная литература по
этой теме весьма обширна и охватывает несколько столетий.
Наиболее часто цитируемые 'авторитеты' - это Ч. С. Пирс, Ф. де Соссюр,
Э. Кассирер, Л. Ельмслев, Ч. Моррис, Р. Якобсон, Р. Барт. Эти авторы на все
лады повторяют термины знак, символ, индекс,
сигнал, изображение, мало в чем сходясь в плане
соотношения указанных категорий, зато все больше усложняя свою аргументацию.
Фирт [Firth, 1973] следует за Пирсом
и Моррисом, рассматривая знак как
общую категорию, в рамках которой символ, сигнал, индекс
и изображение являются подразделениями. Я
предпочитаю схему, представленную на с. 19, которая основана
на работе Малдера и Херви [Mulder-Hervey, 1972]. Здесь символ
и знак являются
двумя разными подразделениями индекса. Я
отверг подход Фирта, потому что вынужден считаться с тем, что де
Соссюр, Якобсон и Барт глубже вникли в суть проблемы. Я несколько
изменил то, что предлагают Малдер и Херви, - отчасти потому,
что мне необходима терминология, подходящая и к вербальной, и к невербальной
коммуникации, отчасти потому, что я заинтересован в том, чтобы добиться понимания,
а не в том, чтобы соблюсти строгую риторичность аргументации. Ссылки
на вышеупомянутых авторов можно будет найти в библиографии. Другим полезным
путеводителем по этому терминологическому лабиринту являются работы Фернандеса
[Fernandez, 1965, р. 917-922; 1974].
17
В ходе дальнейшего изложения я буду действовать в соответствии с
предположением, что все разнообразные невербальные параметры культуры, такие,
как стиль одежды, планировка деревни, архитектура, мебель, пища, приготовление еды,
музыка, физические жесты, позы, - организованы в модельные конфигурации так,
чтобы
включать закодированную информацию по аналогии со звуками, словами и
предложениями обычного языка. Поэтому я полагаю, что говорить о грамматических
правилах, управляющих ношением одежды, имеет такой же смысл, как и о грамматических
правилах, управляющих
речевыми высказываниями.
Ясно, что такого рода утверждение носит весьма широкий характер, и я не стану
пытаться объяснять его детально. Основной аргумент состоит в том, что послания, которые мы получаем разными
путями (с помощью осязания, зрения, слуха, обоняния, вкуса и т. д. ), легко трансформируются в другие формы.
Так, мы способны отчетливо
представлять себе то, что слышим в словах; мы можем переводить письменные тексты в устную речь;
музыкант в состоянии превращать зримые знаки партитуры в движения рук,
рта и пальцев. Очевидно, что на каком-то
глубоко абстрактном уровне все наши
разнообразные чувства кодируются одним и тем же способом. Там должно быть что-то вроде
'логического' механизма, позволяющего нам трансформировать зрительные послания в
звуковые, осязательные
или обонятельные послания, и наоборот.
Однако
столь же важно осознавать, что существует большая разница между способом, которым индивиды сообщают друг другу
информацию, используя обычную речь и письменное слово, и способом, которым мы общаемся друг с другом при
помощи кодированных условных форм невербального поведения и невербальных знаков и символов.
Грамматические правила, руководящие речевыми
высказываниями, таковы, что всякий, кто свободно владеет языком, может произвольно
создавать совершенно новые высказывания, будучи уверен, что аудитория его поймет. С
большей же частью форм невербальной коммуникации дело обстоит не так. Привычные условности могут быть
поняты, только если они вам знакомы. Отдельный символ, возникший во сне или в
стихотворении, или какое-то вновь придуманное 'символическое утверждение'
невербального порядка не
смогут передать информацию другим людям до тех пор, пока их
18
не
разъяснят иным способом. Это показывает, что синтаксис невербального 'языка'
должен быть гораздо проще, чем синтаксис языка устного или письменного. В самом деле,
если бы это было не так, то такое короткое эссе, как наше, и на такую сложную тему
было бы пустой тратой времени.
Итак,
читая то, что последует далее, вам необходимо помнить, что сходство между рождением новых высказываний какого-либо индивида, спонтанно выражающего себя в речи, и
рождением новых обычаев в каком-либо
культурном сообществе за определенный отрезок
времени носит характер аналогии. Фактически мы очень мало что понимаем и
в том и в другом.
Моя отправная точка произвольна. Назовем
некую единицу коммуникации 'коммуникативным событием'. Всякое такого рода событие двойственно
(имеет два лица) по крайней мере в двух смыслах:
а) всегда должно быть двое
индивидов: X ('отправитель', автор 'выражающего' действия) и У ('получатель', интерпретаторрезультата данного 'выражающего' действия). X и У могут находиться в одном и том
же месте в одно и то же время, но это необязательно;
б) 'выражающее' действие как таковое всегда имеет два
аспекта - просто потому, что оно
передает какое-то послание. С одной
стороны, имеется само действие или его результат (кивок головой или написанное
письмо); с другой стороны, имеется послание, которое закодировано отправителем и расшифровано получателем.
Сложность терминологии, которую я представил на схеме 1,
полезна
в аналитическом отношении, поскольку связь между 'несущей послание
сущностью А' и самим 'посланием В' может подразумевать разнообразие форм. Мой
совет: при чтении нескольких следующих разделов все время обращаться к схеме 1.
20
Ключевая пара
разграничителей в данной схеме такова:
СИГНАЛ Отношение А:В имеет механический и
автоматический
характер. А приводит в действие В. Послание как таковое и сущность, которая его несет,
- просто два аспекта одного и того же. Все животные, включая человеческие существа,
постоянно отвечают на великое множество разнообразных сигналов.
ИНДЕКС 'А указывает на В'. Сигналы
динамичны; индексы статичны. Сигналы причинны; индексы описательны. В рамках этого общего
класса естественные индексы - это те, в которых проводимая ассоциация является
естественной
('дым - индекс огня'); сигнумы - это те, в которых проводимая ассоциация является
культурной условностью; в свою очередь, символы и знаки различаются как
субкатегории сигнумов.
До сих пор я более или менее следовал Малдеру
и Херви [Mulder-Hervey, 1972, p. 13-17]. Но задача
этих авторов - строгий анализ понятия знак в лингвистике, так что отсутствие с
их стороны
интереса к невербальным средствам коммуникации ограничивает пользу от остальной
части их терминологической системы, - если иметь в виду цели, которые ставлю перед
собой я.
Малдер и Херви различают, с одной стороны, символы как 'сигнумы, зависящие для своей
правильной интерпретации от отдельного (конкретного) определения (например, х, у, z. в алгебраическом уравнении)', а с
другой стороны, различают знаки как 'сигнумы с твердо зафиксированным условным обозначением
(например, +, -, = в алгебраическом уравнении)'. Согласно этим определениям,
имена собственные
являются символами, тогда как имена нарицательные суть знаки.
Например, в утверждении 'Того человека зовут Джон', Джон является
символом 'того человека', а в утверждении 'Те животные - свиньи', свиньи являются знаком 'тех животных'. Хотя такое различие между
всякий раз 'отдельно даваемым обозначением' и 'твердо зафиксированным условным
обозначением' приложимо также и к противопоставлению символ/знак на моей схеме 1, я заинтересован
в другом аспекте этого противопоставления и воспроизведу даваемые мной
определения иным способом.
Однако прежде стоит отметить, что
алгебраический пример Малдера и Херви сразу же делает очевидным, что любое
конкретное
21
'символическое
утверждение', вероятно, должно быть комбинацией как символов, так и знаков, например: х + у = z.
Очевидно также, что ответ на вопрос, должен
ли отдельный сигнум рассматриваться как знак или как символ, будет зависеть от того, как он
используется. Когда буквы латинского алфавита используют в математических
уравнениях, они являются символами, но когда их применяют в контексте вербальной
записи, они имеют более или менее твердое условное фонетическое значение и становятся знаками. В этом последнем
контексте любая отдельная буква сама по себе лишена смысла, однако в комбинациях, составленных из имеющихся 26 буквенных знаков, она может
представлять сотни тысяч различных
слов на сотнях разных языков.
С точки зрения поставленных мной целей в этом и состоит
суть дела. Два ключевых момента здесь следующие: а) знаки не существуют изолированно;
знак всегда является составной частью набора несхожих между собой знаков, которые
функционируют в определенном
культурном контексте; б) знак несет информацию, только когда он находится в сочетании с другими знаками и символами из того же контекста. Пример х + у = z подразумевает
математический
контекст. Вне этого контекста знаки '+' и '=' не будут нести никакой
информации. Выразим эту мысль иначе: одни знаки всегда увязаны с другими знаками и являются составными
частями одного и того же набора.
Это дает нам дефиниции,
показанные на схеме 1.
1) Сигнум является знаком, если между А и В
имеется сущностная предваряющая связь, основанная на принадлежности к одному и тому же
культурному контексту.
Примеры:
а) в контексте транскрибирования английской речи
посредствомбукв латинского алфавита
каждая буква или пара букв - это знакконкретного звука;
б) в контексте правил английской орфографии
последовательность букв APPLE является знаком определенного плода;
в) в выражении 'А означает APPLE' А является знаком буквенного ряда APPLE, а следовательно, и знаком соответствующего
плода;
г) в контексте европейских
политических традиций, где основным предметом в наборе регалий правящих
монархов была корона,корона - это знак верховной власти.
22
Такой вид связи иногда описывается как метонимия, и именно в этом смысле я буду
использовать это слово в данном эссе. В самой общей форме, согласно двум последним примерам, метонимия - это
когда 'часть означает целое'; тот индекс, который функционирует как знак, близок к тому, что он обозначает,
и является его частью. Заметим, что естественные индексы (например, 'дым
указывает на огонь') порождают как метонимические связи, так и сами знаки.
2) Соответственно сигнум является символом, если А замещает В и если предваряющая
сущностная связь между А и В отсутствует, т. е. если А и В
принадлежат к разным культурным контекстам.
Примеры:
а) в алгебраической задаче типа 'Пусть х обозначает цену
сыра,у - цену масла, a z - цену
хлеба┘ ' X, у и z суть
символы. Здесь х,у и z принадлежат контексту
математики, цены же - контекстурыночной площади;
б) если корона используется как торговая марка
какого-нибудьсорта пива - это символ, а не знак. Здесь нет предваряющей сущностной связи. Короны и пиво происходят из разных
контекстов;
в) в библейском предании змий в
Эдемском саду является символом зла. Зоологический контекст, связанный
со змеями, не имеетсущностной
связи с моральным
контекстом понятия зла.
На моей схеме 1, представленной выше, - как
показывают два пунктирных прямоугольника - различие между сущностными связями, выраженными в
естественных индексах и знаках, и не-сущностными связями, выраженными
в символах, соответствует различию между метонимией и метафорой. Если метонимия
подразумевает
близость двух объектов, то метафора зависит от утверждения об их подобии.
В пределах общей категории символа моя схема вновь
отчасти следует
Малдеру и Херви. Стандартизованные символы, несущие информацию в
общественной сфере, отграничиваются от уникальных символов, т. е. индивидуальных и необычных, таких,
которые могут возникнуть во сне или в поэзии
и которые не несут общественной
информации, пока их не наделят дополнительным смыслом. В пределах широкой
категории стандартизованных символов я различаю, с одной
стороны, изображения (где отношение А:В является отношением намеренного сходства, например: модели,
карты,
23
портреты), я с другой - условные, но полностью произвольные символы. Это соответствует обычной практике
(см., например, [Firth, 1973]).
Моя точка зрения относительно того, что знаковые отношения отражают близость
двух объектов и потому являются главным образом метонимическими, тогда как символические отношения являются произвольными
заявлениями о подобии и потому по преимуществу метафорическими, требует дальнейшего
уточнения.
Почти всякий, кто тщательно изучал процессы человеческой коммуникации,
согласится, что подобное различение является важным в аналитическом смысле, но здесь
опять имеется широкий разброс в терминологии.
Вышеприведенная трактовка терминов метафора/метонимия
обязана
своим происхождением Якобсону [Jacobson-Halle, 1956]. Леви-Строс [Levi-Strauss, 1966], следуя
традиции де Соссюра, описывает почти то же самое различение при помощи терминов парадигматический/синтагматический. Во многом такое же различение мы встречаем и в музыке, где гармонию (когда разные
инструменты одновременно производят звуки, воспринимаемые в сочетании) отличают от мелодии, в которой один звук
следует за другим, образуя мотив.
В музыке, как известно, мелодия может быть
транспонирована в разные тональности, так что ее могут исполнить разные инструменты, но это только
частный случай весьма широкого процесса, в рамках которого синтагматические цепочки
знаков, связанных метонимически, с помощью парадигматической перестановки
(метафоры) можно перевести в иную форму проявления. Наиболее типичными
примерами синтагматических цепочек служат буквы, образующие написанное слово; слова,
образующие предложение; последовательность музыкальных нот, записанных в
партитуре, чтобы зафиксировать 'мелодию'.
Примером парадигматической связи служит одновременная транспонировка, которая происходит тогда,
когда последовательность музыкальных нот
интерпретируется как последовательность движений пальцев по клавиатуре фортепиано, движений, которые путем дальнейшего преобразования становятся
набором последовательных звуковых
волн, достигающих уха слушателя. Связь между написанной партитурой, движениями пальцев и звуковыми волнами является парадигматической.
24
Профессиональный язык несколько утомителен, но иногда полезен. С известной
долей приближения, хотя и не строго, можно применить нижеследующие уравнения:
Символ/Знак = Метафора/Метонимия = Парадигматическая
связь/Синтагматическая цепочка = Гармония/Мелодия.
Из нашего общего опыта явствует, что все
виды человеческой деятельности (а не только речь) служат для передачи информации. Такие способы
коммуникации включают: письменность, исполнение музыки, танец, живопись, пение,
строительство, актерскую игру, лечение,
отправление религиозного культа и т. д. Вся аргументация данного эссе основана на предположении, что на
каком-то уровне 'механизм' этих разнообразных форм коммуникации должен быть одним и тем же и что каждая форма является
'трансформацией' остальных - совершенно так же, как написанный текст является трансформацией устной речи. Если это действительно
так, то нам необходим язык для описания свойств этого общего кода. Тут-то и наступает черед моего профессионального языка.
Фундаментальная трудность всего этого предприятия состоит
в том, что мы все время имеем дело как с деятельностью человеческого разума, так и с
объектами и явлениями внешнего мира.
Музыка, возникающая как результат превращения пианистом нот партитуры в
движения пальцев по клавиатуре, не является простым следствием импульсивных реакций
на сигнал. Импульсивные реакции здесь присутствуют, но моделируют их
музыкальное мышление и умение исполнителя. То же самое применимо и ко всей сфере человеческой
коммуникации, как вербальной, так и невербальной. Всякий раз, когда мы говорим о
'значении' 'выражающего' поведения, мы имеем дело с соотношением между
поддающимися
наблюдению моделями во внешнем мире и не поддающимися наблюдению моделями 'в
сознании'. Но здесь мы опять возвращаемся к противоположности между рационализмом
и эмпиризмом. Что реально имеется в виду под 'моделями в сознании'? Я бы настоятельно советовал
вам проявить скептицизм.
Только самый что ни на есть радикальный
психолог-бихевиорист стал бы говорить о проблемах 'значения', не допуская ни в малой степени присутствие
'реальности' за возникающими в мозгу идеями, - а вот противоположная форма искаженного
представления весьма распространена. Многое в теории знаков и символов (семиологии) было
разработано европейскими последователями де Соссюра, а они разрешили проблему
соотношения между представлениями, с одной стороны, и объектами внешнего мира -
с
другой, заняв крайнюю рационалистскую позицию, согласно которой мы можем
полностью игнорировать объекты внешнего мира.
Эти авторы настаивают на том, что нам следует
проводить четкое различие между 'словами, рассматриваемыми как внешние объекты' (т. е.
определенными конфигурациями звуковых волн, конфигурациями значков на бумаге),
и 'словами как звуковыми образами'.
Вы сами обладаете опытом применения 'слов как звуковых образов' всякий раз, когда 'думаете' словами, не
произнося никаких
26
звуков и
не шевеля губами. Когда дело касается вашего родного языка, каждое слово (как
звуковой образ) неразрывно связано с укорененным в сознании представлением или
понятием. Если следовать этой линии аргументации, термин лингвистический
знак в
трудах де
Соссюра и его последователей относится к сочетанию звукового образа и понятия.
Лингвистический знак - это единая сущность с двумя гранями, наподобие листа бумаги
с двумя сторонами: а) звуковой образ (франц. significant 'означающее') и
б)понятие (франц. signifié 'означаемое').
Малдер и Херви используют здесь термины 'выражение' и 'содержание' [Mulder-Hervey, 1972, p. 27].
Данное эссе не рассматривает исключительно вербальную
коммуникацию
или лингвистические
знаки.
Точно так же как мы способны думать словами, без того чтобы их реально
проговаривать, мы способны думать зрительными и осязательными образами, без того чтобы реально
что-либо видеть или чего-либо касаться. Поэтому я буду писать не о
звуковых, а о сенсорных образах. Трудность состоит в том, чтобы понять, каким образом тот
сенсорный образ, с которым мы можем играть в своем воображении, связан с
объектами и явлениями внешнего мира. Тут возникают разного рода трудности.
Прежде всего, существует трудность, которая проявляется в языке как омонимия и
синонимия. Слова hair и hare* в английском языке являются
омонимами; в качестве звуковых образов они идентичны. Однако это совершенно разные
виды объектов, и мы не смешиваем их как понятия, хотя в каламбурах можем
обыгрывать в воображении тождественность двух звуковых образов. Каламбурить от случая к
случаю - крайне важное свойство всех форм символической коммуникации, но особенно,
быть может, это затрагивает те области социальной жизни, которые являются
средоточием табу, такие, как секс и религия. Каламбуры могут быть как визуальные, так и
вербальные. Петух (птица) повсюду в Европе, по крайней мере со времен
классической Греции, является метафорой человеческого пениса, так что изображения
петушиного боя и петухов с курами могут быть основательно нагружены сексуальным
смыслом. Похожим
образом невинный 'bunny' - слово из детского лексикона, заменяющее значительно менее
невинное 'cunny (coney**)', - и нынешние 'bunny girls' 'Плейбоя' ведут свое
происхождение от 'cunny houses' (публичных домов) XVIII в.
* Hair (англ. ) - волос; hare (англ. ) - заяц.
** Coney (англ. ) - кролик.
27
Синонимия - это противоположный способ, посредством которого единое понятие
в сознании может быть выражено двумя совершенно разными звуковыми образами даже в
контексте одного и того же языка. Так, в английском языке kill* - это то же самое, что slay, a ship** - то же самое, что vessel. Здесь снова имеют место невербальные аналогии для вербального
использования. Почти во всех религиозных
системах коренная теологическая идея, наиболее священные и строго табуированные
понятия могут быть представлены
несколькими взаимозаменяемыми стандартизованными символами. К примеру, в
эпоху раннего христианства крест, а также
символ ХР (первые две буквы слова 'Христос') и рыба были равнозначными
символами; расшифровывались греческие буквы слова
ίχφύς - 'рыба' как 'Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель'.
Но модель тут общая. Тот факт, что названия, придаваемые
вещам и
явлениям внешнего мира, произвольны и условны, подразумевает двойную природу как сенсорных
образов и понятий, вызванных к жизни
феноменом этих вещей, так и тех типов предметов, которые служат для нас воплощением метафизических идей.
И здесь мы сталкиваемся со второй значительной
трудностью. В то время как одни понятия возникают как описание предметов и явлений внешнего мира
(например, такие существительные, как корова, или такие глаголы, как убивать), другие (например,
различие между хорошим и плохим) рождаются
в сознании безотносительно к конкретным
предметам и явлениям внешнего мира. Именно так, используя знаки и
символы, мы можем проецировать эти
порожденные сознанием понятия на объекты и действия во внешнем мире.
Например, когда мы одеваем невесту в белый наряд с вуалью, а вдову - в очень похожий черный наряд с вуалью, мы используем оппозицию белое/черное, чтобы выразить не
только отношение
к невесте
/вдове, но и к хорошему /плохому, - точно так же как используем целый ряд дополнительных
взаимосвязанных
метафор, таких, как веселый /грустный, чистый/загрязненный.
Механизм, посредством которого эта
двойственность значений проникает в определенную систему, можно представить
схемой 2.
* Kill (англ.) - убивать.
** Ship (англ.) - корабль.
28
Схема 2
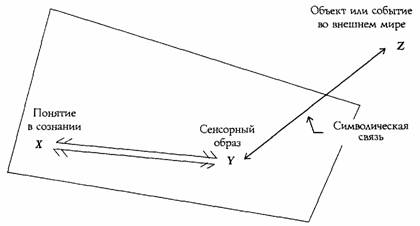
Связь между X ('понятием в сознании') и У ('сенсорным образом') - сущностная:
они - две стороны одной медали; зато связь между Y ('сенсорным образом')
и Z
('объектом во внешнем мире') всегда произвольна, по крайней мере до определенного
предела.
Из этого следует, что, пользуясь моим лексиконом, связь Z/Y - всегда символична
(метафорична). Но это категоричное утверждение следует уточнить. В той степени, в какой
связь Z/Y становится стабильной
(в результате условности и привычного использования), она является знаком.
Следуя за Малдером и Херви, я уже излагал это положение выше, на с. 20. Если из
толпы людей мы выделяем одного человека и даем ему имя Джон, такое действие является
символическим, но когда мы используем слово свинья для обозначения всех животных
определенного вида, где бы они ни находились, мы пользуемся словом свинья как знаком. Но тогда
что мы делаем, применяя слово свинья к полицейскому? Ясно, что тут опять
вступает в действие символика. Позднее мы увидим, что это никоим образом не
частная проблема.
-Она имеет отношение к тому, как антропологи понимают магию. Однако
здесь я всего лишь хочу указать, что оппозиция сущностный
/произвольный проведена нечетко. Любая произвольная ассоциация, которую используют много раз,
в конце концов начинает казаться сущностной.
29
Рискуя показаться утомительным, хочу еще немного продолжить рассмотрение проблемы
принципиальной произвольности связи Z/Y.
В случае с вербальным языком изначальная
произвольность очевидна. Животное, принадлежащее внешнему миру, которое англичанин называет dog, француз назовет сhiеп. Английское dog и французское сhieп представляют собой
произвольные метафоры (символы) для одного и того же. К тому же связь между звуковым
образом
и понятием - очевидно сущностная. Мое англоязычное понятие 'собакости' возникает при слове dog и не возникает
от слова сhiеп. Слово dog является частью моего понятия, слово сhiеп - не является.
Поскольку английский язык - родной для меня, 'dog как слово' и 'dog как укорененное
понятие' кажутся неразделимыми1.
Это ощущение тождества между вещами и их названиями заходит очень далеко. В
самых разных мифологиях, включая мифологию австралийских аборигенов и иудеохристианскую
Библию, наделение животных и растений именами является актом творения, который дает им независимое
существование.
Но хотя в применении к словам у вас не будет трудности с принятием следующего ниже, довольно очевидного
утверждения: 'Мои понятия связаны с
определенными словами в определенном языке;
предметы внешнего мира связаны с разными словами в разных языках', - у вас может возникнуть
сопротивление, если речь зайдет о
том, чтобы применить то же самое суждение к невербальному контексту.
Очевидно, что слова dog и chien суть разные образы
одного и того же создания, но действительно ли мое зрительное восприятие
1 Ясно, что такая
формулировка вызывает ряд серьезных вопросов. Что происходит,
например, с отношением 'звуковой образ / понятие', когда индивиды реально
двуязычны? Есть и другие трудности. Малдер и Херви [Mulder-Hervey, 1972, p.
26-63] проделывают крайне сложный анализ проблем, связанных с соотношением
X, Y и
Z (схема 2) в той мере, в какой это
затрагивает лексику конкретною разговорного языка, например
английского. Они заявляют, что избежали тех видов двойственности,
о которых я говорил, и характеризуют X в
приводимой мной схеме как 'класс равных референтов', а Y - как 'класс равных форм'. Тогда X и Y,
будучи взяты в сочетании, становятся знаком
для Z.
Рассуждая так, Малдер и Херви неизбежно существенно отходят от
своего первоначального определения знаков как 'сигнумов с твердо
зафиксированным условным обозначением'. Во всяком случае, насколько
я могу судить, подход Малдера и Херви, который они называют 'денотативной
знако-семантикой', неприменим к проблемам перевода, где один 'язык'
- вербальный или невербальный - интерпретируется средствами другого языка.
А именно такого рода интерпретация является главной темой моего эссе.
30
'вещи--собаки',
мой цельный сенсорный образ этого существа не может оказаться точно так же и
культурно обусловленным? Вы в самом деле в этом уверены? Насколько можно быть
уверенным, что наше восприятие мира не зависит от нашего социального окружения?
Эта проблема является источником широкой дискуссии в среде
многоопытных
антропологов и психологов, и я определенно не готов к тому, чтобы быть догматиком в
этом вопросе. Но художественное изображение одних и тех же объектов в разных
культурах подчиняется
весьма разным условностям, и это представляется значимым. Вполне
возможно, что каждый индивид воспринимает свой мир таким, каким ему (или ей) рисует
этот мир его (ее) культура. Сегодня в большей части мира господствуют 'реалистические'
образы,
обеспеченные нашим использованием съемочной аппаратуры. Но если вы
воображаете - как оно, возможно, и есть на самом деле, - что ваш глаз 'естественно' воспринимает
мир таким, каким он бывает на фотоснимке, то это самообман.
Но позвольте мне временно вернуться назад, к утверждению 'полицейские -
свиньи'. Эта ассоциация откровенно произвольна и потому символична (метафорична);
полагать, что она сушностна и потому свойственна природе метонимического знака, было бы ошибкой. Но, как мы
увидим, это особого рода ошибка, которую все мы склонны совершать. Это один из
стандартных приемов, используемых нами, чтобы скрыть то обстоятельство, что
почти всё, что мы говорим или делаем, полно двойственности.
Схема 2 помогает объяснить, каким образом
двойственность выходит на первый план. Предположим для начала, что Z - это пример обычного
домашнего животного, известного в английском языке как cow. В таком случае вид
этого животного породит в сознании англоязычного наблюдателя как зрительный,
так и звуковой образ коровы. Эти две версии У (сенсорного образа) приводят к тому, что
рассматриваемое животное классифицируется как корова, а не как лошадь, но X, т. е. 'понятие коровы в сознании', не одинаково связан с обоими
образами (зрительным и звуковым), и мы в состоянии мысленно обыгрывать каждый из них.
В частности, мы можем придавать определенные черты зрительного образа звуковому, так что возникает
основа для новых метафор. В результате английское слово cow применяется не только
к обычному домашнему животному, но и к самкам китов, слонов, тюленей, носорогов
и даже
иногда к самкам человеческих существ.
31
Все эти способы словоупотребления суть метафоры, но заключенные в них ассоциации не вполне произвольны; здесь присутствуют элементы метонимии, что явствует из того, что
всюду, где самка того или иного вида
описывается как корова, самец описывается как бык.
Это может показаться глупым детским примером, но речь
идет о
принципиальной вещи, которую вам необходимо осмыслить. Метафорические
(символические) и метонимические (знаковые) связи различны по своему
содержанию, и в самом деле, при обычных процессах коммуникации мы так или иначе
показываем, что разделяем их. Нам приходится делать это, чтобы избежать
двусмысленности.
Но скрытая двусмысленность всегда здесь присутствует, и существует множество частных, но значимых
ситуаций - например, в поэтических и
религиозных высказываниях, - когда мы впадаем в противоположную крайность. За счет переключения кодов (с
символов на знаки) мы в состоянии убедить друг друга, что метафорическая
бессмыслица на самом деле имеет метонимический смысл.
32
Прежде чем двигаться дальше, мне нужно разработать нечто вроде очень краткого
разграничения (уже делавшегося мной) между сигналами и индексами (см. выше, с. 20).
Вам следует опять сосредоточиться на схеме 1.
Сигнал относится к механизму автоматической ответной реакции. В природе большая часть сигналов имеет
биологический характер. Каждый
биологический вид в результате эволюции приспособился реагировать на окружающую
среду с помощью сложной сети сигналов.
Взять простой пример с человеком. Если в жаркий день я не пью на протяжении нескольких часов, то начинаю
испытывать жажду. 'Ощущение жажды' -
это биологический сигнал, пускающий
в ход ответную реакцию. Я ищу чего бы выпить.
Не совсем ясно, до какого предела коммуникация между
взрослыми
человеческими индивидами действительно управляется сигналами, но реакция
матери на плач и улыбку ее ребенка, конечно же, в значительной степени инстинктивна,
а становясь старше, мы не утрачиваем нашу животную природу.
Две общие характерные черты сигналов заслуживают особого
внимания:
1) сигнал - это всегда
часть причинно-следственного ряда. Сна
чала его
порождает предшествующая причина, а затем он действует
как
причина, порождающая более позднее следствие;
2) между сигналом и его
следствием всегда существует времен
ной лаг.
В этом отношении технические действия людей, меняющие физическое состояние
внешнего мира (с. 15), очень напоминают сигналы. Основное отличие состоит в том, что
сигналы являются 'автоматическими' в том смысле, что не влекут за собой намеренную реакцию со стороны их
получателя, однако они и не полностью машинальны: эффективность сигнала
зависит от эмоциональной реакции получателя, которая не полностью предсказуема.
С
другой стороны, технические действия полностью машинальны и
33
влекут за собой изначально
намеренное действие со стороны отправителя (действующего лица).
Этот момент оказывает значительное влияние на антропологические теории магии
(см. ниже, раздел 6).
Различие между сигналом и индексом - это различие между динамикой и статикой. В случае с сигналом одно событие вызывает
другое событие; сигнал как
таковой - это послание. В случае с индексом сущность как носитель
послания указывает на то, что послание имело место в прошлом, настоящем или
будущем. Причинно-следственная связь при этом не затрагивается. Однако на индексы, используемые
многократно, все животные, включая человека, реагируют так, как если бы они были
сигналами.
Это важное положение можно проиллюстрировать на классическом примере с собакой
Павлова. Подача пищи этой собаке регулярно сопровождалась звоном колокольчика.
Подлинным биологическим сигналом для собаки был запах пищи, который с самого начала вызывал
реакцию слюноотделения. Но собака научилась ассоциировать пищу с колокольчиком.
После этою звон колокольчика вызывал реакцию слюноотделения, даже если пища не
подавалась. Колокольчик был индексом присутствия пищи, но воспринимался как сигнал.
Обычно значительную долю человеческого обучения
составляет заучивание перечня индексов - как природных, так и созданных человеком;
мы запоминаем, что чему соответствует. А выучив урок, идем кратчайшими
мыслительными путями и поступаем, как собака Павлова. Например, читая эти слова, вы
можете сознательно отмечать для себя отдельные индексы (буквы, отпечатанные на
бумаге),
но обычно вы воспринимаете печатный текст как сигнальный механизм,
автоматически порождающий информацию, предстающую перед 'вашим мысленным взором'.
Вы можете подумать, что это портит всю
аргументацию, Ранее, в
разделе 2, я подробно рассматривал случай с последовательностью букв, составляющих слово, - как пример
'синтагматической цепочки знаков'. Но
теперь я говорю, что в реальности, когда мы занимаемся процедурой чтения, мы . воспринимаем подобную 'синтагматическую цепочку знаков', как если бы они были
сигналами. Итак, в чем же все-таки
состоит суть нашего насыщенного тарабарщиной анализа?
34
Последние
абзацы разделов 3 и 4 могут привести циничного читателя к заключению, что тщательно проработанные различения понятий, предложенные в разделе 2 и в схеме 2, были
выдвинуты мной только для того, чтобы
продемонстрировать, что на практике применить
их невозможно. В известной степени это верно! Якобсон, который первым
подчеркнул важность противопоставления метафора/метонимия, с самого начала
пояснил, что в реально наблюдаемых формах дискурса, вербального или невербального,
оба вида всегда
смешаны, хотя один может преобладать над другим. Моделью обычной несущей
послание системы является не строчка машинописи, а выступление оркестра, когда
гармония и мелодия действуют
в сочетании.
Догадка Якобсона получила развитие у Леви-Строса, став
основой его знаменитого метода интерпретации мифа. Ключевым моментом здесь является
вовсе не то, что метафора и метонимия, парадигматическая ассоциация образов и
синтагматическая цепочка соединены вместе, а то, что 'значение' зависит от трансформаций из одной системы в
другую, и наоборот.
Чтобы понять, чего же достиг Леви-Строс, вам требуется детально рассмотреть
несколько приводимых им примеров. Но формальные принципы его метода довольно просты.
Сперва Леви-Строс разбивает синтагматическую цепочку цельной мифологической истории на
последовательные эпизоды. Затем он предполагает, что каждый эпизод - это
частичная метафорическая трансформация любого другого эпизода. Имеется в виду, что
данная история в целом может пониматься как палимпсест наложенных одна на другую (но незавершенных)
метафорических трансформаций.
Если мы принимаем такие допущения, то отсюда
вытекает, что исследователь, стремящийся расшифровать послание, заключенное в
целостном мифе (в отличие от поверхностных посланий, которые представлены историями
из отдельных эпизодов мифа), должен искать модель структуры (обязательно несколько
абстрактной), которая является общей для всего набора метафор. Конечная интерпре-
35
тация заключается в
прочтении этой выявленной модели, как если бы то была синтагматическая цепочка. Данная
процедура включает в себя двойное переключение: от метонимической - к метафорической и обратно к
метонимической форме.
Сам Леви-Строс изображал этот процесс с
помощью математической формулы [Levi-Strauss, 1966, р. 211-212], а его подражатели - П. и Э.К. Маранда
[Maranda, 1971, р. 24-25] - еще более формализовали соответствующую интерпретацию.
Первоначальная версия,
представленная Леви-Стросом в 1955 г. , была им впоследствии подправлена в разных вариантах, но именно она
остается наиболее легкой для
понимания. Ее можно представить в виде следующей схемы:
а) мы начинаем с мифической истории, линейной по
своей форме, где одно следует за другим. События происходят последовательно, т.е. они образуют 'синтагматическую
цепочку', они связаны посредством метонимии;
б) затем исследователь замечает, что данная история
как целое
может быть поделена на эпизоды А, В и
С:
Схема 3а
|
Мифическая история, как она записана
|
Эпизод
А
|
Эпизод В
|
Эпизод
С
|
в) затем каждый из эпизодов принимается как
частичная трансформация
любого из остальных эпизодов. Поэтому мы перестраиваем схему, предполагая, что
каждое из ее подразделений относится к одновременно происходившим событиям, и
'складываем' результат. Выражаясь профессиональным языком, первый из этих шагов трансформирует изначальную
'синтагматическую цепочку' в 'парадигматическую
ассоциацию' (метонимия превращается в метафору); таким образом:
Схема 3б
 Эпизод
А
Эпизод
А
Эпизод В
Эпизод С
________
Суммарный
результат, достигнутый путем 'сложения'
36
В отличие от деталей первоначальных
эпизодов элементы, составляющие суммарную,
'сложенную', историю, абстрактны. Это структурная последовательность,
которую лучше всего можно представить
в виде алгебраического уравнения, где каждый из трех первоначальных эпизодов является незавершенным проявлением (единой структуры. - Пер. ). Выражаясь
профессиональным языком, этот итоговый процесс сводится к превращению
'парадигматической ассоциации' в 'синтагматическую цепочку'; метафора превращается в
метонимию.
Основной подразумеваемый принцип - тот, что
является общим для любых вербальных выражений и для всей ритуальной деятельности. Словесные высказывания - это
последовательности во времени; по самой своей
природе они являются синтагматическими цепочками
несущих послание элементов. Но большинство посланий синхронны, их конец
подразумевается уже вначале, и наоборот. Интерпретируя послание, мы всегда проявляем искусство, сравнимое с искусством перевода с одного языка на другой.
Мы - как об этом уже говорилось -
транспонируем музыку из одной тональности
в другую. Такая операция представляет собой парадигматическую трансформацию.
Когда мы передаем послания посредством речи, временной интервал между началом
высказывания и его концом так короток, что мы склонны забывать о том, что временной
фактор вообще присутствует. Но соответственно, когда мы пытаемся
интерпретировать ритуальные действия, то склонны забывать, что события, разделенные
значительным отрезком времени, могут быть частью одного и того же послания. Я
уже упоминал один случай такого рода; его стоит повторить. Христианские европейские
обычаи, в соответствии с которыми невесты покрываются белой вуалью и одеваются в
белое, а
вдовы покрываются черной вуалью и одеваются в черное, и в том и в другом случае являются частью
одного и того же послания. Невеста вступает в
брак, вдова покидает его. Оба эти обычая логически связаны. Причина, по
которой мы, как правило, не видим этого, заключается в том, что они обычно
далеко разведены во времени.
37
Действия, которые антропологи классифицируют как магию и колдовство, служат
прекрасным примером двойственности, о которой я говорил, и смешения
метонимической и метафорической ассоциаций, что характерно для всех видов
человеческой коммуникации.
Мысль, которую я хочу отчетливо довести до вас в этом разделе, состоит в том, что метод исследования, столь
удачно примененный Леви-Стросом к
интерпретации мифа, может - с незначительным видоизменением - использоваться и для того, чтобы пролить свет на логические мистификации 'магии'.
Возможно,
первое, что здесь следует подчеркнуть, - это то, что двойственность нужно отличать от ошибки.
В
начале нашего столетия антропологи считали само собой разумеющимся, что очевидная технологическая отсталость первобытных обществ была следствием общей умственной
неполноценности. Вера в магию была
симптомом этого более низкого уровня; она свидетельствовала о том, что все
первобытные народы по существу дети и
обладают путаным сознанием.
Наиболее признанной версией этой теории стала версия сэра
Джеймса Фрэзера. В
действительности Фрэзер полагал, что ''выражающие"
действия, имеющие целью изменить состояние мира метафизическими средствами', являются ошибочными
попытками 'технических действий, изменяющих состояние мира физическими средствами' (см. выше, с. 15). Он заявлял, что
магия - 'незаконнорожденная наука' и
что ее фундаментальное качество - ошибочное представление о причине и следствии. В дальнейшем он пришел к
различению двух основных типов ошибочных причинно-следственных связей: 1) гомеопатической магии, основанной на
'законе подобия'; 2) контагиозной
магии, основанной на 'законе контакта'.
Там, где Фрэзер бывал неправ, он был неправ интересно.
Прежде
всего он полагал, что ошибка мага состоит в смешении 'выражающих' действий с
техническими, тогда как, по общему мнению современных антропологов, то, что обыкновенно
делает маг, сводится к интерпретации индекса как сигнала наподобие собаки Павлова
38
(см. выше, с. 33). С
другой стороны, как уже давно было подмечено Якобсоном [Jakobson-Halle, 1956, р. 80-81], проводимое
Фрэзером различие
между гомеопатической и контагиозной магией по сути своей то же самое, что
различие между метафорической и метонимической ассоциацией. Фрэзеровский
'незаконнорожденный ученый-маг' манипулирует образными символами (которые основаны
на
метафоре) и знаками (которые основаны на метонимии).
Неудача
Фрэзера с разграничением того, что по сути являлось сигналами и техническими действиями, есть следствие ошибки, но показать, что это ошибка, не прибегая к конкретным
примерам, нелегко. Суть дела в том,
что магический обряд, наблюдаемый в действии,
имеет ощутимо иную природу, нежели прямое техническое действие. Когда
сингальский крестьянин хочет забить в землю кол, он берет кувалду и именно это
и делает; когда же он хочет остановить навьюченного слона, он, как правило, поступает
(или ему следует
поступить) следующим образом: останавливает животное, произнося магическую формулу!
Сущностная разница между двумя этими типами действий состоит в том, что
первобытный человек, совершающий техническое действие, всегда находится в
прямом механическом контакте с объектом, который он пытается изменить, а человек,
совершающий магическое действие, намерен изменить состояние мира,
действуя на
расстоянии. Пояснение насчет сенсорных образов (раздел 3, схема 2) здесь вполне
уместно, как и утверждение о том, что сигналы представляют собой механизмы
автоматических ответных реакций (с. 32). В терминах схемы 1 магические действия
являются индексами, маги же воспринимают их как сигналы.
Это незначительное 'соскальзывание' в
восприятии, в результате которого техническое действие смешивается с
'выражающим', а символическая коммуникация - с сигнальной, заслуживает пристального внимания
антропологов.
В обыденной обстановке единственный способ, которым я могу
заставить
нечто осуществиться на расстоянии (при отсутствии механической соединяющей
связи), состоит в том, что я должен отдать словесные (т. е. символические) указания
обученному действующему
субъекту (человеку или животному). Мое вербальное указание есть действие 'выражающее', а не техническое, но если упомянутый субъект отвечает на мое послание так, как если бы это был сигнал (т. е. автоматически,
подобно собаке Павлова), то существование посреднической связи через этою
субъекта теряет свое
39
значение.
Результат оказывается такой, как если бы я сам осуществлял техническое
действие на расстоянии.
Отметим, что в ситуациях такого рода результат
вербальной команды будет надежным, только если она соответствует общепринятой обычной форме,
т. е. если символические указания могут быть восприняты как знаки (ср. с. 28-29). С
другой стороны, если словесные команды имеют совершенно привычный характер, как
те, что
выкрикивает старший сержант на плацу, то не имеет реального значения, что собой представляют его
слова: сам по себе их звук может
восприниматься как сигнал. Это - общий принцип. Когда с символами обращаются
как со знаками, они всегда очень легко воспринимаются
как сигналы.
Таким образом, очень важно, что те типы обрядовых
действий, которые антропологи рассматривают как магические, неизменно включают словесный
(т. е. знаковый) компонент - заклинание. Считается, что именно заклинание заставляет
магические обряды быть эффективными на расстоянии. Это заблуждение, но
заблуждение сложной природы.
Рассмотрим ниже типовой пример, который
вполне мог бы принадлежать Фрэзеру:
'Колдун завладевает несколькими волосками с
головы предполагаемой жертвы X. Колдун уничтожает эти волосы, сопровождая свои действия
заклинаниями и обрядами. Он предсказывает, что вследствие этого жертве X будет причинен вред'.
Какова
'логика' заблуждения колдуна?
В терминах схемы 1 просматривающиеся здесь связи
выглядят следующим образом.
Колдун воспринимает волосы, растущие на голове
X,
как метонимический знак, замещающий X. Далее он полагает, что если уничтожит знак,
то причинит вред X. Это совершенно 'разумно'. В выражениях 'А замещает APPLE' и 'корона замещает
королевскую
власть' А и корона являются метонимическими знаками APPLE и королевской власти
соответственно. Если вы уничтожите знаковые элементы, то оставшиеся части станут
ущербными: -PPLE и 'королевские регалии без головного убора' не поддаются расшифровке.
Итак, пока волосы растут на голове потенциальной жертвы,
они, безусловно,
являются 'метонимическим знаком X' в истинном смысле слова: знак и обозначаемая
вещь тесно связаны; если бы волосы
были уничтожены, X, несомненно, потерпел бы ущерб. Но на
40
момент, когда эти
волосы оказываются во власти колдуна, единственной сохраняющейся связью с местом их
происхождения является вербальная метка 'это - волосы X'. Эта метка теперь -
метонимический
знак волос,
но
волосы и X - разделены: связь между меткой и X - только
метафорическая. Поскольку сенсорный образ X в сознании колдуна
порождается наличием волос, это влечет за собой различение, аналогичное отмеченному на
с. 28: между именами собственными, которые служат символами называемых ими индивидов, и
категориальными словами (например, свинья, волосы), которые обычно
являются знаками указываемой категории.
Говоря вкратце, с точки зрения характеристик,
приведенных на схеме 1, колдун совершает тройную ошибку. Сначала метафорический символ (т. е.
вербальную метку 'это - волосы X') он принимает за метонимический знак. Затем с этим
якобы знаком продолжает обращаться, как если бы то был естественный индекс, и, наконец, интерпретирует
этот, как он полагает, естественный индекс в качестве сигнала, способного вызывать
автоматические реакции на расстоянии.
Вы можете, наверное, подумать, что это совершенно
абсурдно усложненный,
перенасыщенный тарабарщиной способ описания того, что и так очевидно. Я согласен. Но
мыслительные ассоциации в ходе магического действия сложны, а логические ошибки
совсем не
так самоочевидны, как это иногда кажется. Если вы хотите выявить, где же
происходят 'ошибки', вам необходимо очень тщательно исследовать всю цепь
ассоциаций. Обратите внимание на сходство между моим идеальным
антропологическим примером и следующими ниже, более знакомыми ситуациями.
Случай 1 ПОЛИТИЧЕСКОЕ
КОЛДОВСТВО
Во многих частях современных Латинской
Америки, Африки и Азии привычным способом изменения политического режима является военный переворот. В огромном
большинстве случаев происходящее при этом кровопролитие незначительно. Мятеж
завершается в течение
нескольких часов, и лидеры низвергнутого правительства отправляются в комфортабельное изгнание за границу. Форма таких переворотов вполне стандартна:
она представляет собой военный штурм президентского дворца. Во многих случаях позднее
сообщается,
что сам президент в это время отсутствовал. Большую роль в
41
происходящем играют
газетные и радиообращения (заклинания) от лица незаконно захватившей власть военщины.
Основное различие между этим видом действий и
тем, что делает придуманный мною колдун, состоит в том, что волосы намеченной жертвы заменены президентским дворцом
намеченной
жертвы. Переворот - это действие 'выражающее', а не техническое, но в девяти случаях из
десяти оно достигает желаемого результата. Не следует думать, будто магия и колдовство
никогда не срабатывают!
Случай 2 ТЕХНОМАГИЯ В ДОМЕ
Вы входите в комнату и замечаете на стене
знакомого вида кнопку. Вы воспринимаете это как знак того, что в комнату проведено электричество. На основании долгого
опыта вы убедились, что можете воспринимать
знак как сигнал. Вы нажимаете кнопку, ожидая,
что где-нибудь в комнате зажжется свет.
Большую часть этой сложной череды допущений, на которой основываются ваши
ожидания, можно проверить лишь с великим трудом. Именно привычка, а не технические
знания заставляют нас воспринимать электровыключатели как сигналы. И в самом деле,
если бы
не отсутствие словесного заклинания, трудно было бы отличить ваше поведение,
когда вы включаете свет, от магического действия.
Я не считаю, что мы должны трактовать включение
света как магическое
действие, но считаю только, что, если бы сэр Джеймс Фрэзер был
последователен, он должен был бы действовать так! Включение света по
своему намерению является техническим и может быть техническим по своим
последствиям, однако реальная форма этого действия имеет 'выражающий' характер.
Поскольку наше повседневное поведение
переполнено логической двойственностью такого рода, имеет смысл, затратив некоторое усилие,
рассортировать все это дело - с сигналами, знаками и символами - на
категории.
Проведение различий - не просто педантизм. По
общему признанию,
приведенные выше три типа коммуникативных пар постоянно смешиваются
между собой, но вам полезно иметь в голове ясные формальные разграничения, поскольку
именно благодаря та-
42
ким разграничениям и
отказу допускать существование какой бы то ни было двусмысленности нам и удается
воспринимать мир так, как мы это делаем.
Если
вы сомневаетесь, попробуйте подробно
разобраться, почему все-таки у вас есть ощущение, что фокусы-покусы
колдуна с волосами намеченной жертвы - это 'магия', а манипуляции с электровыключателем
- нет.
43
Решающим моментом здесь является то, что наше внутреннее
восприятие окружающего мира в значительной мере обусловлено вербальными
категориями, которые мы используем для его описания. Пейзаж современной городской
улицы полностью создан человеком, и только потому, что все предметы на ней имеют
особые названия
(т. е. символические метки), мы можем понять, что эти предметы собой
представляют. Это верно для любой человеческой культуры и для всех человеческих обществ. Мы пользуемся
языком, чтобы разделять видимый континуум на
осмысленные объекты и на субъектов,
исполняющих различаемые роли. Но мы используем язык и для того также, чтобы вновь соединять вместе составные элементы и
устанавливать связи между вещами и субъектами. Как было показано в самом первом моем примере - о
подарке (с. 13), эта двойная функция
символического действия относится и к вербальному, и к невербальному поведению.
Во многом то же самое подразумевается содержащимся в контексте моего эссе
определении знаков (с. 21). Все знаки, а также большинство символов и сигналов сцеплены
вместе в виде тех или иных конфигураций. Значения при этом зависят от
противопоставления. Красный и зеленый свет означают 'стойте' и 'идите', но только когда они
противопоставлены один другому и должным образом размещены на светофоре. Мы понимаем, что
перед нами электровыключатель, потому что можем отличить его по виду и расположению от других
устройств, таких, как дверные ручки и оконные щеколды, которые входят в единый,
общий с выключателем контекст. Но если бы мы увидели тот же самый предмет лежащим на тропинке, то
вовсе не ожидали бы, что он будет функционировать как электровыключатель. Одна из
ошибок нашего условного колдуна состоит в том, что он оказывается не в состоянии провести это различие:
он не учитывает, что волосы жертвы, будучи
44
отделенными
от соответствующего им контекста (головы жертвы), меняют свое
'значение'.
Когда мы используем символы (вербальные или невербальные), чтобы
отделить один класс предметов или действий от другого, мы создаем искусственные границы на том пространстве,
которое в своем 'естественном' виде
является неразрывным. Это понятие границы нуждается в осмыслении.
В принципе граница не имеет измерения. Мой сад
непосредственно
примыкает к саду моего соседа, пределы Франции непосредственно примыкают к
пределам Швейцарии и т. д. Но если граница должна быть обозначена на местности, само это
обозначение потребует определенного пространства. Соседские сады обычно разделяются
изгородями и канавами; пределы государств - полосами 'ничейной земли'. В
том и состоит природа такого обозначения границ, что в них заложен двойственный смысл и
они являются источником конфликта и беспокойства.
Принцип, заключающийся в том, что все границы
являются искусственными разрывами того, что в естественном состоянии является
неразрывным, а также в том, что двойственность, подразумеваемая границами как
таковыми, является источником беспокойства, - принцип этот затрагивает как
время, так и пространство.
Биологический поток физического опыта,
протекающий во времени, непрерывен; мы просто 'все время' становимся старше и старше. Но стремясь
измерить это время накапливаемого опыта, мы вынуждены изобретать часы и календари,
которые постоянно разбивают данную непрерывность на сегменты: секунды, минуты, часы, дни, недели.
Каждый сегмент имеет продолжительность, однако понятия продолжительности интервалов между
этими сегментами не существует (как и в случае с тактовыми линиями в музыкальной партитуре). Но
когда мы приступаем к преобразованию этого концептуального времени в социальное,
актуализируя его, каждый 'интервал, не имеющий протяженности' сам по себе,
приобретает
временное измерение.
К примеру, на понятийном уровне изменение статуса от 'холостого' к
'женатому' представляет собой просто переключатель категорий, но на уровне действия
такое переключение предусматривает обряд, преодоление социальных границ,
происходящее в 'ничейном
времени'.
Это очень простой пример, но общая аналогия
между сегментацией социального пространства и сегментацией социального време-
45
ни имеет
значительно более широкое применение. Границы социального пространства
возникают и во многих других контекстах, а не только в связи с владением собственностью и с охраной государственных рубежей; в частности, они присутствуют
во многих человеческих выдумках, посредством которых мы отделяем сферу одомашненного от сферы дикого, город - от деревни,
сакральные места - от мирских жилищ и
т. д. Аналогичный вывод приложим и к
границам социального времени.
Легче всего это увидеть в том, как мы подразделяем нашу
привычную
деятельность. Каждая рабочая неделя, которая обычно длится от понедельника до субботы, отделяется
от следующей недели воскресеньем - необычным
днем, днем отдыха (holy day - 'священный день'),
основная особенность которого в том, что ничего не происходит. И то же
самое - с каждыми сутками повседневной жизни: периоды обычной трудовой активности
разделены интервалами 'безвременья', которые как бы 'не считаются', но на деле посвящаются еде или
сну.
Тот же самый принцип приложим и к развитию отдельной личности, происходящему в течение всего
его (или ее) социально признанного
существования. Переходы индивида из одного социального статуса в другой - это череда прерывных скачков: от ребенка - к взрослому, от холостого - к женатому, от
больного - к здоровому, от живого - к
мертвому. Пребывание в каждом из статусов
составляет период социального времени (имеющего социальную продолжительность), но сам обряд,
знаменующий переход к новому статусу
(достижение половой зрелости, свадьба, исцеление, похороны), - это интервал социального безвременья.
Данное общее рассуждение о пространственных и временных
границах подразумевает и другой ряд равнозначных фундаментальных метафор, а
именно:
обычное/необычное время; временная
граница/безвременье; четкие категории/двусмысленные категории; в центре/на
краю; мирской/священный.
Граница разделяет две зоны социального
пространства-времени, зоны, являющиеся обычными, имеющими временное измерение, четкими,
центральными, мирскими, - а вот сами пространственные и временные маркёры, которые на
деле служат границами, являются необычными, вневременными, двусмысленными, окраинными,
священными.
46
Но почему 'священное' должно быть 'необычным, вневременным, двусмысленным,
окраинным'? Может быть, моя Эйлерова схема (схема 4) нам поможет? Всегда существует
какая-то неопределенность относительно того, где же именно край категории А заходит за край
категории не-Л. Всякий раз, как мы проводим категориальные различия внутри единого
поля (пространственного или временного), значимыми становятся именно границы; мы
сосредоточиваем наше внимание на различиях, а не на подобиях, и это заставляет нас
чувствовать, что маркёры таких границ обладают особой значимостью,
являются 'священными', 'табуированными' (ср. [Leach, 1964]).
Схема 4
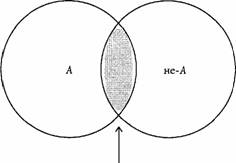
Двойственная пограничная зона, 'священная'
область, подлежащая табу
Пересечение границ и порогов всегда сопряжено
с обрядами, и так же обстоит дело с переходом из одного социального статуса в другой.
В последующих разделах я расскажу о психологических корнях
этих
культурных универсалий и о разнообразии специфических моделей, в которых
указанный общий принцип можно наблюдать (см. особенно: разделы 13д, 16, 17). Здесь
же я хочу затронуть только два
момента. Во-первых, во всех человеческих обществах в подавляющем большинстве
случаев ритуалы - это 'обряды перехода', отмечающие
пересечение границы между одной социальной категорией и другой: наиболее очевидные примеры здесь - ритуалы достижения
половой зрелости, свадебные, погребальные и всякого рода инициационные обряды.
47
Во-вторых, я бы особо подчеркнул, что весь этот процесс дробления внешнего мира
на категории, имеющие названия, а также последующее упорядочение этих категорий в соответствии с нашей социальной потребностью основываются на том, что -
несмотря на весьма ограниченную
способность изменять окружающий мир - мы
обладаем фактически неограниченной способностью манипулировать с его моделью, которую мы носим в голове.
Этот момент уже затрагивался ранее
(раздел 3), когда говорилось о сенсорных образах, но он нуждается в дальнейшем
рассмотрении.
48
Самое время начать убеждать вас, что та весьма
абстрактная, формалистическая аргументация, к которой я до сих пор прибегал, находит практическое
применение, когда речь идет об исследовании этнографических данных, с которыми социальные
антропологи регулярно имеют
дело. В данном разделе я начну действовать в этом направлении.
В разделе 3 уже отмечалось, что многие понятия
представляют собой ментальные аспекты сенсорных образов, которые, в свою очередь, являются культурно обусловленным
ответом на объекты и явления внешнего мира.
Но зачастую данная последовательность строится
по-другому; это значит, что мы можем порождать абстрактные понятия в сознании (например, оппозицию
'хороший/ плохой'), а затем придавать
этим абстракциям форму за счет мысленного перенесения их на внешний мир -
например, оппозиция 'хороший/плохой'
становится оппозицией 'белый/черный'.
Это очень важная часть нормального мышления и счета. Переводя идеи, т. е.
продукты разума, 'ментифакты', в материальные объекты 'вне нас', мы придаем им
относительное постоянство, и в этой постоянной материальной форме можем
подвергнуть их техническим операциям, которые недоступны разуму, если он действует сам по себе. Есть
разница между проведением математических подсчетов 'в уме' и выполнением их с
карандашом и бумагой или с помощью калькулятора.
Для антропологов наиболее важной сферой, где
такого рода материальная символизация очевидна, является религиозный ритуал. Все метафизические сущности сначала
возникают в сознании в виде зачатков понятий;
если же мы намерены полноценно обдумывать идеи, выраженные такими словами, как 'бог' и 'дух', то должны материализовать их. Мы это делаем двумя способами:
а) рассказывая истории (мифы), в
которых метафизические идеи представлены действиями сверхъестественных
существ, преувеличенно неестественных людей и
животных; б) создавая особые материальные объ-
49
екты,
сооружения и пространства, которые служат воплощением метафизических идей и
соответствующей им ментальной среды. Ясно, что пункты а) и 6) взаимозависимы:
каждый из них является метафорой
другого.
Примером рассматриваемого случая служит
крайне сложная идея 'причастия с Господом', представленная в христианской мифологии
новозаветной историей о Тайной вечере. Эта история получает материальное
воплощение в специально предназначенном для того месте у алтарных врат храма всякий раз,
как в любой из ее разнообразных форм проводится литургия (месса).
Это служит иллюстрацией общего процесса, единого для религиозного поведения во
всех человеческих обществах, но процесс этот парадоксален и является постоянным источником
смутного волнения даже для тех, кто принимает участие в обряде. Когда в ритуальном контексте
ритуальные
предметы (распятие, изображение младенца Иисуса, хлеб и вино из обряда причащения)
служат
материальным воплощением божества, они 'заражены' аурой святости, которая
вначале принадлежит лишь метафизическому понятию в сознании. Но названные предметы
продолжают существовать и тогда, когда ритуал, впервые породивший их святость, завершился.
Это могло бы стать проблемой теологического диспута: продолжает ли святость,
свойственная данным предметам в ритуальном контексте, существовать в контексте уже не
ритуальном?
Во время Реформации христиане-протестанты обвиняли
христиан-католиков в идолопоклонстве по причине почитания теми реликвий и изображений святых,
а также из-за сохранения хлеба и вина в литургии.
Зато когда христианские миссионеры сталкиваются с 'примитивной' религией, в
которой места поклонения сооружаются ad hoc и забрасываются сразу
по окончании ритуала, они склонны относиться к этому как к признаку ничтожности
данной религии! Всё потому, что христиане-протестанты и христиане-католики
одинаково
разделяют культурное убеждение, что религиозный ритуал требует постоянной,
специально обустроенной священной среды - церковного здания.
Лингвистические и протолингвистические
проблемы, лежащие в основе такого поведения, коротко затрагивались в разделе 3,
а подразумеваются
уже в разделе 2 (с. 21), где я провожу различие между знаком и символом с точки зрения
'контекста'. Понятие 'контекста', подобно выражению 'семиотическая система',
используе-
50
мому некоторыми другими
авторами [Barthes, 1967; Mulder-Hervey, 1972], боюсь, является излишне туманным, но
его можно разъяснить с помощью примера. Из схемы 2 очевидно, что общая связь
между Z
('объектом или событием во внешнем мире') и X ('понятием в сознании') -
это связь по значению, но так же очевидно, что это значение иного рода, нежели
присутствующее в часто повторяемой формуле вроде 2x2 = 4, где все сущности абстрактны,
или в формуле 'дым является естественным индексом огня', где образы дым и огонь представляют собой
сущности во внешнем мире. В этих двух примерах те объекты, между которыми
прослеживается
связь (в одном случае цифры, в другом - дым и огонь), принадлежат к одному и
тому же контексту. В отличие от этого на схеме 2 имеет место трансформация, при которой наблюдаемая
сущность Z превращается в абстракцию X - или наоборот. То есть X и Z принадлежат разным контекстам.
Позвольте снова напомнить вам все о той же надоевшей схеме 1 и связанных с
ней дефинициях. Речь там шла о том, что если сущности А и В из коммуникативной пары
принадлежат к одному и тому
же контексту, то мы имеем дело со знаками и естественными индексами, а данные отношения являются по преимуществу метонимическими; если же А и В принадлежат
к разным контекстам, то мы
имеем дело с символами, а данные отношения являются по преимуществу метафорическими.
Это
возвращает нас к вопросу, который я затрагивал ранее, в разделе 6, когда речь шла об электровыключателях и колдунах. Суть вопроса состоит в том, что, прибегая к символам (метафорам) - в отличие от сигналов,
естественных индексов и знаков, - мы используем свое воображение, чтобы
связать вместе две сущности или два ряда сущностей (материальных или абстрактных),
которые обычно принадлежат к
совершенно разным контекстам. Например:
(1) 'лев - зверь' -
утверждение, относящееся к обычному нечеловеческому контексту ('в природе');
(2)
'царь
- самый могущественный человек в государстве' -утверждение, относящееся к обычному
человеческому контексту ('в обществе');
(3)
'лев
- царь зверей' - символическое (метафорическое) утверждение. Оно обретает значение путем
соединения 'в сознании' двух контекстов.
51
Метафорическое соединение контекстов такого общего характера свойственно всем
материальным формам выражения религиозных представлений. Например:
(1)
'бог
Шива - источник божественной силы' - утверждение из метафизического контекста;
(2)
'пенис
- источник животной силы' - утверждение из контекста функциональной биологии;
(3)
'лингам - предмет, вырезанный в форме пениса' - утверждение из контекста
физики; оно подразумевает наличие между лингамом и пенисом связи изобразительного
характера;
(4)
в
этом случае известное индуистское высказывание: 'лингам - это бог Шива' -
обретает значение в результате соединения 'в сознании' контекстов (1), (2) и (3).
Не нужно думать, что этим исчерпывается все,
что можно сказать по данному поводу, но где бы идея божества ни была представлена материальным
объектом - будь то лингам, крест, алтарь, 'идол', священная реликвия, священная
книга, храм, - везде имеют место метафорическо-метонимические трансформации, и
такого рода 'сгущения' соответственно 'входят' и в материальные объекты. Очень часто
упомянутые выше символические уравнения бывают чрезвычайно туманными, но независимо от
того, понимают сами верующие данную систему или нет, в их безумии, как
правило, есть свой порядок. Если вы станете заниматься чем-либо систематически,
вы
всегда сумеете в известной степени расшифровать тот код, с которым
столкнулись. В действительности это одна из основных задач социальной антропологии.
Единственное, что оправдывает введение в
данное эссе моего метафорического/метонимического жаргона, - это то, что он делает возможной указанную
частичную дешифровку.
Классическим примером такого рода проблемы служит австралийский тотемизм,
интерпретация которого стала яблоком раздора между антропологами уже с тех пор, как
примерно в середине XIX в. стали появляться первые этнографические сведения о
нем. Тотемизм,
как представляется, подразумевает поклонение отдельным видам растений и
животных. Это кажется абсурдным. Какой должна быть логика мышления, чтобы такое
поведение могло восприниматься как разумное?
Я полагаю, что в данном случае, с точки зрения отдельного члена какой-нибудь австралийской тотемической группы,
метафорические 'сгущения' являются
примерно такими:
52
(1) 'мы все - члены одной
социальной группы, потому что происходим от общего предка' - это исходная идея 'в
сознании';
(2)
точно
так же 'они все - члены одной социальной группы, потому что происходят от общего предка' - это
исходная идея 'в сознании';
(3)
'эти
белые птицы - ястребиные орлы; те черные птицы -вороны' - суть классификационные
утверждения, принадлежащие контексту Природы вне человека;
(4)
''мы"
отличаемся от 'них", как 'ястребиные орлы" отличаются от 'ворон"'
- это простая метафора;
(5)
'мы
- ястребиные орлы, потому что нашим первопредком был ястребиный орел; они - вороны,
потому что их первопредком была ворона' - это 'логическое' следствие сжатия пунктов
(1), (2),(3)
и (4).
Из этого следует, что идеология тотемизма - это прежде всего система социальной классификации. Социальные группы
- каковы они есть в человеческом
обществе - распознаются при помощи такой
аналогии: 'различие между человеческими группами подобно различию между видами животных'. Но подобное
понимание проблемы, детально
разработанное Леви-Стросом [Levi-Strauss, 1962], упускает из виду
наличие здесь религиозной установки. А она требует дополнительного ряда 'сгущений':
(6)
'мы
и они живем обычной жизнью, ограниченной во времени; события происходят одно за
другим; всем живым существам суждено умереть' - данное утверждение выражает
естественный жизненный опыт;
(7)
'если
бы нам не суждено было умереть, события не шли бы одно за другим;
происходящее находилось бы вне времени, как бывает во сне', - это логический вывод
из пункта (6), подразумевающий следующие оппозиции:

53
(8) 'проявляя ритуальное отношение к видам 'ястребиный орел" и
'ворона", 'мы" и 'они", выказываем почтение нашим предкам -
богам, живущим сейчас во Времени сновидений' - это 'сгущение' пунктов
(5), (6) и (7).
Первые зафиксированные этнографические
описания австралийского тотемизма были, как оказалось, очень похожи на эту последнюю
формулу пункта (8).
Хотя я убежден, что все разновидности религиозных
обрядов предполагают
такие множественные 'сгущения', я бы поспешил добавить, что любая процедура
постепенного, шаг за шагом, декодирования (вроде той, что я представил выше)
создает довольно обманчивое впечатление о реально происходящем в коммуникативном процессе.
Поскольку конкретное исследование должно иметь вербальную метонимическую форму,
где одно следует за другим, то общим впечатлением от него будет впечатление о
невероятной сложности и полной бессвязности. Но на деле происходит то, что участники
любого ритуала совместно переживают коммуникативный опыт - одновременно через
множество разных сенсорных каналов; они действуют в соответствии с упорядоченной последовательностью метафорических событий внутри территориального
пространства, которое само было
обустроено так, чтобы обеспечить метафорический контекст данному игровому действию. Вербальное, музыкальное, хореографическое и визуально-эстетическое
измерения - все они, вероятно, должны быть компонентами совокупного послания. Когда мы принимаем участие в таком ритуале, то
получаем все эти послания одновременно,
'сгущая' их в едином опыте, который описывается как 'присутствие на
свадьбе' или 'присутствие на похоронах' и т.
д. Но исследователь принужден брать каждое измерение само по себе, причем по отдельности, и тогда оказывается, что почти невозможно дать действительно убедительное объяснение тому,
каким образом разные, перекрывающие одно другим измерения соединяются
вместе для осуществления единого общего послания.
О том же самом я говорил в разделе 5, когда
отмечал, что, поскольку изложение мифа или исполнение ритуала требует времени, нелегко понять,
что эпизоды, стоящие ближе к началу, могут быть непосредственно связаны с эпизодами,
размещенными ближе к концу. Но сейчас я хочу подчеркнуть еще одну сложность,
54
заключающуюся в том,
что, хотя получатель ритуального послания обретает информацию одновременно посредством
нескольких разных сенсорных каналов, все эти разные ощущения соединяются только в одно
'послание'.
Именно
такого рода 'сгущения' и ассоциации я имею в виду, когда говорю, что исполнение оркестровой музыки в известной степени дает нам полезную условную модель того, что
происходит в ходе любого ритуала.
55
Леви-Строс, который сделал, так много для понимания нами
металингвистических
способов коммуникации, постоянно обращается к структурному сходству между мифом и
музыкой. В знаменитом и - что характерно для него - темном высказывании он
заявил, что
'миф и музыкальное произведение подобны дирижерам оркестров, чья публика
становится молчаливым исполнителем' [Levi-Strauss, 1970, p. 17]. О чем это он?
На одном уровне он просто доказывает, что отправители и получатели посланий,
задействованных в культурной коммуникации, весьма часто одни и те же люди. Когда мы участвуем в ритуале, мы 'говорим' нечто самим себе. Но для разных людей
одна и та же последовательность поведения может означать разные вещи.
Все направления в христианстве, взятые в
целом, обладают одними и теми же мифами, выполняют одни и те же обряды, но
непримиримы в том, что касается значения
этих обрядов.
В рассуждении Леви-Строса между тем существует уровень и гораздо более сложных
музыкальных метафор, чем приведенная выше. Но упрощенная версия может помочь более
четко представить всю предшествующую аргументацию.
Во-первых, позвольте напомнить вам равенства, выведенные в
самом
конце раздела 2. Приблизительно (хотя и не буквально) они таковы:
Символ/Знак = Метафора/Метонимия = Парадигматическая ассоциация/Синтагматическая
цепочка = Гармония/Мелодия. В музыке элементы мелодии (отдельные ноты и фразы,
играемые
последовательно) связываются вместе метонимически, а отношения гармонии,
позволяющие транспонировать мелодическую фразу, исполняемую на одном инструменте, для
другого, - это связи метафорические.
Во-вторых, не забывайте о сверхзадаче данного
исследования. Мы пытаемся
уяснить процесс, посредством которого человеческие существа передают друг другу информацию в виде комбинации вербальных и невербальных средств. В таком анализе
мы непремен-
56
но
начинаем с выделения разнообразных каналов коммуникации, по которым можно
передавать послания, и разнообразных типов ассоциаций, посредством которых можно
комбинировать элементы послания. Однако мы не должны забывать, что в конечном
счете сенсорные впечатления, достигающие получателя (как бы ни была сложна их
структура или как бы ни был туманен и многозначен их смысл), воспринимаются
как единое
сообщение.
Более того, сообщение в целом - хотя на его передачу требуется время - обладает единством. Конец
подразумевается началом; начало предполагает конец. Леви-Строс заметил, что и миф,
и музыка являются 'инструментом для уничтожения времени'; то же самое можно было бы
сказать
и о выстраивании ритуального действия в целом.
Итак, вот моя аналогия, являющаяся модификацией той, что использует
Леви-Строс.
Когда какой-нибудь оркестр исполняет, скажем, симфонию
Бетховена, система коммуникации, возникающая при этом, безусловно, чрезвычайно сложна. В
нее входят следующие элементы:
(1) Имеется 'полная оркестровая партитура', написанная
вначале рукой самого Бетховена,
а впоследствии многократно издававшаяся. Это
материальное выражение музыки, 'услышанной' в форме сенсорных образов 'сознанием' Бетховена, а затем превратившейся в сложную конфигурацию значков на бумаге.
Написанный музыкальный текст
'держится' на двух осях:
а) по горизонтали он читается линейно и
последовательно слева направо и
описывает мелодические фразы (мотивы), предназначенные для определенных инструментов;
б) по вертикали этот текст следует читать синхронно;
он описывает гармонические комбинации
звука - аккорды и фразы, - которые
должны извлекаться разного рода инструментами одновременно. Помимо упомянутых двух основных осей полная партитура содержит разнообразные указания дирижеру
относительно темпа и тональности, что
должно помочь ему в интерпретации
текста.
Музыка как целое делится на 'части', которые соотносятся
друг с
другом эстетически, а не посредством ясно обозначенной связи. Элементы темы из одной
части произведения могут появиться, в прямой или транспонированной форме, в
другой части. Для разбирающегося в музыке слушателя каждая ее фраза, каждая
часть и вся
симфония в целом образуют систему взаимосвязанных элемен-
57
тов. Все исполнение
может занимать час, однако передача послания осуществляется так, как если бы
все произошло одномоментно.
(2)
Помимо
законченной партитуры, в которой музыка записана целиком, имеются еще отдельные
листы партитуры для каждой группы оркестровых инструментов - флейт, гобоев, первой
скрипки,
второй скрипки, духовых, барабанов и т. д. и т. п. Каждая такая партитура относится к
'мелодической' линейной форме (а), приведенной выше. Но звук, производимый одним
инструментом, играющим в отдельности, не создает музыкального смысла. Только когда инструменты
играют в комбинации друг с другом, подчиняясь командам дирижера, подаваемым на языке
жестов, - получается осмысленная музыка.
(3)
Каждый
инструменталист прочитывает свою партитуру глазами. Но затем он превращает
указания, получаемые от письменного текста, в сложные движения рук, пальцев,
губ и т. д. в соответствии с техникой, требуемой для игры на его инструменте.
(4)
Дирижер
действует сходным образом, но ему приходится читать полную оркестровую партитуру
всю сразу. Он должен мыслить в нескольких измерениях одновременно, поддерживая
как линейный
поток общей музыки, разворачивающийся в диахронной последовательности,
так и гармоничное сочетание игры разных инструментов (обеспечивая последнее тем, что
все музыканты 'выдерживают ритм'),
(5)
Сочетание
звуков, производимых в результате этого набора визуальных и мануальных действий,
исходит из оркестра в виде комплекса звуковых волн. В такой форме звуки в
конечном счете достигают ушей слушателей и уже в их сознании вновь становятся впечатлением от
музыки, не полностью (надо надеяться) отличном от 'послания', которое Бетховен
намеревался передать изначально.
Приведенный пример может служить общей
парадигмой для проведения любого ритуала - причем сразу в нескольких измерениях. Во-первых,
слушателей оркестра интересует только то, что делают все инструменталисты и дирижер
вместе. Значение музыки следует искать не в 'мелодиях', издаваемых отдельными
инструментами,
а в сочетании таких мелодий, в их взаимоотношениях и в том, каким образом
отдельные наборы звуков превращаются в разные, но связанные формы.
58
И так обстоит дело с любым 'выражающим' исполнением. В исследовательских целях было бы полезно
(как это сделал я) различать в любой несущей человеческое послание системе по
крайней мере три вида элементов, а именно
сигналы, знаки и символы; но на
практике их всегда смешивают. Знаки переводят в символы, символы - в знаки, знаки и символы 'выдают себя'
за сигналы и т. д.
Однако обратите внимание и на другой аспект этой модели. В обычном культурно обусловленном
ритуальном действе не бывает иного
'композитора', кроме мифологических предков. Действия следуют заведенному
порядку, установленному традицией ('таков наш обычай'). Как правило, при этом бывает 'дирижер', знаток церемоний, верховный
жрец, главное действующее лицо, чьи действия служат временными вехами для всех
остальных участников. Но не бывает отдельной публики, состоящей из слушателей.
Исполнители
и слушатели - одни и те же люди. Мы участвуем в ритуалах для того, чтобы
передать коллективное послание себе же самим.
59
Я только что упомянул, что 'знаки и символы 'выдают
себя" за сигналы'. В разделе 4 я приводил пример, связанный с собакой Павлова, но сейчас
хочу несколько развить эту мысль.
Поскольку сигналы - это часть нашей животной природы, ясно, что они составляют
наиболее важные компоненты нашей коммуникативной системы. Средства культуры, как
бы ни были они сложны, всегда должны строиться на биологическом фундаменте. Однако если
одни сигнальные механизмы (те, что проявляются в физических реакциях человеческого тела) вполне очевидны, то
в отношении других существуют серьезные
разногласия (как и в вопросе о том, где кончается 'инстинкт' и начинается
'культура').
Улыбка, плач, смех - неизменные составляющие привычного детского поведения.
Поцелуй представляется модификацией сосания. Эрекция пениса - реакцией взрослого самца
на разного рода эротические стимулы. Движения глаз и век служат сигналом распознавания объекта.
Гнев, страх, стыд суть описание 'эмоций', являющихся физиологическим отражением физических
реакций, которые, вероятно, общи и для вида в целом.
При соответствующих условиях почти все такие
автоматические реакции могут быть использованы для передачи обусловленных культурой посланий.
Например, в английской традиции плач 'означает' печаль, смех - радость, поцелуй -
любовь. Но эти устоявшиеся в сознании ассоциации не универсальны для человека, и порой
символическое/знаковое содержание какого-либо действия может совершенно
расходиться с тем ответом на сигнал, к которому это действие относилось.
К примеру, обязательный плач очень часто составляет элемент правильного поведения для участников похорон. Но
официальные плакальщики - не
обязательно те, от кого можно ожидать эмоционального заряда. В самом деле, в некоторых случаях 'те, кто плачет' -
это просто нанятые профессионалы, не имеющие никакого отношения к умершему.
Кроме тою, плач и смех могут состав-
60
лять часть одного и
того же контекста; на китайской свадьбе принято, чтобы родственники невесты выказывали
свою потерю слезами, а родственники жениха свою радость - смехом.
Дополнительная сложность здесь состоит в том, что
открытое выражение
эмоций обычно подчиняется строжайшим табу, поэтому то, что демонстрируется,
может совершенно отличаться от реально испытываемых чувств. Более того, сами по
себе чувства могут быть двойственными.
Поразительный пример такого рода дает недавно вышедший этнографический фильм
'Песчаные реки' Роберта Гарднера - о хамар Эфиопии. Основная тема фильма -
чрезмерное экономическое подчинение замужних женщин их мужьям. Подчинению придается символическое
выражение, когда в ходе различных обрядовых действий молодые мужчины с большой
жестокостью секут своих потенциальных жен. Фильм демонстрирует примеры такого избиения,
однако совершенно очевидно, что во всем этом присутствует сильный
садо-мазохистский эротический элемент. Девушки явно испытывают возбуждение от
покорного подчинения грубой силе.
Тот же самый вид двойственности приложим и ко всем физическим реакциям. Все
человеческие существа обладают одним и тем же видом мышц и одним и тем же типом физиологии.
Последовательные
движения конечностей и гримасы, которые мы можем делать сознательно,
являются остатком нашего дочеловеческого эволюционного прошлого, когда то же
самое делалось лишь бессознательно. Всегда, когда для выполнения осознанных жестов мы
используем
части тела, нам неизбежно приходится довольствоваться тем, что мы имеем. Наши
потенциальные движения ограничены нашими биологическими возможностями, так что
любое контролируемое движение (или его отсутствие) до известной степени выглядит как автоматическая
биологическая реакция, т. е. как естественный сигнал. И очевидно, что каждому такому
движению (или его отсутствию) может быть приписано значение. Но так происходит не всегда; и то же
самое касается приписываемого значения.
Например, движения головы часто выражают
'согласие' или 'отказ'. Но
там, где англичанин обычно наклоняет голову вперед, некоторые азиаты откидывают голову назад, тогда как другие качают
головой из стороны в сторону.
Все, что можно сказать по этому поводу, это
то, что если существует особое движение тела, означающее 'да', то всегда будет ка-
61
кое-то
другое, более или менее сходное движение, означающее 'нет' (например, в
английском контексте: кивать головой означает 'да'; покачивать ею из стороны в
сторону - 'нет'). Но есть и два более широких вывода, которые можно сделать
из анализа биологических корней потенциального телесного символизма.
Во-первых, любую мышцу, которую можно напрячь, можно также и расслабить; все движения потенциально
бинарны; если я шагаю вперед, то могу сделать и шаг назад.
Во-вторых, человеческое тело не вполне симметрично. Если
пупок -
это центр, то руки 'противостоят' ногам, гениталии 'противостоят' голове, левая
сторона 'противостоит' правой. Но эти пары внутренне контрастны, а не идентичны; я не могу
надеть правую перчатку на левую руку. Верхняя и нижняя части тела, правая и левая стороны поэтому
особенно удобны для демонстрации связанных, но противоположных понятий, например хороший /плохой; и это действительно
используется, хотя и не универсально.
Все
это еще раз иллюстрирует тот основной принцип, к которому я постоянно возвращаюсь. Индексы в невербальных коммуникативных системах,
подобно звуковым элементам в устной речи, имеют значение не тогда, когда
выступают изолированно, а только когда они - члены одного ряда.
Знак или символ только тогда приобретает значение, когда его отделяют
от какого-то другого, противоположного знака или символа.
62
Одним из примеров общего принципа, сформулированного в конце раздела 10,
служит обычная карта, выпускаемая государственной топографической службой.
В терминах раздела 2 карта - если брать ее в целом - представляет собой изображение. Она является
метафорическим описанием местности и использует разнообразные средства
'заданного сходства', например: 'изгиб дороги' соответствует 'изгибу линии' на карте.
Однако такого рода карта является, кроме
того, и метафорическим образом времени. Я могу воспользоваться ею для разработки маршрута не только
потому, что она предоставляет мне перечень мест, которые нужно пройти, дабы попасть из
точки А в точку В, но и потому, что я могу подсчитать, чему равен отрезок
времени, которое я затрачу в
процессе прохождения маршрута.
В этом смысле каждую карту надо рассматривать как единое целое; однако
интерпретировать карту как целое можно, только если мы сперва познакомимся с
общепринятым значением нескольких дюжин условных знаков, образующих на бумаге
определенные
конфигурации.
Все это - сложный процесс, а если учесть, что
отдельные знаки не организованы в линейную последовательность, наподобие
отдельных
букв в типографском оттиске, который вы сейчас читаете, или наподобие нот в
музыкальной партитуре, то может показаться довольно удивительным, что мы вообще
способны прочитывать карту. Тем не менее составление карты и прочитывание ее в двух
измерениях
почти универсально для человечества, тогда как чтение и написание линейных
текстов - это специфическое достижение, ассоциируемое с высокой социальной и технической
изощренностью.
Объяснение этого кажущегося парадокса - в том, о чем уже
говорилось
в разделе 7. Окружающая нас целостная социальная среда подобна карте.
63
Всегда, когда человеческие существа строят жилище или основывают поселение, они делают это геометрически
правильным образом. Представляется, что это
так же естественно для Человека, как и
его способность к языку. Мы нуждаемся в упорядоченности окружающего
пространства.
Эта разница между человеческой Культурой и
Природой очень заметна. Видимая нами дикая Природа представляет собой беспорядочное пересечение
хаотичных кривых; в ней нет прямых линий и мало каких бы то ни было правильных
геометрических форм. А рукотворный, созданный человеком мир Культуры полон
прямых линий,
прямоугольников, треугольников, кругов и т. д.
Следовательно, сам по себе контраст между 'рукотворной
'геометрической" топографией' и 'хаотичной природной топографией' является
метонимическим знаком более широкого общего контраста между Культурой и Природой.
Однако упорядоченность человеческой культуры - это не просто статичное
топографическое расположение рукотворных предметов, это и динамичная
последовательность сегментированных, ограниченных во времени явлений, каждое из
которых связано с определенной местностью в преобразованном человеком
пространстве. Сон, умывание, приготовление и поедание пищи, работа. . .
являются не
только социально детерминированными действиями, происходящими в разное время в
предсказуемом порядке, это еще и действия, осуществляемые в разных местах, соотносящихся
друг с другом в предсказуемых конфигурациях. Каждое место обладает специфической функцией,
которую защищает табу; дефекация на кухне столь же кощунственна, как и приготовление
еды в ванной комнате.
Все это связано с рядом терминологических разграничений,
которые
были проведены ранее.
В начале раздела 2 я разграничивал технические
действия (сделанное) и 'выражающие' действия (сказанное), а позднее, в разделах 4 и 6, разграничивая сигнал и индекс, я
отметил, что:
а) индексы статичны, сигналы динамичны;
б) сигналы всегда подразумевают
последовательность причины и следствия
во времени, тогда как индексы
- несмотря на то что для их передачи может потребоваться время - связаны с
посланиями, не имеющими временного
измерения;
в) магические
действия суть индексы, принимающие вид сигналов (потому что претендуют на роль
автоматических причинно-следственных механизмов).
64
Но технические действия точно так же являются 'последовательностями причины и
следствия во времени', и - как стало ясно из моего описания взглядов Фрэзера на
магию (раздел 6) - очень легко ошибочно принять 'выражающее' магическое действие,
приобретшее вид сигнала, за техническое действие.
Из этого следуют определенные выводы. Материальные топографические черты пространства (как рукотворные,
так и природные) - т. е. постройки,
тропинки, леса, реки, мосты и т. п. , - где происходят ритуальные действа, создают конфигурацию индексов для таких
метафизических разграничений, как: этот мир/мир иной; мирской/священный;
низкий статус/высокий статус; обычный/необычный; живой/мертвый; бессильный/могучий.
Но сами по себе ритуальные действия,
являющиеся динамичными, нужно рассматривать как сигналы, которые автоматически вызывают изменения в
(метафизическом) состоянии мира.
В подобных действиях движение индивидов из одного физического места в другое
и последовательность, в которой подобные движения совершаются, сами по себе являются
частью послания; они суть непосредственные образы происходящих 'перемен в метафизическом
состоянии'.
Последовательность действий может составить
часть послания отнюдь не единственным способом, и один такой очевидный и возможный способ - в том, чтобы
последовательность превратилась в иерархию:
например, когда человек, возглавляющий процессию, одновременно является главным лицом и в системе
социальных рангов. Однако метафоры
ранжированной системы не всегда столь просты.
65
Любая классификация, при которой классы выстраиваются в последовательность 1,
2, 3. . . , подразумевает потенциальную ранжи-рованность понятий. Первый Класс не
просто отличен от Второго Класса,
он - лучше его.
Мы проводим такого рода качественные различия везде, где только можно. X может отличаться от Y в силу
того, что он 'лучше', 'больше', 'быстрее',
'дороже', 'могущественнее', 'старше' и т. д. и т. п. В таких высказываниях о качестве трудно бывает решить, где кончается простое описание и начинается
символическое высказывание. Если на Новой Гвинее антропологу скажут, что
'такой-то - большой человек', должен ли
исследователь сделать вывод, что 'такой-то'
- физически крупный и мощный человек, или что он - политический лидер, или - и то и другое вместе.
Метафоры, характеризующие качество, не
являются для человека универсалиями, но они часто очень похожи (например, в двух
культурных
контекстах). Политически более влиятельные лица считаются 'выше' остальных и
потому сидят 'выше'. Но сидеть 'выше' может означать, что стул находится на
помосте, а может - что стул приставлен к одному концу стола, а не к другому.
Этикет может требовать, чтобы лица 'низкого' статуса
падали ниц
или склоняли голову в присутствии тех, кто выше их; но равным образом он может
требовать, чтобы 'низшие' вставали, когда 'высшие' садятся. Все такие перестановки используют в качестве метафоры одну и ту же схему разделения на
'верх/низ', но предсказать заранее,
какой будет модель всей системы, невозможно. Точно так же порядок, в котором индивиды движутся в церемониальной процессии, почти всегда содержит знание об
их относительном статусе, только в одних процессиях лица наивысшего ранга находятся впереди, а в других они - сзади.
С таким кодированием связано осознание симметрии
и асимметрии
человеческого тела и топографического пространства. Моя левая рука и похожа, и
не похожа на мою правую руку; 'север/юг' как 'неподвижная' ось внешнего мира и похожа,
и не похожа на
66
'смещающуюся'
ось 'восток/запад', которая дает дорогу небесным телам. Когда такое представление
становится метафорой, и астрономия, и человеческая судьба, и выстраивание общества
оказываются частью единого комплекса.
Когда природная местность не может дать какого-то видимого
центра,
с которым увязывалось бы все остальное, культура способна легко найти замену.
Например, большая часть Монголии - это безликая равнина; круглые войлочные юрты ее
обитателей представляют собой мобильные, легко разбираемые конструкции. По
традиции
каждая юрта своим входом точно ориентирована на юг. Пространство внутри юрты
поделено и образует сложную сетку - 'восток/запад', 'север/юг', - так что в каждой
части палатки осуществлялась деятельность точно предсказуемого характера: социальная, техническая
или ритуальная.
Жесткость данной модели, согласно которой ранг, статус и
пол индивида
точно определяют пространство, которое он или она могут занимать, была
отмечена европейскими путешественниками еще в XIII в. , и с некоторыми
модификациями эта система продолжает действовать даже сегодня (например, в условиях
советского режима). Если мы спросим: 'Почему же люди поступают подобным образом?' - то ответить
можно, что все человеческие существа имеют глубокую психологическую потребность в
чувстве защищенности, а это чувство приходит, когда знаешь, где ты находишься. Между тем 'знание
того, где ты находишься' есть вопрос осознания своего социального, равно как и
территориального положения.
Поэтому 'карты социального пространства' мы создаем,
используя
в качестве модели пространство территориальное. Если это происходит, то чем
однообразнее контекст реального территориального пространства, тем более
жесткой и искусственной оказывается модель.
Символика, связанная с ориентацией,
сравнительно больше других всегда привлекавшая к себе внимание, - это такая
символика, в соответствии с
которой левая рука - 'дурная', 'неловкая', в некотором смысле 'анормальная', 'злая', 'грязная' (но также, возможно, и 'священная'), тогда как правая рука -
'справедливая', 'правильная', 'нормальная', 'мирская' (см. [Right and Left, 1973]). Разграничения такого
рода, конечно, очень распространены, но излишне упрощенные выводы на этот счет следует
применять с осторожностью. Политически 'левый' представляется 'дурным', только если ваши собственные
политические пристрастия находятся 'справа'. И все еще есть страны, вроде моей
собственной, где прав тот, кто едет, придерживаясь левой стороны!
67
В разделе 2 я предположил, что 'все разнообразные
невербальные
параметры культуры. . . организованы в модельные конфигурации так, чтобы
включать закодированную информацию. . . ' (с. 17); я многократно высказывал
предположение о прямой аналогии, например, между культурными правилами, регулирующими
ношение одежды, и грамматическими и фонологическими правилами, регулирующими модели
речевых высказываний. В частности, я повторял лейтмотив, воспроизведенный в
конце раздела 10: 'знак или символ обретает значение только тогда, когда его отделяют от какого-то другого, противоположного знака или символа', и 'они имеют
значение не тогда, когда выступают
изолированно, а только когда они - члены одного ряда'.
Теперь я рассмотрю несколько практических (хотя и весьма
поверхностных) примеров этой формулы чуть более подробно. Хочу только уточнить:
примеры эти рассматриваются лишь как приблизительная иллюстрация того, о чем я говорил.
Прочтите во Введении еще раз слова, касающиеся этнографических фактов. Если вы хотите понять
реальную силу этой аргументации, вам нужно отыскать для себя примеры посложнее.
а) Одежда
Взятые вне контекста, предметы одежды лишены
'значения'; их можно сложить в ящик стола подобно отдельным буквам (которые наборщик использует
для изготовления оттиска), но, будучи соединены в особый костюм (униформу), они
превращаются в разнообразные маркёры специфических социальных ролей в
специфических социальных контекстах. Мужчина, и женщина, младенец, ребенок и взрослый, хозяин и
слуга, невеста и вдова, солдат, полицейский, судья Верховного суда - все они
немедленно распознаются по своей одежде.
Большая часть таких ролей непостоянна, и, как
мы видели в разделе 7, наше последовательное продвижение в обществе от ста-
68
туса к статусу
происходит в виде ряда отдельных скачков. И очень часто такие изменения
статуса мы отмечаем изменениями в одежде. Тот способ, которым осуществляются
подобные изменения, имеет большое значение для моей темы.
Общая теория обрядов перехода (rites de passage*), отмечающих пересечение
индивидами социальных границ, будет рассмотрена ниже, в разделе 17. Здесь же я только
хочу отметить, что в начале такого
обряда все его участники почти всегда 'одеваются
соответственно случаю', т. е. они с самого
начала используют необычную одежду,
чтобы зримо подчеркнуть существование социальных границ ('значимый контекст'). После этого инициируемые, претерпевающие по ходу обряда
изменение своего статуса, либо снимают прежний наряд, либо надевают особую одежду, желая
зафиксировать произошедшее изменение.
Если
такого рода причудливое поведение, связанное с ношением одежды, призвано нести значимую информацию, то одежда, о которой идет речь, должна быть достаточно стандартной
и легко распознаваемой. Но если уж
особый костюм начинает привычно ассоциироваться с особым обрядом или особой
социальной функцией, связанной с этим
обрядом, то тогда любая характерная деталь данного костюма может быть
использована в качестве метонимического знака данного обряда или функции.
Я уже приводил несколько примеров: 'корона замещает короля', 'митра замещает
епископа'. Но когда одежда служит меткой ее носителя, она не только говорит о том, кто
он есть, но и - косвенно - говорит о том, кем он не является. Когда одежда очень похожа, но различается
одной-единственной особенностью, то тем самым выявляется разновидность бинарности:
невеста/вдова - белое/черное.
А вот более обыденный пример такого же
использования костюма, демонстрирующий заключенный в нем логический принцип.
До самого недавнего времени общепринятой практикой в определенных слоях
современного английского общества было проставлять на пригласительных открытках на
вечерний званый обед то или иное из трех принятых указаний. 'Белый галстук'
означал 'очень
официально'. От мужчин требовалось, чтобы они были одеты в туго
накрахмаленную белую сорочку, белый галстук и черный фрак, хотя
высокопоставленные персоны, такие, как епископы, могли надевать и более роскошное платье.
'Черный галстук' означал 'полуофициально'.
Мужчины должны были быть одеты в смокинг с
69
'мягкой' рубашкой и галстуком-бабочкой любого фасона. Он
никогда не бывал белым, но не должен был быть и черным! Пометка 'Одежда -
неофициальная' означала буквально то, что и было написано.
Пригласительным
открыткам, таким образом, удавалось весьма скупыми средствами передать
существенное количество социально значимой информации. Вся информация
укладывается в два различения:
(1) БЕЛОЕ / не БЕЛОЕ; (2)
ГАЛСТУК-БАБОЧКА / не ГАЛСТУК-БАБОЧКА
Схема 5

Такие передающие послание системы действуют следующим
образом. Прежде всего нам необходимо заранее знать, какие параметры здесь
присутствуют, т. е. о чем это послание. В данном случае речь идет об
'официальности'.
Затем, если у нас есть два индекса, Р и Q, которые составляют часть некоего ряда, мы
можем сначала задать себе вопрос: входят ли Р и Q в одну и ту же категорию (относительно
данного параметра) или нет? Существуют два возможных ответа: либо Р = Q, либо Р≠Q.
Если
Р ≠ Q, мы можем продолжить задавать вопросы, например: относительно данною параметра Р больше, чем Q, или нет? Опять есть только два
возможных ответа. И т. д.
Компьютеры действуют именно по этому принципу.
Вся информация обрабатывается путем постановки череды вопросов, на которые
существует только два возможных ответа: ДА/НЕТ. Если у вас достаточно
времени и есть необходимое оборудование, вы можете решить почти любую логическую
проблему, проделав нужное число раз указанную 'щелкающую' процедуру.
70
Человеческий мозг - это не компьютер, и человеческое мышление невозможно
исследовать как компьютерную программу. Тем не менее в некоторых отношениях и в
некоторых обстоятельствах результаты
'выражающего' действия (например, последовательность ритуальных эпизодов, мифологические тексты, стихотворения, музыкальные партитуры, художественные формы)
обнаруживают заметное модельное
сходство с тем, что делает компьютер, и когда мы пытаемся расшифровать такие, содержащие послание, системы, мы обычно обнаруживаем, что бинарные различения
типа ДА/НЕТ в них весьма наглядны. И
действительно, как показывает мой пример
с невестами и вдовами, модель, изображенная на схеме 5, носит более общий характер.
б) Цветовая
символика
Человеческие
существа приспособлены к тому, чтобы различать широкий цветовой спектр, но, поскольку не различающие цвета люди не испытывают особенно серьезных затруднений,
а большая часть цветов, которые мы
можем различить, встречается в природе
очень редко, - то точная функция нашего цветовосприятия неясна.
Мы обладаем прямыми сигнальными реакциями на
свет и темноту,
например, глаз сам приспосабливается к тому, чтобы 'видеть во мраке'. Но те виды
деятельности, которые мы считаем наиболее подходящими для темноты (например, сон,
любовные утехи [?]), определяются культурой, а не природой.
Возможно, опыт раннего детства может 'отпечатать' определенные эмоциональные
установки на определенные цвета. Молоко и сперма - белые, кровь - красная, экскременты
- коричневые. И кровь, и экскременты со временем становятся черными. Эти телесные
продукты имеют личностное значение для каждого индивида, и все они
представляют собой элементы, постоянно возникающие при символическом кодировании
цветовых различий. Но, похоже, тут нет каких-либо универсалий. Конечно, очень
распространено
мнение, что красный цвет воспринимается как знак опасности, что может вытекать из
формулы 'красный цвет = кровь'. Но красный цвет также довольно часто
ассоциируется с радостью, что может проистекать из формулы 'красный цвет =
кровь = жизнь'. Аналогичным образом существует много цепочек ассоциаций, в соответствии с которыми:
'белое/черное' = 'хорошее/плохое', одна-
71
ко иногда 'черное -
это красивое'. Например, у лоло Западного Китая аристократы отличались от
зависимых простолюдинов как 'люди черной кости' от 'людей белой кости', а не
наоборот.
Поскольку цвет видимого нами тела может быть
быстро изменен с помощью одежды или краски и поскольку такое изменение носит лишь временный
характер, цвет представляет собой очень удобный маркёр ролевой перестановки и часто
используется в этом качестве. Например, европейские христиане, и в частности
католики, используют
следующие формулы:
обычные миряне, занимающиеся мирской
деятельностью, - одежда, цвет которой не важен;
священники, занимающиеся мирской деятельностью, - черные одеяния;
священники, совершающие религиозные обряды, -
белые одеяния;
невеста (т. е. женщина, вступающая в брак) -
белое платье с вуалью;
вдова (т. е. женщина, выходящая из брака) - черное платье
с вуалью.
Ясно, что эти послания 'говорят' о святости и
чистоте. Цветовые различия можно показать, используя предыдущую схему 5.
Схема 6
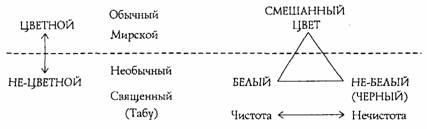
Такие же различения могут появляться и в
других культурах, и даже в том же социальном контексте, только они будут по-иному организованы.
Например, в традиционном Китае невеста была одета в ярко-красное и зеленое, вдова
одевалась, используя небеленую пеньковую ткань, а замужняя простолюдинка из рабочих - в
одежду
темно-синего цвета (индиго). На Тробрианских островах в Меланезии, по
свидетельству Малиновского, невеста надевала юбку из
72
травы, раскрашенной в
яркие цвета, вдова - травяную юбку, зачерненную сажей, а замужняя простолюдинка -
скромную небеленую юбку, ничем не окрашенную. В каждом случае интерпретировать нужно именно набор противопоставляемых
цветов, а не использование
отдельного цвета.
Еще один пример: желтое свободное одеяние и бритая голова
буддийского
монаха намеренно контрастируют с белым свободным одеянием и частично обритой головой
жреца-брахмана, а оба они резко отличаются от индийского заклинателя духов, с его
покрытым пеплом
телом и длинными волосами.
И вновь наиболее общее правило состоит в том, что символы
существуют
в конфигурациях и что значение отдельных символов следует искать в их
противопоставлении другим символам, а не в самом символе как таковом. Однако очередная
проблема заключается в том, что отдельные символы содержат пласты значений, которые зависят от того, что чему
противопоставляется. Взять случай с использованием
небеленой пеньковой ткани в китайском трауре первой степени. В качестве одежды
вдовы она резко контрастирует с
веселыми цветами, свойственными свадьбе; в качестве одежды мужчины или женщины на похоронах она - часть
разработанного свода правил, делящего
всех родственников покойника на группы с разным статусом [Wolf, 1970].
Поскольку все объекты видимого внешнего мира обладают атрибутом цвета, цветовые
различия всегда представляют собой удобное средство для классификации. Но в
какой-нибудь один цветовой класс обычно попадает безграничное разнообразие
вещей, поэтому социальные метафоры цвета всегда потенциально многозначны. Даже когда очевидно,
что цвет имеет символическое значение, мы никогда не можем быть уверены, каково оно.
Каждый случай должен быть исследован в его специфическом контексте.
Виктор Тернер, предпринявший широкое исследование цветовой символики у ндембу
Центральной Африки [Turner, 1967], демонстрирует это с большими подробностями.
Ниже приводится пример, связанный с тем, о чем только что говорилось.
В соответствии с традицией, записанной в
буддийских священных текстах, одеяния монахов - желтого цвета (а не красного или, скажем, зеленого),
чтобы напоминать тем, кто их носит, что Будда учил своих последователей вести жизнь
такой крайней бедности, что они должны были одеваться исключительно в лохмотья,
снятые
73
с
покойников. Здесь перед нами ассоциация 'желтый цвет = смерть', и существует
много других ситуаций, в которых монах на буддийском Цейлоне воспринимается как 'символ
смерти'.
Но в важной ежегодной церемонии, известной как kathina, когда верующие дарят
монахам новые одеяния, имеет место очевидная традиционная связь между желтым цветом
одежд и желтым цветом спелого
риса. В этом случае на первый взгляд могло бы показаться, что 'желтый цвет = жизнь', и kathina - это, конечно,
радостное, а не печальное торжество. По-моему, такая интерпретация подтверждается,
когда мы узнаем, что и термин dhātu означает одновременно
и семена злаков, и человеческое семя, аналогично латинскому semen.
Однако эта последняя ассоциация, в свою
очередь, двойственна, поскольку третье значение термина dhātu - 'костные останки умершего монаха', так
что мы опять приходим к буддийскому теологическому взгляду на 'жизнь/смерть' как
на их чередование и к доктрине переселения душ. Аналогия здесь такова: будущее искупление берет начало
от захороненных останков, подобно тому как будущий урожай берет начало от захороненного
семени злака.
Мы здесь далеко ушли от цветовой символики, но вопрос о
выборе значения при работе с многозначными референтами иллюстрирует общий принцип.
В социальных и особенно в религиозных контекстах практически не бывает такого,
чтобы коммуникативные пары (А замещает В) могли быть прямо и однозначно
интерпретированы. А начинает свой путь как зачаточное метафизическое понятие в
сознании (с. 48); оно обретает явственную физическую форму через создание образа
(как это описано в разделе 8). Однако на этой стадии явственная форма устойчиво
связывается посредством метонимии и метафоры с целой чередой дополнительных
значений, которые
могут быть (а могут и не быть) релевантны для общего значения, социального или теологического.
в) Приготовление пищи
Человеческие существа, подобно остальным животным, способны питаться сырой
пищей, и отчасти они так и поступают. Но, кроме того, они еще и готовят себе еду,
причем готовят и употребляют самыми разнообразными способами. Проявив завидную
проницательность, Леви-Строс обнаружил, что такое поведение является 'выражающим' не
менее, чем техническим. Прежде всего он
74
считает,
что мы готовим пищу, дабы показать, что мы - цивилизованные люди, а не
дикие животные, и кроме того, что мы различаем типы обработки и приготовления еды как
маркёры социальных ситуаций (в соответствии с системой бинарного кодирования). 'Кулинарный
треугольник' Леви-Строса относится к тому же общему типу, что и показанный на схеме
5, хотя первый гораздо сложнее. За более детальным разъяснением читателю
следует обратиться к рассказу самого Леви-Строса, который присутствует в нескольких местах его
книги [Levi-Strauss, 19666], или же к сделанному мной краткому
изложению его рассказа [Leach, 1970]. В реальной жизни
кодирование, возможно, имеет менее универсальный характер, чем Леви-Строс,
по-видимому, первоначально полагал, но определенно 'что-то в этом есть'. Мы действительно используем различные виды пищи и
питья, специально обработанные и приготовленные, как типовые маркёры особых
социальных ситуаций, и тот способ, каким это делается в рамках какого-либо
единичного
культурного контекста, воспроизводится, несомненно, систематически.
Почти любой вид обряда, где бы он ни происходил, в
какой-то момент
предполагает еду и/или питье, причем характер еды и питья здесь отнюдь не
случаен. Живые съедобные животные, мертвые съедобные животные, приготовленная без огня
пища, приготовленная на огне пища - это важнейшие компоненты почти всякой системы
предписанного ритуалом обмена подарками. Особая еда, такая, как 'свадебный
пирог' или 'жареная индейка с клюквенным соусом', обладает и особыми, легко
распознаваемыми ассоциациями со специфическими обстоятельствами.
Все это совершенно очевидно следует из
любого добросовестного анализа любого подробного этнографического текста. Вклад
же Леви-Строса состоит в
предположении, что такие бинарные оппозиции,
как 'сырое/обработанное', 'обработанное/протухшее', 'жареное/вареное', 'вареное/копченое', составляют
отдельные элементы кода и используются
в этом качестве в ритуальном действе и
в мифологии. Спорным остается вопрос, всегда ли это так, но то, что иногда это несомненно так, Леви-Строс
убедительно показал. Это - один из
способов, посредством которых мы можем материально воплотить зачаточные идеи,
присутствующие в нашем сознании, и, когда это вами осознается, моделирование пищевого поведения во
всех его аспектах становится по-новому интересным.
75
г) Телесные повреждения
Изменения социального статуса очень часто отмечаются телесными повреждениями.
Наиболее распространенными являются обрезание у мужчин, усечение клитора у женщин,
обривание головы, удаление зубов, нанесение ран и порезов, татуирование,
протыкание ушей.
В определенном плане такие обычаи имеют тот же смысл, что
и изменение
одежды: новый видимый всем внешний облик является меткой нового
социального статуса. Из того, что было перечислено выше, обривание головы
имеет ту специфическую особенность, что оно обратимо: волосы опять вырастут
после того, как они были срезаны, так что они особенно подходят в качестве метафоры
переворачивания
социального времени, что предусматривается обрядами перехода (раздел 7).
Например, вдова может обрить себе голову, вступая в состояние траура, и позволить
волосам отрасти снова, когда она возвращается к обычной жизни. Необратимые телесные
повреждения,
напротив, больше подходят для того, чтобы помечать долговременные стадии в
социальном взрослении: к примеру, необрезанный мужчина в социальном смысле
является ребенком, а обрезанный мужчина в социальном смысле является взрослым.
Большинство повреждений направлены на удаление определенной части пограничных
зон тела - крайней плоти, клитора, волос, зубов и т. д. ; такой обряд удаления очень
часто рассматривается как обряд очищения. Логика ситуации здесь связана с тем,
что говорилось
ранее о двойственности границ и их связи с табу (раздел 7).
Мэри Дуглас четко резюмировала свою аргументацию в афоризме: 'Грязь - это
вещество не на своем месте'. Земля в огороде - это именно земля; это обычное вещество на
своем обычном месте. Земля в кухне - это грязь; это - вещество не на своем месте. Чем определеннее
мы обозначаем наши границы, тем ощутимее для нас грязь, каким-то образом попавшая не
на ту сторону границы. Границы становятся грязными по определению, и мы тратим немалые усилия на то,
чтобы содержать их в чистоте, именно для того, чтобы иметь возможность утверждаться в
собственной категориальной системе.
И археология, и сравнительная этнография
очень ясно показывают, что на всем протяжении истории и по всему миру человеческие общества всех
видов придают огромное обрядовое значение
76
дверным
порогам и воротам. Военные аспекты этой проблемы весьма несущественны; осмысление места
входа имеет социально-психологическую природу. Люди движутся через порог туда и
обратно,
но для нашей моральной безопасности главное, чтобы это не привело к путанице в
различении того, что внутри, и того, что снаружи. Должен существовать
физический разрыв непрерывности, отчетливый и зловещий.
Однако те принципы, которые здесь относятся к
территориальному пространству, равным образом относятся и к пространству социальному, а также
к социальному времени.
Когда мы проводим социальное различие между
ребенком и взрослым, то граница имеет искусственный характер; биологической точки разрыва не
существует, так что мы должны установить ее сами. Акт насилия, нанесение физических
повреждений отмечают точку разрыва, порог, место входа. Поэтому логичным
становится заявлять, что все, что будет таким образом удалено из тела, есть 'вещество не на своем
месте', что это грязь. Посредством ее удаления чистота наших социальных
категорий сохраняется, подвергшееся повреждению тело очищается.
Оппозиция 'чистый/грязный' имеет глубокие психологические
корни. Каждый ребенок, когда он осознает свое 'я', неизбежно задается вопросом:
'Что я такое?', 'Где граница меня?' Выделения человеческого тела представляют собой
особую трудность. 'Являются ли мои экскременты, моя моча, моя сперма, мой пот
частью меня, или же они не есть часть меня?' По аналогии с тем, что я только что сказал, отверстия человеческого
тела представляют собой ворота, а все
выделения являются 'веществом не на своем месте', подобно побочным продуктам нанесения ритуальных
повреждений. Поэтому логически они
должны стать средоточием табу. В действительности так оно и есть. В большинстве обществ, как и в нашем собственном, телесные продукты - такие, как те, что
я перечислил, - являются типичной
'грязью'.
Но в таких формулировках заключен парадокс.
Индивиды не живут в обществе изолированно, с четко очерченными личными границами; они
существуют как индивиды, организованные в сообщество посредством отношений силы и
доминирования. Сила в этом смысле присутствует во взаимосвязях между индивидами,
причем в
двойственных границах. Логический парадокс состоит в следующем: а) я могу быть
полностью уверен в том, что я собой представляю, только если я очищу себя от всей
пограничной грязи,
77
б) но
полностью чистое 'я', без пограничной грязи, не будет иметь взаимоотношений с
внешним миром или с другими индивидами. Такое 'я' будет свободно от доминирования со
стороны других, но будет, в свою очередь, полностью бессильным. Выводом является оппозиция:
чистый/грязный = бессилие/сила,
и, следовательно, сила помещается в
грязи.
Этот парадокс лежит в основе широкого спектра
разнообразных религиозных обрядов, а также в основе тенденции, которую мы встречаем повсюду, -
тенденции к тому, чтобы святость приписывалась и аскетическому, и
экстатическому поведению. Данное различение рассматривается ниже, в разделе 16.
д) Шум и тишина
Приведенные выше рассуждения о грязи и силе
телесных выделений имеют значение для понимания нами ритуальной ценности шума. Звуки, издаваемые бессловесным
младенцем, - плач, лепет и прежде всего звук испускаемых ветров - представляют
собой разновидности выделений; они исходят
изнутри тела и завершаются вне его.
Они являются выраженным средоточием табу.
Такого рода звуки являются частью Природы и служат обозначению границы между
'мной' и внешним миром. Поэтому представляется значимым, что Культура постоянно использует искусственный шум все с той же целью маркирования границы.
Барабанный бой, звуки духовых
инструментов, лязганье медных тарелок,
пальба из ружей и хлопанье шутих, звон колоколов, организованные приветственные
крики и т. д. - все это постоянно используется в качестве маркёров временных и пространственных границ, но границы эти являются метафизическими, как,
впрочем, и физическими.
Сигналы трубы и колокольный звон отмечают
часовые промежутки в течение дня; звуки фанфар знаменуют появление важных персон; ружейные
выстрелы и треск хлопушек - типичные маркёры похоронных процессий и свадеб; конец
времен должен быть провозглашен
Последним Трубным гласом; гром - это голос Бога. Таким образом:
шум/тишина =
священное/профанное.
78
Общие формулы такого рода ставят проблему человеческих универсалий. Существуют
ли какие-то внешние черты культуры, которые встречаются повсюду? Я подозреваю, что
ответом на этот вопрос будет 'нет'. Даже при том что некоторые структурированные отношения
между культурными элементами являются весьма распространенными, всегда, вероятно,
должны существовать особые случаи, когда значения оказываются перевернутыми. К
примеру, Бауман
[Bauman, 1974] отмечал, что фундаментальным догматом квакерской теологии
является то, что Бог вступает в непосредственный контакт с каждым благочестивым
человеком, который готов сидеть в тишине и ждать божественного вдохновения.
Поэтому в случае
с квакерами:
тишина/шум =
свяшенное/профанное.
Положение, которое я только что отметил, имеет отношение
ко всем
проявлениям бинарного кодирования, упомянутым в этом разделе. Любой 'бит'
культурной информации, которая передается бинарной противоположностью Х/Y (например,
'белое/черное'), может точно так же легко быть передан бинарной противоположностью Y/Х ('черное/белое'), а
поскольку все метафорические ассоциации в конечном счете произвольны, то всегда вероятно,
что любая
конкретная значимая противоположность, существующая в одном этнографическом
контексте, обнаружится в другом контексте в перевернутом виде.
Такие перевертывания могут сами по себе обладать значимостью. Местный обычай
довольно часто строится не просто на основе того, что 'мы, народ X, делаем все иначе,
чем они, народ Y', а по принципу
'наши, народа X, обычаи - правильные; обычаи отвратительного народа У с той стороны долины - ясное
дело, варварские, они все делают
задом наперед!'.
Вопрос о том, сжигает конкретное племенное
сообщество своих покойников или хоронит, круглые у них дома или прямоугольные, может порой не иметь
иного функционального объяснения кроме того, что народ, о котором идет речь, хочет
показать, что он отличается от своих соседей, живущих дальше по дороге, и
превосходит их. В свою очередь, эти соседи, обычаи которых прямо противоположны, также убеждены
в том, что их способ делать что бы то ни было - правильный и наилучший. Чем больше
сходства между двумя общинами в способах культурного моделирования в целом,
79
тем более важное
значение придается самым ничтожным проявлениям противоположности между ними.
Англоязычные американцы и англичане, вероятно, будут в состоянии привести дюжину
подходящих
примеров. Что следует делать с ножом и вилкой после еды, зависит не только от
того, находитесь вы в Англии, Франции или Соединенных Штатах: если вы делаете это
неправильно, то проявляете
'дурные манеры'!
80
Новички в этой тематике часто бывают озадачены и удручены тем, какое огромное
место отводят авторы монографий по социальной антропологии детальному описанию и анализу
терминологий родства и брачных правил. Вряд ли большинство упомянутых авторов смогли бы без
труда объяснить, почему они так поступают, тем не менее антропологическое изучение
родства в таком ключе, безусловно, самым непосредственным образом касается темы
данного эссе.
Во-первых, и термины родства, и установленные брачные
правила составляют различающиеся 'комплексы' метонимически связанных культурных
единиц наподобие отдельных предметов одежды, составляющих конкретный костюм. К тому
же, обращаясь к этнографической карте, мы очень часто видим, что соседствующие
общины со сходной в основных параметрах культурой практикуют поразительно
несхожие обычаи в том, что касается классификации родства. Тот
семиотический структуралистский способ анализа, который я описывал, предполагает,
что при подобных обстоятельствах общей моделью следует считать
последовательную трансформацию, а не просто различие. Знаменитые 'Элементарные
структуры родства' Леви-Строса [Levi-Strauss, 1949] были попыткой применить такое понимание
трансформации к целому ряду систем родства, протянувшихся от Австралии до Севера Сибири!
Сделано это было не вполне удачно, но основная идея сохранила свое значение.
Во-вторых, идеи, заложенные в терминах
родства и брачных правилах, служат особо сложными примерами того рода проблем, которые поднимались в
разделе 3. Такие понятия, как 'брак' и 'отцовство', прежде всего являются 'идеями',
порожденными сознанием; они не описывают ни один из объективных материальных 'предметов' внешнего
мира. Вследствие этого анализ категорий родства и брачных правил с легкостью
превращается в некое подобие алгебры. Возможно, именно поэтому он всегда
оказывается близок тем ученым, чей подход к антропологическим фактам скорее рационален, чем
эмпиричен (см. раздел 1).
81
С другой стороны, вследствие того что все человеческие общества различают
категории родства и признают определенные правила при выборе супруга,
аналогичные (по крайней мере до известной степени) институту, в английском
языке обозначаемому как 'брак', легко убедить себя, что рационалистское
рассмотрение алгебры родства напрямую связано с эмпирически наблюдаемыми фактами родства в несхожих
этнографических ситуациях. Это предполагает, что Леви-Строс был прав, считая, что
структуралистские идеи имеют непосредственное отношение к изучению родства.
Мой совет - браться за эту самостоятельную отрасль
антропологического
изучения с большой осторожностью. Конечно, есть ощущение, что сравнительное изучение
родства и брака - это самое главное для теории и практики социальной антропологии,
но не
следует недооценивать и существующие здесь трудности. Связь между наблюдаемыми на
практике фактами и формальной алгеброй родства, встречающейся в
антропологических монографиях, часто весьма косвенная. Более того, любая форма
анализа, ведущая к тому, что родство вычленяется как вещь в себе, которую вполне можно рассматривать в
отрыве от культурной матрицы, где она помещается, оказывается абсолютно
дезориентирующей.
В сущности, мой собственный взгляд состоит в том, что
этнография
родства может быть понята только в том случае, если факты анализируются
определенного рода структуралистскими методами. Однако что касается родства, то
вам потребуется довольно основательно овладеть методологией, прежде чем вы сумеете
получить от
ее применения серьезную отдачу.
Во 'введении', каковым является мое эссе,
легче рассмотреть самые разные брачные правила, нежели многообразие систем классификации родства. Оно
поразительно. Одни общества считают большим грехом для мужчины соединиться с
какой-либо женщиной, которая не является для него родственницей определенной категории; другие с не
меньшей энергией запрещают любые союзы между заведомыми родственниками. Одни считают
брак с двоюродными братьями и сестрами особенно желательным, другие - особенно нежелательным.
Существуют правила, по которым единственно подходящей парой для мужчины является
дочь дочери брата матери его матери; другую крайность представляют собой
общества, где
разрешается женитьба едва ли не на любой женщине, за исключением матери или
родной сестры. Антропологи очень подробно и с большим жаром обсуждают общее и
частное значение таких правил, но не приходят к какому-либо согласию.
82
Отдельные части такой 'логики' представляются самоочевидными.
(1)
Любое
правило, которое устанавливает (для мужчины), что 'женщины категории А
годятся в супруги, а женщины категории В - нет', является частью системы социальной
классификации, которая служит упорядочению социального окружения конкретного индивида.
(2)
Любое
правило, которое устанавливает (для мужчины), что 'если категория
подходящих для женитьбы женщин включает сестру X, то моя собственная
сестра попадает в категорию женщин, подходящих для X', одновременно
подразумевает, что 'я' и X в определенном фундаментальном смысле равны по своему положению. Основополагающий принцип
взаимности отношений приводится выше (см. с. 13). Правило гласит, что 'я' и X должны обмениваться однотипными вещами.
Если я женюсь на твоей сестре, ты женишься на моей. Это ставит нас в совершенно равное
положение.
(3)
Соответственно,
любое правило, которое имеет противоположное установление (для мужчины), а именно
'если категория подходящих для женитьбы женщин включает сестру X, то моя собственная сестра не попадает в категорию
женщин для X', подразумевает также, что 'я' и X в некотором
фундаментальном смысле находимся в неравном положении. Правило гласит, что если я
женюсь на
твоей сестре, ты не можешь жениться на моей; в некотором роде мы не на
равных.
Даже эти явные и самоочевидные формальные алгебраические принципы требуют
оценки в свете эмпирических данных, но дело, конечно, в том, что правила, которые
определяют категории мужчин и женщин, могущих или не могущих вступать в брак друг
с другом,
имеют серьезнейшее значение для реального структурирования всех
создаваемых человеком саморазвивающихся социальных систем. Более того,
наши представления о том, как общество управляется или как оно должно управляться, очень
часто выражаются в нашем отношении к конкретным вариантам заключения брака. Нужно только учитывать
силу и разнообразие явных и скрытых правил, которые препятствуют бракам,
выходящим за границы 'класса', 'расы' или 'касты', чтобы понимать важность
таких способов
классификации. Однако к сказанному мне нечего добавить, кроме четырех
коротких замечаний.
83
(1) Экзогамные правила,
запрещающие половое партнерство между членами одного и того же сегмента
единой целостной систтемы (как, например, в великом множестве сегментарных
унилинейных
десцентных систем во многих частях мира), не только имеют эффект усиления
признаков сегмента, но и сказываются противоположным образом, объединяя всю систему в
целом. Поскольку мы не можем заключать браки с членами нашей собственной группы, нам необходимо
заключать такие союзы с другими. Следует помнить, однако, что в таких случаях правила
экзогамии связаны с браком. Правила, регулирующие реальное поведение
полов, т. е. правила, касающиеся инцеста, обычно гораздо менее четки, и лучше всего их рассматривать
отдельно от брачных правил.
(2)
Эндогамные
правила, запрещающие половое партнерство между членами разных социальных сегментов
одной и той же целостной системы - например, между индийской девушкой из высшей касты и мужчиной из
низшей касты, южноафриканскими белыми и южноафриканскими черными, евреями и неевреями,
- всегда порождают огромное эмоциональное напряжение. Это подтверждает положение, высказанное
в разделе 13 (г) о табу, связанных с границами per se. В случаях такого рода,
однако, правила затрагивают наряду с браком и сексуальные отношения как таковые, и
возбуждает
эмоции именно нарушение сексуального табу.
(3)
Религиозные
направления (иудаизм, квакерство, католицизм) очень часто считают мерилом
ортодоксальности необходимость того, чтобы мужчина и его жена придерживались
одного вероисповедания; в этом случае правило носит одновременно 'выражающий' и функциональный
характер (оно 'гласит': 'мы одной веры'), кроме того, оно гарантирует, что
солидарность в вере, вероятно, сохранится и в последующих поколениях.
Если бы конфессиональным группам такого рода удавалось соблюдать свое правило строгой эндогамии на
протяжении веков, то в конце концов они приобрели бы расовые отличия. В
применении к евреям это простое рассуждение показывает, как важно, чтобы социальный антрополог осознавал разницу между
этнографическими фактами и
нормативными представлениями.
Постоянно повторяющимся догматом иудейской
религии по меньшей мере на протяжении 2500 лет было то, что евреи должны заключать браки только
с евреями. Если бы евреи придерживались этого правила, они сейчас действительно
представляли бы собой
84
отдельную
расу. Но на деле генетические данные вполне определенно свидетельствуют, что нет такого места
на Земле, где бы расовые характеристики
евреев значительно расходились с расовыми чертами их соседей. Отсюда следует, что евреи как группа не придерживались
своих правил эндогамии.
Учитывая это, в высшей степени парадоксально, что на
протяжении столетий преследование еврейских общин их христианскими соседями последовательно проводилось на
основе расовой, а не религиозной
предубежденности!
Общий вывод состоит в том, что все правила, касающиеся
брака и
подбора половых партнеров, в гораздо большей степени имеют отношение к идеям,
нежели к реальным фактам. Правила эти суть утверждения о том, что должно быть. То, что
происходит на самом деле, обычно сильно отличается от этого.
(4) И наконец, существует вопрос, связанный с тем, что
правила типа
(в), приведенные выше, довольно часто принимают следующую форму: 'Я (мужчина)
могу жениться на дочери брата моей матери, но моя сестра не может выйти замуж за сына
брата своей матери'. Когда такое правило осуществляется в рамках системы
унилинейных десцентных групп,
оно устанавливает, что локализованные унилинейные
десцентные группы соединяются в пары 'дающих жен' и 'получающих жен', а
отношение между 'дающими' и 'получающими'
описывается как отношение неравенства. Это неравенство часто встроено в структуру местной политической
идеологии. Литература на эту тему
весьма обширна (см., например, [Leach, 1954]).
85
Теперь мне хочется вернуться к проблеме,
которую я поднимал ранее (разд. 6): насколько мы способны отличать логику технических действий от
псевдологики 'выражающих' действий?
В нашем собственном обществе - западном, знающем письменность,
механистически организованном, - в культурную систему встроено так много
'настоящей', Аристотелевой логики, что мы по большей части считаем само собой
разумеющимся, что логика такого рода - основная составляющая здравого смысла. Тем
не менее
на практике принципы формальной логики применяются нами только в относительно
редких случаях, когда мы стремимся передать точную информацию на расстояние,
используя единственный канал коммуникации, например при написании письма либо
книги или
в разговоре с кем-либо по телефону. Когда же двоим людям реально приходится
близко общаться и они могут при этом пользоваться одновременно несколькими
каналами передачи сенсорной информации - через прикосновения, взгляды, восприятие на
слух и
т. д. , - логическая упорядоченность индивидуальных посланий гораздо менее очевидна.
Если вы запишете на пленку случайный разговор, то
обнаррки-те,
что при прослушивании только немногое из него можно понять сразу; однако все
присутствующие при разговоре по контексту понимают, о чем идет речь. Это происходит
потому, что первоначально словесное выражение разговора было лишь частью более
обширного
целого и имело метонимическое (знаковое) отношение ко всему, что тогда
происходило в комнате, и это невербальное 'другое' тоже являлось частью
передаваемой информации.
Но то же соображение действует и в обратном направлении. Когда антрополог пытается
расшифровать комплекс невербальных индексов, ему нужно помнить, что он получил
только часть данных. Знаки и символы, которые он исследует; сцеплены вместе так
же свободно,
как слова и незаконченные предложения в случайном разговоре, а не как
тщательно построенные и законченные книжные абзацы.
86
Однако псевдологика (мифо-логика) 'выражающего' поведения имеет другую
специфику. Она особенно легко распознается, если мы имеем дело с религиозным дискурсом.
Когда мы вовлечены в обычное техническое действие, для
нас является
аксиомой, что если некая сущность А отличается от сущности В, то не может быть, чтобы А и В в
то же самое время были тождественны. В
теологической системе доказательств все обстоит как раз наоборот.
Христианство дает нам несколько весьма выразительных
примеров.
Один из них - представление о непорочности Богоматери; другой пример -
утверждение, что Бог-Сын 'порожден' Богом-Отцом при том, что Бог-Отец, Бог-Сын и
Бог-Дух Святой - одно и то же существо, и они изначально тождественны. Общеизвестно,
что даже
ревностные христиане испытывают большие трудности в 'понимании' таких
непостижимых загадок, но, конечно, нельзя утверждать, что религиозные постулаты
лишены смысла только потому, что они нелогичны (в обычном понимании).
Религиозные утверждения, разумеется, имеют смысл, но этот
смысл
относится к метафизической реальности, тогда как обычные логические утверждения
имеют смысл, относящийся к реальности физической. Нелогичность религиозных
утверждений сама по себе является 'частью кода', она служит индексом содержания
этих утверждений,
она говорит нам, что мы имеем дело с метафизической, а не физической
реальностью, с верой, а не со знанием.
Различие
существенное. В нормальном английском словоупотреблении мы не говорим: 'Я верю, что 3 х 3 = 9'. Мы воспринимаем арифметическую
формулу как простую логическую констатацию факта. Мы знаем, что это соответствует
истине. Напротив, всегда, когда мы произносим религиозные постулаты, мы прибегаем к
понятию веры. 'Я верую в Бога-Отца. . . '. Использование формулы 'Я верю в. . . ' приравнивается к
предупреждению; это все равно что сказать: 'К тому, что последует далее,
правила обычной логики не применимы'.
Одна из характерных черт такой нелогичности
(мифо-логичности) в том, что с метафорой обращаются как с метонимией. Например, рассмотрим
следующие постулаты: 1) Бог есть Отец, 2) Бог есть Сын, 3) Бог есть Дух Святой. Если
эти три утверждения рассматривать как отдельные метафоры, то слова 'Отец', 'Сын'
и 'Святой
Дух' являются, по моей терминологии, взаимоисключающими символами одного метафизического
понятия, существующего
87
'в
сознании'. Но особенность религиозного дискурса в том и состоит, что метафоричность
этих формул здесь отрицается; они считаются 'истинными', причем 'истинными' все
одновременно. На этом уровне три ключевых слова вводятся в метонимическое отношение, они становятся
взаимозависимыми знаками. Но, кроме того, термины 'отец/сын'
образуют пару, и мы вносим 'бес-смыслицу', когда говорим, что Бог является самому
себе и отцом, и сыном. Однако даже при этом за такой 'бес-смыслицей' скрывается
смысл. Мифо-логические
постулаты противоречат логическим правилам обычного физического опыта, но они
могут создавать смысл 'в сознании' до той
поры, пока говорящий и его слушатель или же актер и его аудитория разделяют одни и те же условные
представления об атрибутах
метафизического времени и пространства, равно как и о метафизических объектах. Атрибуты эти обладают
неким универсальным единообразием в
рамках человеческого общества, и в следующем
разделе я рассмотрю несколько таких универсалий.
88
Суть данного вопроса - в осознании нами того, что человек смертен и что болезнь
несет ему угрозу смерти. Центральной доктриной любой религии является отрицание
того, что смерть подразумевает автоматическое уничтожение индивидуального 'я'.
Но если моему 'я' суждено жить после смерти в качестве
какого-то
'иного существа', то это 'иное существо' должно помещаться в каком-то 'ином
мире' и в каком-то 'ином времени'. Самой характерной чертой такой 'инаковости' является
то, что она достигается перевертыванием обычного жизненного опыта.
Представления о божестве проистекают из подобного перевертывания. Как
человеческие существа мы осознаем свое бессилие; мы способны изменять
условия нашего материального существования лишь в очень незначительной степени.
Однако любое представление о бессилии подразумевает понятие о всесилии, которое опять
же является
'иным'. Божество, т. е. всесильное 'иное существо', живущее в 'ином мире' и в
'ином времени', имеет вследствие этого очень сходные черты с 'иным я', возникающим
после смерти, а в эсхатологических построениях два вида 'иных миров' часто
сливаются
- поэтому умершие предки становятся богами.
Но тут возникает мифо-логическая загадка. Если
божество, источник 'силы', находится в другом мире, то как человеческие существа могут получить
доступ к этой силе?
Практика религиозной жизни является ответом на этот
вопрос. Она
состоит в установлении между 'этим миром' и 'иным миром' связующего моста, по
которому могучая сила божества может быть направлена на помощь бессильным людям.
Позвольте теперь напомнить вам, что говорилось выше
относительно
качества священного табу, присущего всем границам и проистекающего из их
двойственности, и что говорилось о тесно связанном с этим принципе 'сила помещается в
грязи' (с. 46, 77).
Упомянутый связующий мост в материальном
смысле представлен 'святыми местами', которые одновременно и находятся в этом мире, и не находятся
в нем, - как, например, церкви, считающиеся 'домом Бога'. Контроль за связующим мостом
осуществляют
89
'святые
люди' (священнослужители, отшельники, шаманы, медиумы, вдохновенные пророки),
наделенные способностью устанавливать связь с силами иного мира, даже при том
что сами они все еще живут в этом мире. В мифологии, в отличие от культовой практики, связующим мостом
могут служить также инкарнации божеств, которым удается - за счет элизии
метафоры и метонимии - быть одновременно и человеческими существами, и богами.
Возможен и еще один вывод. Поскольку сексуальные отношения
можно
считать порождающими жизнь и поскольку эсхатологическое учение связано с
отрицанием смерти, мы в английском языке не проводим различия между потенцией как
силой и потенцией как сексуальностью, и это - чрезвычайно распространенное явление. 'Сила Духа
Святого' - это магическая сила в очень общем смысле, но она есть также и
способность оплодотворять женщин.
Топографические детали такой метафизической космологии
могут значительно
варьироваться. 'Иной мир' может находиться выше неба, ниже моря, в горах, в лесу, по ту
сторону залива, по ту сторону пустыни. О нем всегда можно сказать только то, что он не здесь и не сейчас! Часто в нем
различают разные слои и контрастные сущности, например Небеса, Ад, Чистилище.
Но оппозиция 'Этот мир (физического знания)'/'Иной мир (метафизической веры)'
по крайней
мере до некоторой степени почти всегда оказывается смешанной с оппозициями
типа: 'Человек/Животное', 'Одомашненный/Дикий', 'Культура/Природа', где
Культуру можно определить как 'образ жизни, который мы, люди, практикуем в нашем обществе' (т. е.
определить как 'цивилизацию'), а Природу - как все остальное.
Посредник - будь то реальное человеческое существо (например, шаман) или
мифологический богочеловек - принимает, таким образом, 'пограничные' черты: он
и смертный, и бессмертный, и человек, и животное, и культурный, и дикий.
Например, библейские пророки, являющиеся
посредниками между Градом Божьим и Городами Людей, живут между ними - 'в пустыне'. Ганеша,
индуистское божество, которое, в частности, ассоциируется с порогом дома и служит
привратником в святых местах, имеет тело человека и голову слона. В
тотемических системах тотемные предки являются и категориями вещей, и видами (в Природе), и категориями групп (в
человеческом обществе).
Данный вид элизии противоположностей
представляет собой, как я уже подчеркивал, 'бес-смыслицу' с точки зрения
нормальной логики, но полностью согласуется с мифо-логикой.
90
Рассмотрим следующий силлогизм:
(1)
Поскольку
божества бессмертны, было бы ненормально, если бы бог/богиня воспроизводили себя
посредством сексуального контакта.
(2)
Поскольку
люди смертны, было бы ненормально, если бы мужчина/женщина не воспроизводили себя
посредством сексуального контакта.
(3)
Поэтому
для богочеловека одинаково ненормально и воспроизводить, и не воспроизводить себя
посредством сексуального контакта.
Этим парадоксом можно 'объяснить' огромное количество
религиозных верований и обрядов в великом множестве совершенно разных культурных
систем. На уровне мифа он отвечает за тот тип противоречия, о котором я уже упоминал:
Сын Бога есть Бог-Отец, Аийанар есть Шива, Гор есть Осирис. На уровне обрядовой практики он создает
неопределенность в отношении того, что является настоящей моделью священной инаковости
в сексуальной активности:
сверхдозволенность или недозволенность?
Сила божеств тесно увязывается с их половой потенцией.
Великие боги классической и
восточной мифологии были чрезвычайно распущенными.
И конечно, каждое мифологическое существо, классифицируемое как предок, должно пользоваться известными сексуальными привилегиями. Тем не менее очень
распространено явление, когда
мужчины, стремящиеся достичь высшей праведности, устанавливают для себя режим полового аскетизма. Иногда они объясняют свое поведение с помощью теории,
согласно которой потеря семени при
половом контакте влечет за собой утрату 'силы', иногда - с помощью убеждения, что воздержание от секса делает мужчину (женщину) 'подобным богу', а иногда
- с помощью простого догмата,
согласно которому сексуальная активность
сама по себе есть зло. И все-таки божественные предки обязательно являются патриархальными образцами
святости! Подобные противоречия
трактуются множеством различных способов, но каждый раз ухищрения мифо-логики призваны скрыть их несостоятельность. Вот несколько примеров.
Один из вариантов выхода из затруднения
состоит в том, чтобы сказать, что у первопредка дети появляются только в
глубокой старости. Адам родил Сифа в возрасте 130 лет; Авраам родил Исаака в столетнем возрасте.
Точно так же секс отделяют от греха тем, что
91
приписывают
рождение предвещанного святого пророка безгрешной женщине, которая либо давно вышла
из (естественного) детородного возраста, либо бесплодна по какой-то иной причине
- подобно
Сарре, Ревекке, Рахили, Елизавете и др.
Однако это не снимает третьей части моего силлогизма. Если
мужской
предок 'в действительности' божествен и бессмертен, его сексуальность и
порождающая способность не имеют значения; ему не нужно самому заботиться о
производстве потомства. Но если предок 'в действительности' является человеком,
он должен быть наделен нормальными влечениями нормального человека.
Одно общераспространенное мистическое решение проблемы заключается в том, что богочеловек
сожительствует с блудницей или что
полубожественного аскетического предка соблазняет своими хитростями 'злая' женщина, которая затем
становится святой прародительницей.
Секс здесь остается неизбежным злом, за святым признается его половая потенция,
но перед лицом разврата он сохраняет
свой праведный аскетизм. Хорошим примером служит библейская история о том, как Фамарь соблазнила своего свекра Иуду (Бытие, 38). Аналогичным образом в Новом
Завете человеческая природа Христа подтверждается повторяющимися указаниями на то, что он общается с мытарями и грешниками,
среди которых была и Мария Магдалина.
В то же время божественная сущность Христа
подтверждается указанием на то, что Бог есть сын Девы Марии, которая является также супругой Бога. С точки зрения мифологии
Мария-безгрешная Дева и Мария-грешница - это 'одно и то же лицо'.
Эта христианская модель удивительно похожа на ту, что
содержится
в индуистской мифологии, особенно в истории о Шиве и Парвати. Шива - самый
аскетичный из всех йогов, и его божественная сила проистекает от аскетизма; тем не
менее в качестве супруга Парвати - самой прекрасной женщины во всем свете, которая была нарочно
создана, чтоб соблазнить несоблазняемого Шиву, он является самым необузданным из всех
любовников.
Двойственность этого мифа, взятого в целом,
связана с тем фактом, что боги обеспечили и то, что у Парвати будет ребенок от Шивы, и то, что у нее
вовсе не будет детей. В конечном счете Скан-да (Аийанар) (который является
другой ипостасью самого Шивы) считается 'сыном Шивы и Парвати', хотя Парвати не родила
ни одного
ребенка (см. [O'Flaherty, 1973]).
92
Такие истории не придумываются просто ради упражнения в искусстве парадокса;
они имеют практический смысл. У благочестивого брахмана есть моральное обязательство
произвести на свет мужское потомство, но у него есть также моральное обязательство последовательно
продвигаться по пути полового аскетизма. Миф дает право на оба вида поведения.
С другой стороны, парадоксальная природа
мифологических историй сама по себе является частью их 'послания'. Что не естественно - то сверхъестественно!
Данные примеры несообразности мифов иллюстрируют общий
принцип.
Аскетизм - это средство достижения личной чистоты; экстаз
- средство
достижения мистической силы. Как правило, вещи и поступки, расцениваемые
в культе аскетизма как грязные, в культе экстаза рассматриваются как источник силы. Половой
акт для одних является
воплощением зла, для других - символом божественности. Обе позиции обычно существуют бок о бок в рамках одной и той же культурной системы. Понятия божественной
чистоты, достигаемой через аскетизм, и
божественной силы, достигаемой через
экстаз, являются взаимозависимыми, и одно предполагает другое.
Тем не менее в религиозной практике данная бинарная пара обязательно
представлена в виде разделенных противоположностей (например, бритая голова/длинные
волосы, оскопленный евнух/сексуальный гигант), а культовое поведение обычно
выделяет одну
половину указанной дихотомии в ущерб другой. Метафизический мост через
границу, разделяющую 'этот мир' и 'иной мир', контролируется либо аскетичными
священнослужителями, либо экстатичными заклинателями духов (шаманами). Когда два
эти вида контроля
смешиваются, происходит путаница; мистицизм св. Терезы, с характерными
изощренными сексуальными метафорами, лишь с великим трудом можно приспособить к суровой
асексуальной ортодоксии католической церкви, которая настаивает на безбрачии священников.
Прежде чем оставить эту тему, я хотел бы
вернуть вас к разделу 14 и подумать еще раз о двойственности, содержащейся в понятиях унилинейного
счета родства, эндогамии и экзогамии. Наиболее явно она проявляется в случае
патрилинейного счета, связанного с линиджной экзогамией. Каждая замужняя женщина
сначала входит в локализованную линиджную группу как чужачка. Она представля-
93
ет собой
заведомое зло: чуждый объект, сексуальный объект, грязный. Однако со временем
она становится матерью новых членов линиджа, и в этом втором качестве являет
собой заведомое добро, истинный критерий достоинства и чистоты, полную
противоположность
сексуальному объекту. Наличие моральных полюсов приводит поэтому к следующим эквивалентным парам:
жена сексуальный грязный греховный

мать асексуальный чистый безгрешный
Моделью тут, как вы видите, является пример с двумя Мариями христианской
мифологии, к которому я рке обращался.
Приведенное соображение требует рассмотрения в свете
антропологических
теорий, касающихся происхождения табу на инцест. Таких теорий существует
множество, но ни одна не является удовлетворительной. Та версия, которую отстаивали
- хотя и по-разному - и Тайлор, и Леви-Строс, заключается в том, что сердцевиной инцестуального табу
является запрет сексуальных отношений между братом и сестрой. Правила экзогамии
предусматривают обмен женщинами между группами с мужским доминированием: желая жениться сам, я
должен быть готов отдать свою сестру.
Из аргументации данного раздела следует и другая
возможность, тоже структурного характера, но, может быть, более соответствующая очевидным для
всех фактам человеческой психологии. Именно необратимость трансформации 'жена ->
мать', абсолютно полярное соотношение между этими двумя категориями, а также
вновь и вновь
возникающая необходимость опасаться такой двойственности, которая отразилась в
индуистских и христианских мифах о Парва-ти и Марии, и составляют суть вопроса. Это
еще одна версия тезиса Малиновского, согласно которому 'функция' инцестуального
табу - в
предотвращении смешения социальных ролей.
Но эта последняя разновидность теории инцеста
тоже имеет свои недостатки. Полностью адекватная теория должна была бы
соответствовать принципам, которые я провожу в этой книге. Она должна была бы иметь
дело со всем многообразием сексуальных преступлений в комплексе, а затем
исследовать варианты их соотношения. Предметом рассмотрения не должна была бы быть,
например,
исключительно связь экзогамии с инцестом между братом и сестрой или одна только
связь между статусом жены и статусом матери; нужно было бы рассматривать все
многочисленные катего-
94
рии
сексуального греха и сексуальных преступлений: инцест, скотоложество, гомосексуализм, изнасилование,
прелюбодеяние, блуд и т. п. - и анализировать,
как и почему они различаются, а также где и почему проходит граница
между законным и противозаконным сексуальным поведением (там, где эта граница
есть, и тогда, когда она есть). Такой анализ
еще не проделан, но когда наступит его
время, нужно будет учесть многие структурные трансформации, которые мы здесь рассматриваем.
95
17. ОБРЯДЫ ПЕРЕХОДА (RITES
DE PASSAGE)
Я уже отмечал, что в большинстве случаев обряды связаны
с преодолением
социальных границ и переходом от одного социального статуса к другому: превращением
живого человека - в покойного предка, невесты - в жену, больного и оскверненного
- в здорового
и очищенного и т. д. Соответствующие церемонии имеют двойную функцию: они
свидетельствуют об изменении статуса и магическим путем осуществляют это изменение
(см. разделы 7 и 11). С другой точки зрения они служат вехами отдельных этапов в ходе социального
времени.
В самом широком смысле все обряды перехода обнаруживают определенное
сходство, состоящее в наличии трехфазной структуры.
Подвергаемого инициации (посвящаемого) человека, который
претерпевает изменение статуса, прежде всего необходимо отделить от его (ее)
первоначальной роли. Отделение может происходить разнообразными способами, каждый из
которых может выглядеть как часть одной и той же обрядовой практики, например:
а) посвящаемый может двигаться в процессии от пункта А
к пункту В;
б) посвящаемый
может снять с себя прежнюю одежду;
в) жертвенные животные могут быть убиты (чтобы жизнь
отделилась от ее вместилища), или же объекты жертвоприношения могут быть разделены пополам;
г) поверхностная 'грязь' посвящаемого может быть
удалена посредством ритуального мытья,
бритья и т. д.
В целом же результатом первой фазы обрядов 'отделения'
становится
изъятие посвящаемого из нормального существования; на какое-то время он (она)
превращается в анормального человека, пребывающего в анормальном времени.
Вслед
за 'обрядом отделения' наступает период социального безвременья (см. с. 45), который, если измерять по часам, может
96
длиться несколько
мгновений, а может растянуться на месяцы. Примерами последнего, более продолжительного
варианта 'маргинального состояния' служат медовый месяц новобрачной и траур вдовы. Общим признаком
промежуточных обрядов (rites de marge) служит физическое
удерживание объекта инициации на удалении от обычных людей: его либо отсылают,
совершенно лишая привычного домашнего окружения, либо временно помещают в
замкнутое пространство,
где обычных людей не должно быть.
Социальная отделенность еще больше подчеркивается тем,
что посвящаемый
подвергается всем видам особых предписаний и запретов в отношении еды, одежды и
передвижения.
С
точки зрения обычных людей, человек, подвергнутый инициации оказывается 'заражен священным началом'; находясь в священном состоянии, он (она) является, кроме того,
опасным, а потому и 'грязным'. В соответствии с такой идеологией обряды,
вновь возвращающие инициируемого к обычной
жизни, почти всегда включают в себя
действия вроде ритуального мытья, призванные устранить эту 'зараженность'.
Наконец, в третьей фазе человек, подвергшийся инициации,
возвращается
в нормальное общество и приспосабливается к своей новой роли.
Конкретные действия в обряде приобщения часто весьма схожи с действиями начального
обряда (отделения), но имеют обратный знак, т. е. процессии движутся в
противоположном направлении (от В к А); особый костюм, надетый на время 'маргинального состояния',
снимается и надевается новый нормальный костюм, соответствующий новому
нормальному социальному статусу; жертвоприношения повторяются, пищевые ограничения
снимаются;
бритые головы вновь обрастают волосами и т. д.
Но перевертывание ролей может быть выражено
по-разному, например через такие противоположности, как: пост/пир; подчеркнутое соблюдение
правил, когда каждый индивид одет 'правильно', в костюм установленного образца /
подчеркнутое несоблюдение правил, когда одежда в беспорядке (крайнее выражение -
трансвестизм);
последовательность событий переворачивается. 'Логика' происходящего редко бывает очевидной.
Схему 7, на которой показаны все три фазы вышеописанного
процесса,
см. ниже.
97
Схема 7
Анормальное состояние: посвящаемый
пребывает вне статуса, вне общества, вне
времени
(Rite de marge:
маргинальное положение)
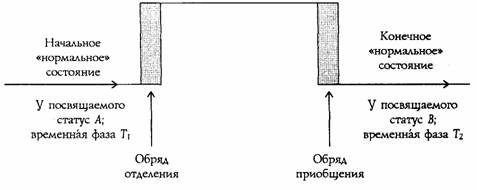
То, насколько та или иная конкретная
последовательность ритуальных действий может считаться соответствующей этой
схеме, в
известной степени зависит от мастерства и воображения антрополога, проводящего
исследование, - но лично я нахожу такие схемы полезными.
В этом контексте довольно широкое распространение имеет еще один вывод общего
характера.
Поскольку каждый раз разрыв непрерывности социального
времени
представляет собой конец одного периода и начало другого и поскольку
'рождение/смерть' представляют собой самоочевидный 'естественный' образ
'начала/конца', то символика смерти и возрождения подходит ко всем обрядам
перехода и ощутимо проявляется в широком спектре конкретных случаев.
Например, в погребальном обряде существо догмата часто
состоит
в том, что смерть - только ворота в будущую жизнь. Напротив, обряды
обрезания, бритья головы, выбивания зубов и других телесных повреждений,
которые так часто знаменуют первое вступление посвящаемого в общество взрослых,
являются метафорами не только очищения (см. с. 76), но и смерти. Ребенок должен
умереть, прежде
чем сможет родиться взрослый человек.
98
В некоторых случаях мифология демонстрирует это совершенно отчетливо. В Книге Бытия (17, 21, 22)
иудейский обряд обрезания есть 'знак'
принятия Авраамом договоренности, по которой Бог гарантирует ему бесчисленное потомство при условии, что Авраам выказывает Богу свою покорность. Но прежде чем
Исаак смог исполнить свою роль, став
предком-основателем народа Израилева, он
должен был сначала подвергнуться обрезанию и тем самым быть 'почти' принесенным в жертву своим отцом.
99
Аргументация последних двух разделов вновь сделалась
весьма абстрактной,
и вы вполне можете задаться вопросом: как может такая, весьма общая теория иметь
практическое применение? Как она способна помочь антропологу понять, что происходит,
когда он или
она сталкиваются с совершенно незнакомым проявлением культурно обусловленного поведения?
В настоящем разделе данная теория рассматривается применительно к процедуре
жертвоприношения. Представляется, что именно такая проверка теории весьма уместна, ибо
большинство моих читателей не имеют непосредственного опыта знакомства с подобной практикой, хотя
жертвоприношение животных и является весьма распространенной чертой религиозного
ритуала. Если мы теперь в деталях рассмотрим описание жертвоприношения, насколько упомянутая
теория поможет нам реально понять происходящее?
Главная загадка, связанная с
жертвоприношением, сосредоточена вокруг метафоры смерти. Какое отношение имеет
убийство животных к общению между Человеком и Божеством или к изменению социального статуса
индивида? Непосредственно стоящая передо мной проблема - иного рода. Как мне
описать весь контекст типичного обряда жертвоприношения, чтобы вы так или иначе
почувствовали
сложность проблем, с которыми сталкивается исследователь-антрополог,
когда он встречается с подобными явлениями в своей полевой работе? Ведь вы должны
понимать, что в любой ситуации, когда вы работаете 'в поле', многие вещи
происходят одновременно. Любая обрядовая деятельность имеет по меньшей мере визуальное,
вербальное, пространственное и временное измерения; вдобавок шум, запах, вкус,
прикосновения - все это может иметь значение. Возможно, многие цепочки действий будут
повторяться
несколько раз кряду, однако зачастую - с небольшими изменениями при каждом
повторе. Как тогда следует наблюдателю проводить различие между важным, случайным и
излишним?
Прежде всего позвольте мне обрисовать теорию как таковую.
В
разделах 7, 11 и 17 говорится о двух довольно разных моделях,
100
показывающих, каким
образом религиозный обряд выражает отношение между миром физического опыта и миром
метафизического
воображения.
Модель 1 была представлена на схеме 4 (с. 46),
которую я воспроизвожу, но уже с другим текстом, на схеме 8. Понятие Иного Мира возникает за счет
непосредственного перевертывания характерных черт обыденного опыта. Этот Мир
населен смертными бессильными людьми, которые проживают свои жизни в
нормальном времени, где события протекают последовательно, одно за другим. В этом мире мы 'все
время' становимся старше и старше, а под конец умираем. Иной Мир населяют бессмертные
всемогущие боги, которые существуют вечно, в анормальном времени, где прошлое, настоящее и будущее
существуют 'одновременно'.
В упомянутой модели I 'сила', понимаемая
как источник здоровья, жизни,
плодовитости, политического влияния, богатства и т. д. , находится в Ином Мире, и целью религиозного
действа является создание моста, или
канала сообщения, посредством которого сила богов может сделаться
доступной для людей, в противном случае остающихся
бессильными.
Этот Мир и Иной Мир понимаются здесь как топографически
отдельные пространства, разделенные пограничной зоной, которая обладает
качествами обоих пространств. Именно пограничная зона (например, церкви,
кладбища, святыни) является фокусом обрядовой деятельности. Метафизические 'личности',
которым адресована данная обрядовая деятельность, отождествляются с этими священными
местами и обычно рассматриваются как предки, святые или инкарнированные
божества - существа, которые в прошлом были обычными людьми, умерли обычной
смертью, но теперь стали бессмертными богами. Как и сама пограничная зона, они
обладают качествами,
характерными и для Этого, и для Иного Мира.
С точки зрения критериев, прилагаемых к
обычным смертным, человеческие существа, выполняющие обрядовые действия, - тоже анормальны. Это могут
быть священнослужители,
от
которых требуется, чтобы они - прежде чем совершить главный обряд - соблюли особые
условия 'ритуальной чистоты', или же то могут быть шаманы - посредники в общении
с духами, обладающие анормальной способностью ввергать себя в транс, в
состоянии которого, как считается, они непосредственно общаются с существами из Иного Мира.
101
Схема 8

Пограничная зона
'Как А, так и не-А'
Сакральная область
Поле обрядовой деятельности
Альтернативная
Модель II представлена на схеме 7 (с. 97). Здесь акцент делается на метафизическом времени, а не на
метафизическом пространстве или
полуметафизических персонажах. Социальное время приобретает вид прерывистого за
счет внедрения интервалов
пограничного, священного не-времени в непрерывный поток нормального мирского времени.
В
соответствии с этой моделью II цель
обрядовой деятельности, которая не
обязательно имеет явственную религиозную форму, заключается в том, чтобы в начале церемонии
осуществить переход от нормального к анормальному времени, а в конце ее -
переход от анормального к нормальному
времени (см. раздел 17).
Две данные модели являются дополняющими, а не
исключающими одна другую, и в конкретных ситуациях либо каждая из них, либо обе они могут
пролить свет на структуру наблюдаемых обрядовых действий, а также на цели, которые те
преследуют.
Так как
же насчет жертвоприношения животных?
Один
подход - как представляется, довольно часто находящий подтверждение в языке,
которым люди описывают совершаемые ими жертвоприношения,
- состоит в том, что принесение жертвы есть дар, или дань, или штраф, выплачиваемый богам. Церемония жертвоприношения - это выражение принципа
взаимообмена. Одаривая богов, их
принуждают в ответ оказывать человеку благодеяния.
Модель I предполагает, что та часть логики, по
которой люди должны прийти к заключению, что убийство животного - это дар
102
богам,
зависит от следующих метафорических ассоциаций. Души умерших людей
проходят путь от нормальности Этого Мира к анормальности пограничной зоны и затем,
через последующую трансформацию, становятся бессмертными предками-божествами в Ином Мире. Если мы
хотим принести дар существу Иного Мира, то 'душа' (так сказать, метафизическая
сущность) дара должна быть отправлена тем же путем, каким проходит душа умершего
человека.
Поэтому мы должны сначала убить этот дар, чтобы его метафизическая
сущность отделилась от его материального тела, а потом переправить эту сущность в Иной
Мир с помощью обрядов, аналогичных обрядам погребения.
В определенном смысле люди, вероятно, так и трактуют
совершаемые
ими жертвоприношения, хотя метафора принесения дара легко может оказаться
обманчивой. Боги не нуждаются в подарках людей; они требуют знаков покорности.
В материальном смысле приносимая жертва вполне может представлять серьезную
экономическую трату для жертвователя, однако на метафизическом уровне речь идет не об
экономике. В чем же состоит сущность акта жертвоприношения как такового, которое и в
самом деле является символом принесения дара, но дара, выражающего отношения
взаимности
(с. 13), а не материального обмена?
Большая часть мяса зарезанного животного на
самом деле, как правило, поедается членами 'конгрегации', которые являются друзьями и
родственниками жертвователя. Вероятно, когда это не является самоцелью,
то берется маленькое животное или же его заменяют чем-либо таким, что представляет
незначительную экономическую ценность, например: при определенных
обстоятельствах нуэры (как рассказывает Эванс-Причард) заменяют быка диким огурцом!
В любом случае животное или приносимый в жертву объект представляет собой
для жертвователя метонимический знак. Привлекая 'пограничного' священнослужителя для
проведения церемонии жертвоприношения в пограничной зоне, жертвователь перекидывает мост между
миром богов и миром людей, и по этому мосту к нему может потечь сила богов.
Модель II предлагает несколько
отличный набор метафор. Как и в
предыдущем случае и во всех обрядах перехода, рассматриваемая парадигма здесь обеспечивается погребальным
ритуалом. После смерти человек - в
силу процесса 'естественного' отделения - превращается в мертвое
тело и душу-дух. Это отделение понимает-
103
ся как 'очищение'
души-духа, которая, как считается, поначалу находится в заточении, потом отделяется
от своей исходной среды обитания,
но еще остается тесно связанной с ней. Однако если душа очистилась, то среда, от которой она отделилась (иначе говоря, сам труп и близкие родственники покойного), оказалась
оскверненной.
Через определенный промежуток времени дух благодаря
последующим обрядам
приобщается к сонму предков, а считавшиеся нечистыми
участники погребения, с которых удаляется скверна, возвращаются в нормальное общество. Общая пригодность
данной модели доказывается частотой, с
которой приводимая метафора смерти и возрождения обнаруживается во всех видах
инициации (с. 97).
Идея приведенной парадигмы состоит в том, что обрядовые действия разделяют 'посвящаемого' на
две части: одну - чистую, другую - нечистую. Нечистая часть может быть затем
оставлена позади,
тогда как чистая может быть приобщена к новому статусу посвящаемого. В случае с
жертвоприношением жертва играет роль посвящаемого, но, так как поначалу она
отождествлялась с жертвователем, этот последний - в силу психологического
замещения - точно так же очищается и получает новый обрядовый статус.
С этой точки зрения жертвоприношение есть
магический акт, переводящий все действия, направленные на коммуникацию с Миром Иным, в следующую
стадию. Священная аура, окружающая акт убийства, связана с тем обстоятельством,
что жертвоприношения являются пограничными вехами социального времени (ср. разделы 7; 13 г).
Я предлагаю теперь применить данную общую
теорию к специфическому образчику этнографического описания, который легко доступен
каждому.
Библейская история посвящения Аарона в сан верховного жреца, появляющаяся в
двух очень сходных версиях в книгах Исход и Левит, дает детальное описание процедуры
жертвоприношения такого типа, какой до сих пор можно непосредственно наблюдать по всему миру в самых
разных этнографических контекстах. Библия определенно связывает жертвоприношение с
обрядом перехода, при этом особый упор делается на использование
жертвоприношения в качестве средства достижения ритуального очищения (через отделение от нечистоты).
В этих библейских историях этнографический контекст является
мифологическим:
иудейская скиния - по тому, как она описывается в тексте, - в культурном,
архитектурном и археологическом от-
104
ношении
есть нечто невозможное. Однако весьма точные детали связанных с ней
обрядов явно не выдуманы. Миф служил оправданием для практики жертвоприношений у евреев,
практики, связанной с Иерусалимским храмом и относящейся приблизительно к III в. до н. э. В тот
исторический момент, когда упомянутые рассказы были впервые записаны, зафиксированные в них различные виды
поведения должны были соответствовать
этнографическим фактам, с которыми библейский автор был знаком не понаслышке.
Сходство их с процедурами
жертвоприношения, которые я сам наблюдал в разных частях Юго-Восточной Азии, в самом деле удивительно.
Поэтому мое предложение таково: вы рассматриваете эти тексты, 'как если бы'
они представляли собой полевые записи современного этнографа. Возьмите в руки Библию и
по мере чтения моей работы постоянно обращайтесь к источнику - как вы вполне могли делать, если бы
я ссылался на современную монографию по антропологии. Там, где речь идет о процедуре
жертвоприношения, отсылаю вас главным образом к главам 1-10 и 16 кн. Левит. Часть этого текста весьма
напоминает главу 29 кн. Исход. Различные детали из глав 28 и 30 (Исход) тоже имеют
отношение к нашему вопросу.
Скрупулезное, детальное описание в Исходе (главы 25~27)
того, как сооружались ковчег и скиния, нужно рассматривать несколько иначе. Это модель
планировки места для проведения жертвоприношения, т. е. представление о космологическом
пространстве (как показано на схеме 8). Данный вопрос требует тщательного
анализа.
Прежде всего вы должны помнить, что всякий религиозный ритуал - вне зависимости
от того, имеет он место в импровизированном святилище, временно воздвигнутом ради
этой цели, или в постоянном месте, таком, как святилище храма, - происходит на замкнутой площадке,
границы и сегменты которой искусственны. На структурном уровне компоненты таких
площадок в высшей степени стандартны. Имеется три важнейших элемента:
Зона 1. Собственно святилище (в контексте
ритуала имеет наивысшую святость). Обычно оно включает некий изобразительный
символ, сразу же дающий понять, что здесь пребывает божество: это может быть
какой-то образ, пустующее сиденье, распятие. . . В контексте ритуала к 'собственно
святилищу' относятся так, как если бы оно действительно являлось частью Иного Мира.
105
Зона 2. Место собрания верующих. Основное здесь то, что данное пространство должно
быть приближено к собственно святилищу, но в то же время отделено от него. В
ходе ритуала рядовые члены конгрегации не должны входить в собственно святилище,
которое предназначено для священников и других служителей культа.
Зона 3. Область срединного пространства, в
котором и происходит большая часть ритуальных действий и которое также предназначено для
священнослужителей.
Например, в контексте неусложненной формы
христианского причастия
'собственно святилище' - это алтарь, 'место собрания верующих' - вся церковь к
западу от алтарных врат; 'срединное пространство'
- область между алтарем и алтарными вратами. В терминах схемы 8 (с. 101) зона 1 соответствует правому кругу, зона 2 - левому кругу, зона 3 - пограничной
области, общей для обоих кругов.
Однако каждый конкретный случай обычно
представляет собой вариацию на основную тему, поэтому представленная в библейских историях модель, в
соответствии с которой реальное место отправления ритуала превращается в космологическое
пространство, есть нечто более сложное. И именно эту дополнительную сложность я
попытался
показать на схеме 9.
Схема 9
|
КАТЕГОРИИ КОСМОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
|
КАТЕГОРИИ ТЕКСТА
|
|
Природа
(дикая)
|
За
пределами стана
|
|
Культура
('прирученная')
|
Внутри
стана
|
|
Промежуточная зона А (относительно
мирская)
|
Двор
скинии
|
Место
собрания
|
|
Порог между Этим Миром и Иным Миром
|
Жертвенник негасимый огонь
|
Срединное пространство
|
|
Промежуточная зона В (относительно священная)
|
Скиния (южная часть) стол, светильник
|
|
Конечный
предел Этого Мира
|
Завеса
|
|
Иной
Мир
|
Скиния (северная часть) Трон Господень Ковчег
|
Собственно святилище
|
106
Если вы хотите понять, как приведенная схема согласуется с библейским
рассказом, вам нужно внимательно отнестись к имеющимся в Исходе упоминаниям о
строительстве и расположении скинии, а также к различным перекрестным ссылкам на ее
план в
кн. Левит (главы 4, 5 и 6). Несмотря на то что скиния подается как шатровая
конструкция, авторы явно имели в виду храмовое здание, планировка которого неотличима
от планировки многих христианских церквей, но которое было ориентировано на
север, а
не на восток.
Точное расположение всей территории святилища по отношению к мирскому стану
(лагерю) не указано, но, видимо, подразумевается, что скиния стоит в центре стана. Он
рассматривается как область нормативной Культуры (т. е. 'одомашненной',
'прирученной'),
противостоящая области 'за пределами стана' (т. е. пустынной зоне дикой
Природы).
Территория святилища в целом отгорожена от стана прямоугольной конструкцией
из занавесей (Исх. 27: 9-17). Вход - с южной стороны и выделен полотнищами ярких
расцветок. В центре этого 'двора' находится гораздо более основательное
сооружение с деревянными каркасными стенами и крышей из ткани (Исх. 26). Вход в палатку, также
отмеченный яркой расцветкой, - вновь на южной стороне; непосредственно перед ним во
дворе - жертвенник. Это искусно сделанный очаг, в котором постоянно горит огонь, поддерживаемый
священником. Сама палаточная конструкция делится на две части завесой: к северу от нее -
Святая Святых, она включает в себя Ковчег Завета и Трон Господень; к югу от завесы, и значит, между ковчегом
и жертвенником, существует промежуточное священное пространство, где находятся
стол и светильник (Исх. 26: 33-35).
В дополнение к этим разнообразным зонам
внутри стана где-то за
пределами лагеря, в пустыне, существует неопределенно названное 'чистое место', куда священник выносит золу от огня жертвенника и другие субстанции, 'зараженные
святостью', или 'грязные', настолько,
что оставлять их внутри стана слишком опасно.
Все пространство внутри собственно скинии
предназначено исключительно для священников, которым надлежит быть соответствующе одетыми и
находиться в состоянии ритуальной чистоты всегда, когда они поддерживают огонь,
будь то огонь жертвенника или огонь в помещении к северу от него. Ограничения,
связанные с се-
107
верной
половиной палаточного пространства - по ту сторону завесы, - еще более жестки.
Большое значение придается деталям
священнической одежды как отличительному знаку их ритуальных занятий. Когда
священник несет
золу от жертвенника в 'чистое место за пределами лагеря', он тоже должен быть
облачен в особые одежды, но другого рода.
Рядовые члены общины - миряне, желающие принять участие в ритуале, - могут войти в открытый двор
скинии, но не могут заходить за жертвенник.
Всякая связь между мирянином, приносящим жертвенный дар, и жертвенником должна
быть опосредована священником.
Совместимость левой половины схемы 9 с приведенным описанием, надеюсь,
очевидна. С точки зрения метафизической топографии стан представляет собой Этот Мир,
а Святая Святых - Иной Мир. Промежуточная зона, которая является средоточием
активных ритуальных
действий, существует в виде двух частей: двора (Зона А), который имеет относительно мирской
характер и свободен от табу, и южной стороны
скинии (Зона В), которая носит относительно священный характер и отягощена
табу. Жертвенник, вокруг которого
концентрируется большая часть ритуалов в скинии, стоит между этими двумя частями промежуточной зоны; он,
таким образом, является порогом, в топографической форме знаменующим переход от
нормального к анормальному, от Этого Мира к Иному.
Огонь жертвенника - это ворота в Иной Мир, канал, через
который
жертвенные дары могут быть переданы Богу, но также и канал, по которому
власть Бога может быть непосредственно явлена человеку (Левит 9: 4; 10: 2).
С местом поклонения покончили. Теперь давайте
рассмотрим структуру ритуалов, для которых данное место поклонения служит оправой. Первые главы
кн. Левит в значительной мере посвящены предписанным правилам поведения при разных
видах жертвоприношений.
Обратите внимание, как одни и те же элементы ритуального
поведения продолжают
воспроизводиться, соединяясь, однако, в разные
комбинации и разные последовательности. Эти элементы подобны буквам алфавита:
их можно комбинировать так, чтобы получались
названия разных вещей.
Глава 1 кн. Левит воспроизводит детали трех
типов жертвоприношения всесожжением. Основное различие
между этими типа-
108
ми заключается в
категории жертвенного животного (т. е. в том, сколько это стоит жертвователю): а)
телец; б) овен или козел; в) голубь. В каждом случае кровью жертвенного
животного кропят пространство вокруг жертвенника и дверь скинии, а тушу
разрезают на части. Эти части распределяют на: а) жертвенный дар; б) остаток. Жертвенный дар состоит по преимуществу из
почек и окружающего их жира, хотя в случае
с голубем он включает в себя почти всё, кроме зоба и перьев. Жертвенная часть всегда сжигается на жертвеннике; с
остатком обходятся по-разному. В наших примерах остаток начисто отмывают от содержимого желудка и
кишечника (которое выбрасывают в золу жертвенника), а затем сжигают.
Глава 2 описывает процедуру жертвоприношения
пищи Господу (жертва хлебная), которое оказывается жертвоприношением пищи священнику. Здесь нет требуемого обрядом
убийства животного, вместо этого часть еды
из домашних припасов смешивается с ритуальным
маслом, мукой и ладаном и передается священнику, а священник после этого берет символическую порцию и
сжигает ее на огне жертвенника. Заметьте, что священник не только вправе, но и обязан съесть эту пищу: пройдя через руки
священника, она 'заражается
святостью' и делается слишком опасной, чтобы опять возвращать ее в стан.
Глава 3 вводит понятие жертвы мирной. Процедура убийства жертвенного животного - та же, что и в
главе 1, и туша разделяется на части
сходным образом, но священнику в данном случае передаются только кровь и
жертвенная часть. Подразумевается, что приносящий
жертву забирает остальное себе. Однако определенные моменты общей процедуры раскрываются в этой главе
более ясно. Прежде чем жертвенное
животное убивают, жертвователь всякий раз
устанавливает метонимическую связь между собой и жертвой, прикасаясь к голове
жертвенного животного. Тут ясно подразумевается, что жертвенное животное в некотором метафизическом смысле является искупительной заменой самого
жертвователя. Обратите внимание,
кроме того, что в главе 3 (стих 17) сам состав 'жертвенного дара' используется как обоснование для
общего запрета приверженцам иудейской веры употреблять в пищу жир и
кровь.
В главе 4 говорится об искупительной
жертве и о роли жертвоприношения в ритуальном очищении. Отличительный признак
этого
обряда описан в стихе 11. 'Остаток' жертвенного животного, который в главе 1
сжигался на жертвеннике, а в главе 3 оставался жертвователю, здесь трактуется как в
высшей степени 'заражен-
109
ный' и in toto выносится на 'чистое
место вне стана', где его сжигают
в золе от жертвенника.
Однако теперь позвольте вернуться к
мифологическому рассказу из
кн. Левит о посвящении Аарона и его сыновей (главы 8-10). Обратите особое
внимание не только на то, кто, что, кому там делает, но и на последовательность событий. Данный рассказ предполагает
космологическо-этнографический контекст, о котором я уже писал. Рассказ многословен, в нем много повторов,
но почти каждая деталь иллюстрирует тот или иной теоретический принцип, который уже рассматривался в предшествующих
разделах моего эссе.
Дабы продемонстрировать это, я проведу вас через
упомянутый рассказ стих за стихом.
Кн. Левит (глава и стих)
Глава 8:
4. Общество собирается у входа в скинию (схема 9,
промежуточная
зона А).
6. Потенциальных
посвящаемых (Аарона и его сыновей) отделяют от общества и омывают водой. Обратите
внимание, что на этой стадии Моисей, уже утвердившийся в качестве священнослужителя-посредника,
который напрямую может общаться с Богом, действует как распорядитель церемонии.
7. Аарон как главный
посвящаемый отделяется от своих сыновей и облачается в особые регалии, которые
описываются в деталях.
10. Вся внутренняя часть скинии, а затем жертвенник и
связанные с ним ритуальные принадлежности кропятся ритуальным маслом, которым
затем помазывается также и голова Аарона (т. е. между Аароном и
священными принадлежностями жертвенника устанавливается метонимическая связь).
Обратите внимание, что это помазание и окропление маслом аналогичны окроплению
кровью жертвенного
животного (с. 108).
13.
Второстепенных
посвящаемых (сыновей Аарона) также облачают в особые одеяния.
14.
Затем
подводят тельца для искупительной жертвы, и Аарон с сыновьями касаются
руками головы тельца.
15-17. Моисей приносит в жертву тельца в
соответствии с правилами, изложенными в главе 4.
110
18-21. Моисей приносит в жертву 'овна для всесожжения' в соответствии с
правилами, изложенными в главе 1 (с. 107-108). Телец (искупительная жертва) из стиха
14 и овен (жертва всесожжением) из стиха 18 должны рассматриваться как связанная
между
собой пара по аналогии с парой голубей из кн. Левит (глава 5: 7-10). Оба
жертвоприношения похожи, но при этом различаются; общий смысл их - в уже
многократно повторенной теме 'отделения', в частности отделения чистого от нечистого.
Здесь вы можете почувствовать необходимость вернуться к схеме 7. С начальным
обрядом - 'обрядом отделения' - мы закончили.
22. Теперь подводят овна, который описывается как 'овен
посвящения'. Далее, в стихе 24, отождествление овна с Аароном и его сыновьями проводится
даже более последовательно, чем до того. Но когда предназначенная для 'жертвенного дара'
часть туши отделена, священник не сжигает ее обычным способом, но прежде передает Аарону и его
сыновьям. После того как посвящаемые воздели блюдо с жертвенным даром над
жертвенником, Моисей в качестве священника берет его вновь и сжигает
содержимое блюда, как и прежде.
29. Моисей и сам
осуществляет сходную процедуру 'воздевания' - с 'грудиной' овна посвящения (т. е. с
частью туши, которая в ином случае рассматривалась бы как 'остаток'), но не сжигает ее.
30. Следующее затем
помазание маслом и кровью повторяет тоже самое послание: Аарон отождествляется не с остатком жертвенной туши, а с той
частью, которая предназначается для жертвенного дара.
31.
Теперь
Моисей передает мясо 'остатка' Аарону и его сыновьям и велит им сварить его и
съесть, не выходя за пределы скинии и оставаясь там еще семь дней. Здесь снова
посмотрите на
схему 7.
Мы подошли к концу rite de marge, и теперь посвященный
священнослужитель, приобретя новый социальный статус, должен быть вновь
возвращен в общество посредством обряда приобщения.
Глава 9:
1-4. Здесь происходит еще одна серия
жертвоприношений - как и прежде, парных (см. выше комментарий к главе 8: 18-21):
111
|
а)
искупительная жертва (телец)
б)
жертвоприношение всесожжением (овен)
|
где
Аарон - жертвователь
|
|
в)
искупительная жертва (козел)
г)
жертвоприношение всесожжением (бычок и ягненок)
|
где
вся конгрегация - жертвователь
|
|
д) жертвоприношение хлебное (стих
17) е) жертва мирная
|
для
всей конгрегации
|
Перечисленные процедуры - те же самые, что
были описаны в главе 8, с той только разницей, что теперь все священнические функции, прежде
закрепленные за Моисеем, исполняет Аарон.
Кульминация наступает в стихе 24, где
действенность священнического служения Аарона демонстрируется тем, что 'вышел
огонь от
Бога и сжег жертвоприношение всесожжением и жир на жертвеннике'. Это
проявление божественной силы соответственно сопровождалось шумом: 'Народ воскликнул
от радости' (ср. с. 77).
Но вспомним, что, согласно
мифолого-метафизической трактовке таких процедур, Аарон сям является жертвой,
отправленной в Иной Мир для установления канала общения с божеством, поэтому, для того
чтобы опять вернуться к нормальному состоянию в своем новом священническом
статусе, Аарон должен принести в жертву (путем отделения) часть себя самого.
Глава 10:
1-5. Итак, в данном мифе фигурируют два
сына, Надав и Ави-уд, истребленные огнем Бога. С их телами обращаются не как с обычными
человеческими трупами, а как с 'остатком' искупительной жертвы, т. е. их
выносят за пределы стана без соблюдения обрядности. То, что приведенный миф выражает не
идею божественного воздаяния, а идею очищения посредством жертвоприношения, становится ясно из
того, что 'несовершенные' сыновья (Надав и Авиуд) быстро заменяются совершенными
сыновьями (Елеазаром и Ифамаром) (стих 12). Более того, сразу вслед за
рассказом об истреблении Надава и Авиуда (стих 1- 7) следует наставление о важности проведения
'различия между священным и несвященным, чистым и нечистым'.
Между прочим, структуралистский взгляд,
делающий Елеазара и Ифамара 'заменой' Надава и Авиуда, лучше, чем сами герои
повествования,
объясняет то, что в противном случае ставит в тупик
112
в главе 10: 16-20.
'Искупительная жертва на святом месте', которую не стали есть Елеазар и Ифамар, - это (в
силу замещения) тела их мертвых братьев, или (в силу последующего замещения) их собственные тела!
Теперь я хочу, чтобы вы пропустили несколько
глав и обратили пристальное внимание на главу 16 кн. Левит, главу, которая описывает процедуру
принесения в жертву козла отпущения. Мне хотелось бы, чтоб вы поняли, что эта,
кажущаяся аномальной, форма жертвоприношения является всего лишь трансформацией
предыдущих
форм и соответствует тому же самому набору космологических понятий, а
также метафорических и метонимических ассоциаций.
Основная мысль здесь та, что, раз в Святая Святых на
Троне Господнем
может присутствовать сам Бог, то даже Аарону как первосвященнику
позволено входить в северную часть скинии (схема 9) только после выполнения
специально разработанных обрядов очищения.
В общей сложности в эту процедуру вовлечены пять жертвенных животных:
|
а)
искупительная жертва (телец) б) жертвоприношение всесожжением (овен)
|
где Аарон - жертвователь (стих 3)
|
|
в)
искупительная жертва (два козла) г) жертвоприношение всесожжением (овен)
|
где вся конгрегация - жертвователь (стих 5)
|
Для данного случая характерно, что двух
козлов вначале разделяют с помощью жребия, т. е. посредством божественного
вмешательства (стихи 8-10), а
затем обходятся с каждым по-разному. Общая
процедура в отношении всех животных - за исключением козла, избранного в
качестве козла отпущения (стих 8), - та же, что и прежде, кроме особой оговорки, что
окропить кровью должно всю Святая Святых, включая Трон Господень; что же
касается козла отпущения, то он является объектом особого ритуала (стихи 21- 22). Посредством
словесного магического заклинания грехи общества совокупно переносятся на этого
козла. Затем козла отводят в необитаемое место и оставляют там живьем.
С другим же козлом и с тельцом поступают как
с обычной искупительной
жертвой согласно описанию из главы 4 (см. выше, с. 108-109).
113
Если взять в целом последовательность событий, связанных с козлом отпущения, то
она является точным перевертыванием последовательности событий, связанных с
Аароном. Аарон, шаг за шагом отделяя себя от мирской скверны общества и от
собственных несовершенств, в конечном счете оказывается, чист и свят, посреди стана. Козла же
отпущения, поэтапно отделяемого от других козлов и других жертвенных животных,
нагружают той скверной, от которой освобождаются общество и Аарон, а затем козел,
нечистый и нечестивый (но тем не менее 'священный'), оказывается далеко, в пустыне.
Главный принцип здесь в том, что отделение духовной
сущности от
материального тела в момент смерти является образчиком того, как происходит
изменение социального статуса у людей. Во всех видах обрядов перехода постоянное
использование жертвоприношений животных в качестве вех, отмечающих отдельные
стадии, эксплуатирует приведенную выше модель.
И наоборот, в случае с козлом отпущения нам нужен символ для обозначения
существа, которое удаляется с ритуальной сцены, но при этом не отделяется от своей
нечистоты. Поэтому естественно, что козла отпущения не убивают.
Я
надеюсь, что убедил вас в том, что при этнографическом исследовании внимание к мелким деталям действительно
имеет значение.
Кое-кто из вас может спросить, в какой степени
эти весьма общие положения, касающиеся интерпретации, можно применить к христианским
обрядам и применимы ли они к ним вообще.
Жертвоприношение в христианстве появляется лишь в замещающей символической
форме, со ссылкой на мифологию. Согласно мифу, богочеловек Христос был убит злонамеренными людьми. Но в результате сложной трансформации это
(ретроспективно) стало жертвоприношением в том смысле, что данное убийство было
угодно Богу. Это жертвоприношение является теперь постоянным каналом, по которому милость Господа может изливаться
на благочестивого верующего. Жертвователем является сам Христос, а священник, предлагая
собравшимся хлеб и вино в качестве 'тела и крови Христовой', тем самым как бы постоянно воспроизводит жертвоприношение - по
завету божественного Жертвователя.
Поскольку так случилось, что нам многое
известно об истории христианства, мы можем констатировать, что в данном
конкретном
114
случае
чрезвычайно много перекрестных ссылок и символических трансформаций.
Христианская литургия в целом представляет собой трансформацию еврейской пасхи, а
распятый Христос 'является' жертвенным пасхальным ягненком, 'агнцем Божьим'. Хлеб и
вино поэтому
ассоциируются с пищей от жертвоприношения не только метафорически, но и
метонимически (ср. Левит, 23).
Эти вопросы крайне сложны, но при всем при том должен
сказать, что метафора, которая проанализирована мной и в соответствии с которой Аарон
сам должен испытать страдания жертвы, прежде чем сможет стать полноценным
постоянным посредником между Богом на Троне Его и греховным страждущим обществом,
- эта
метафора структурно действительно очень близка к христианской идее о том, что
Иисус должен умереть, прежде чем станет полноценным постоянным посредником между
Богом и страждущим человечеством.
Теологическая литература на эту тему обширна,
но наивна с антропологической точки зрения. Современный уровень антропологического анализа весьма
редок. Работа, в которой в определенной степени используется терминология нашего
эссе, принадлежит Фернандесу [Fernandez, 1974].
115
Теперь, когда мы подошли к концу, я предлагаю вам вернуться
в начало
и перечитать мое введение, а затем решить, насколько я выполнил свои
обещания.
Целью пространного разговора о
жертвоприношении в разделе 18 было проиллюстрировать мои первоначальные
утверждения о том, что 'деталь - это суть дела', что 'каждая деталь обычая должна восприниматься
как часть некоего комплекса', что 'детали, рассматриваемые изолированно, так же лишены
смысла, как и взятые в отдельности буквы алфавита'. Но давайте рассмотрим эту аналогию с буквами
алфавита более пристально. Что представляет собой процесс, посредством которого мы
заставляем буквы передавать информацию? Сначала из бесконечного количества
возможных
значков мы отбираем 26 и заявляем, что эти 26 значков составляют некий набор.
Затем мы проводим инвентаризацию звуков нашей устной речи, совершенно произвольно
разрезая на части весь континуум голосовых модуляций. Затем мы закрепляем
произвольно
выделенные звуки за произвольно выделенными буквенными значками и
окончательно наводим порядок, придумывая несколько специфических комбинаций
для тех звуков, которые остались без буквенного соответствия. Затем, наконец,
нанизывая буквы в определенной
последовательности, мы создаем нечто вроде модели естественной речи или, во всяком случае, ее идеализированной версии.
Если вы тщательно обдумаете факты,
содержащиеся в моем примере с жертвоприношением, вы увидите, что приведенная
аналогия
прослеживается гораздо глубже. Элементы ритуала ('буквы алфавита'), взятые
сами по себе, ничего не значат; они обретают значение благодаря тому, что противопоставляются
другим элементам. Более того, если эти несхожие буквы можно соединять в наполненные смыслом
сочетания только при условии ограничения их рамками особой конфигурации (например,
линейного расположения на листе бумаги), то точно так же и несхожие между собой элементы ритуала можно
соединять по-разному для создания целостного послания, только если каждая конкретная
комбинация осу-
116
ществляется
в рамках общей для всех системы представлений (при этом структура ее
обусловлена тем же способом, каким создаются сами комбинации: и в смысле
пространства, и в смысле последовательности элементов).
Но, изложив эту точку зрения, я бы настоятельно
рекомендовал вам относиться к аналогии между ритуалом и языком - или во всяком случае между
ритуалом и письменным языком - с известной осторожностью.
Суть моей аргументации заключается в том, что
невербальная коммуникация обычно достигается тем же способом, каким дирижер оркестра передает
музыкальную информацию своим слушателям, а не так, как автор книги передает вербальную
информацию своим читателям (ср. раздел 9). Вытекающая отсюда главная мысль состоит
в том, что знаки и символы передают смысл, когда они сочетаются друг с
другом, а не тогда, когда представляют собой наборы бинарных знаков в линейной последовательности
или наборы метафорических символов, связанных единой парадигмой. Говоря иначе, мы должны
многое знать о данном культурном контексте, о 'художественном оформлении сцены', прежде
чем сможем хотя бы начать расшифровывать послание.
В этом отношении, я полагаю, моя система аргументации
совместима с общей позицией Мэри Дуглас и с гораздо более детальными
исследованиями Виктора Тернера. Однако ее следует четко отличать от позиции
Фирта [Firth, 1973]. Фирт посвящает отдельные главы своей книги 'Пищевой символике',
'Символике волос', 'Телесной символике приветствия и прощания', 'Символике флагов', 'Символике
обмена подарками'. Каждая разновидность символов рассматривается в отдельности, и в
рамках каждой разновидности использование каждого символа иллюстрируется
конкретным примером. Ближе всего к такому подходу в данном эссе - раздел 13, где манера одеваться, цветовая символика,
приготовление пищи и нанесение телесных
повреждений рассматриваются как разные проявления 'одних и тех же' бинарных оппозиций; т. е. мой тезис состоит в том, что каждый из этих кодов потенциально
представляет собой трансформацию
любого другого.
Общий комплекс идей, содержащихся в концепции
структурной трансформации, представляется мне
вполне основательным. Особый язык профессиональных терминов, примененный мной в
разделе
2, призван сделать концепцию трансформации достаточно
117
понятной. Тем, кто
предпочитает использовать другой набор категориальных различий, нужно это учитывать.
С другой стороны, читатель обратит внимание,
что в моем эссе нет ни единой ссылки на Фрейда. Психоаналитическая теория претендует на причинное
объяснение того, как связаны между собой частные (уникальные) символы, но поскольку
доказано, и с достаточным основанием, что все стандартные для культуры символы в свое время должны были
возникнуть как уникальные, то психоаналитики часто претендуют на то, что способны
'объяснить' также и стандартные символы.
В нескольких более ранних публикациях (см. особенно [Leach, 1958; 1972]) я
рассмотрел вопрос о том, насколько совместимы психоаналитические и
структурно-антропологические интерпретации символических связей. Мой общий вывод
состоит в том, что догадки психоаналитиков, возможно, довольно часто правильны,
но та 'теория', которой они стремятся обосновать свои догадки, настолько незрела в
интеллектуальном отношении и настолько лишена тонкости, что практически не представляет
ценности как общий инструмент для исследования этнографических данных. С другой стороны, многие
фрейдистские интерпретации символического поведения абсолютно совместимы с теорией,
обрисованной данным эссе.
Это вопрос, над которым серьезным социальным антропологам
нужно хорошенько подумать, однако это не та проблема, которую можно
удовлетворительно разобрать на предоставленном мне здесь пространстве.
Под занавес я убедительно прошу моих
читателей, студентов младших курсов, чтобы они, взяв на вооружение
аналитический аппарат, предлагаемый данным эссе, вернулись теперь к одной из великих классических
монографий по социальной антропологии и посмотрели, нельзя ли получить от нее еще
что-то. К примеру, не
добавляет ли Лич [Leach, 1971] что-нибудь к Рэдклифф-Брауну [Radcliffe-Brown,
1922]? Думаю, добавляет.
118
(а) Приводимые ниже работы либо упомянуты
непосредственно в тексте книги, либо ссылка на них подразумевается.
Barth, 1966 - Barth F. Models of Social Organization // Royal
Anthropological Institute. Occasional Paper, 1966, No.
23.
Barthes, 1967 - Barthes R. Elements of Semiology. L, 1967.
Bauman, 1974 - Bauman R. Speaking in the Light: the Role of the Quaker Minister
// Explorations in the Ethnography of Speaking. Cambridge, 1974. Cassirer, 1957 - Cassirer E. Philosophy of Symbolic Forms. 3 vols. New Haven, 1953-1957.
Douglas, 1966 - Douglas M. Purity and Danger. L. , 1966.
Douglas, 1970 - Douglas M. Natural Symbols. L, 1970.
Douglas, 197Z - Douglas M. Symbolic Orders in the Use of Domestic Space // Man,
Settlement and Urbanism. Cambridge (Mass. ), 1972, p. 513-521.
Evans-Pritchard, 1956 - Evans-Pritchard E. E. Nuer Religion. Oxf, 1956.
Fernandez, 1965 - Fernandez J. W. Symbolic Consensus in a Fang
Reformative Cult // American Anthropologist, 1965, vol. 67, p. 902-929.
Fernandez, 1974 - Fernandez J. W. The Mission of Metaphor in Expressive
Culture // Current Anthropology, 1974, vol. 15, p.
119-145.
Firth, 1973 - Firth R. Symbols; Public and Private. L. , 1973.
Geertz, 1973 - Geertz C. Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture // Geertz C. The Interpretation of Cultures. Selected Essays by Clifford Geertz. N. Y. , 1973, p. 3-30.
Hjelmslev, 1953 - Hjelmdcv L. Prolegomena to a Theory of Language. Bloomington, 1953.
Jakobson-Halle, 1956 - Jakobson R. , Halle M. Fundamentals of Language (Janua Linguarum:
Series Minor 1). The Hague, 1956.
Leach, 1954 - Leach
E. R. Political Systems of Highland Burma. L, 1954.
Leach, 1958 - Leach E. R. Magical Hair // Journal of the Royal Anthropological Institute, 1958, vol. 88, p. 147-164.
Leach, 1961 - Leach E. R. Pul Eliya: A Village in Ceylon. Cambridge, 1961.
Leach, 1964 - Leach E. R Anthropological Aspects of Language: Animal Categories and Verbal Abuse // New Directions in the Study of Language. Cambridge (Mass. ), 1964.
Leach, 1970 - Leach E. R Claude Levi-Strauss. N. Y, 1970.
Leach, 1971 - Leach E. R Kimil: A Category of Andamanese Thought // Structural Analysis of
Oral Tradition. Philadelphia, 1971.
Leach, 1972 - Leach
E. R The Structure of Symbolism // The
Interpretation of Ritual. L,
1972.
119
Levi-Strauss, 1949 - Levi-Strauss С. Les
structures élémentaires de la parente. P. , 1949.
Levi-Strauss, 1955 - Levi-Strauss
C. The Structural Study of Myth // Journal of American Folklore,
1955, vol. 68, No. 270 (исправленная и дополненная версия этой статьи напечатана в виде главы 11 книги Леви-Строса 1963 г. ).
Levi-Strauss, 1962 - Levi-Strauss С. Totemism.
L, 1962.
Levi-Strauss, 1963 - Levi-Strauss С. Structural
Anthropology. N. Y. , 1963.
Levi-Strauss, 1966a - Levi-Strauss C. The Savage
Mind. Chicago, 1966.
Levi-Strauss, 1966б - Levi-Strauss C. The
Culinary Triangle // New Society (L. ), 1966, 22 December, No.
1. 66,
p. 937-940.
Levi-Strauss, 1966в - Levi-Strauss
C. Mythologiques 2: Du miel aux cendres. P. , 1966.
Levi-Strauss, 1970 - Levi-Strauss C. The Raw and
the Cooked. L. , 1970.
Malinowski, 1922 - Malinowski B, Argonauts
of the Western Pacific. L. , 1922.
Maranda, 1971 - Maranda E.
K. , Maranda P. Structural Models in Folklore and Transformational
Essays. The Hague, 1971.
Mauss,
1954 - Mauss M. The Gift. L. , 1954.
Mauss-Beuchat, 1906 - Mauss M. . ,
Beuchat M. H. Essai sur les variations saisonnières des sociétés
Eskimos // L'Année sociologique 1904-1905, 1906, ? 9.
Morris
Ch. , 1971 - Morris Ch. Writings of the General Theory of Signs (Approaches
to Semiotics 16). The Hague, 1971.
Mulder-Hervey, 1972 - Mulder J. W. F. , Hervey
S. G. J. Theory of the Linguistic Sign (Janua Linguarum: Series Minor 136). The Hague, 1972.
O'Flaherty, 1973 - O'Flaherty W. D. Asceticism
and Eroticism in the Mythology of Siva. L, 1973.
Peirce, 1931-1935 - Peirce Ch. S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge (Mass. ), 1931-1935.
Radcliffe-Brown, 1922 - Radcliffe-Brown
A. R. The Andaman Islanders, Cambridge, 1922.
Right and Left, 1973 - Right and Left: Essays in Dual Symbolic
Classification. Chicago, 1973.
Saussure, 1966 - Saussure F. de. Course in
General Linguistics. N. Y. , 1966.
Turner,
1967 - Turner V. W. The Forest of Symbols. Ithaca, 1967.
Wolf, 1970 - Wolf A. P. Chinese
Kinship and Morning Dress // Family and Kinship in Chinese
Society. Stanford, 1970, p. 189-208.
(b) Предложения для
более углубленного изучения темы.
Даже беглый просмотр длинных списков библиографий,
представленных Р. Фиртом [Firth, 1973] и Дж. Фернандесом [Fernandez, 1974], показывает,
что объем
предлагаемых для прочтения материалов, которые имеют потенциальное отношение к
теме нашего эссе, огромен. Поэтому более углубленное чтение должно зависеть
главным образом от интересов конкретного читателя. Приводимые ниже названия - это
преимущественно тематические
120
сборники. Если не
считать работ, непосредственно затрагивающих математическую теорию
коммуникации, все остальные отобраны по причине того, что в них акцентируются
визуальные, психологические и этнологические аспекты человеческой коммуникации,
которые были недостаточно представлены в предыдущем списке библиографии (а).
Birdwhistell,
1970 - Birdwhistell R Kinesics and
Context. Philadelphia, 1970.
Communication and Culture, 1966 -
Communication and Culture // Readings in the Codes of Human Interaction. N. Y. , 1966.
Directions in Sociolinguistics,
1972 - Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication. N. Y. , 1972.
Linguistics
at Large, 1971 - Linguistics at Large. N. Y. , 1971.
Man and His
Symbols, 1964 - Man and His Symbols. L, 1964.
Marshak, 1972 - Marshak A. The Routes
of Civilisation: The Cognitive Beginnings of Man's First Art, Symbol and Notation. L. , 1972.
Non-Verbal Communication, 1972 - Non-Verbal
Communication. Cambridge, 1972.
Pierce,
1962 - Pierce J. R Symbols, Signals and Noise. L, 1962.
Sign, Image
and Symbol, 1966 - Sign, Image and Symbol. L, 1966.
The Ethnography of
Communication, 1964 - The Ethnography of Communication // American
Anthropologist. Special Publication, 1964, vol. 66, No. 6, pt 2.
The Interpretation of Symbolism, 1975-The
Interpretation of Symbolism. L, 1975.
Transcultural Studies in Cognition, 1964 -
Transcultural Studies in Cognition // American Anthropologist. Special Publication, 1964, vol. 66,
No. 3, pt 2.
121
Аарон 103, 109-114
Авраам 90, 98
Австралия 80
Адам 90
Аийанар (Сканда) (см, также индуизм) 90-91
актерская игра 24
алгебра 20, 22, 36,
80-82
Аристотель 11, 85
аскетизм 90-92
Барт P. (Barthes R. ) 16
Барт Ф. (Barth F.
) 10
Бауман P. (Bauman R. ) 78
Бетховен Л. ван 12, 56-57
Библия (см. . также христианство) 8, 22, 29, 89, 91,
103-106
бинарное кодирование
61, 68, 74, 78, 92
аскетизм-экстаз 90-92
жесты 15, 17, 57, 60
жизнь-смерть
52, 73
компьютерные
программы 69-70
космология
78, 89, 104-105,109, 112
одежда
17, 67-69, 71-73, 75, 80, 95-96, 107
приготовление
пищи на огне 17, 63, 73-74, 116
'рукотворная'
топография 63-64
символика
цвета 70, 73, 116
телесные
повреждения 75-76, 97, 116
шум-тишина
77-78
брак 36,
71, 80-81
буддизм
72-73
вдова 27, 36, 67-68,
70-72, 75, 96
вера 37
взаимности принцип
12-13, 82, 102
Вико Джамбаттиста 11
время, его
сегментация 44-45
синхрония/диахрония
32-34, 56-57
Ганеша (см. также индуизм) 89
Гарднер P. (Gardner R. ) 60
гармония 24, 34, 55
геометрия 63
Глакман М. (Gluckman M. ) 10
Гор 90
грамматика 17, 67
граница 13, 22, 32,
44-46, 68, 75-77
грязь (см. . также загрязнение) 27, 66, 75-77, 88, 92-93, 95,
106
двойственность 18, 27, 30, 37, 41, 44, 60, 73, 75-76, 88,
92-93
действие, его аспекты:
биологический 15
вербальный 14-15,
25-26
'выражающий' 15, 37,
41
невербальный 17, 20,
25
технический 15, 32,
37-39, 41, 48,
62-64, 73, 85
Декарт P. (Descartes R. ) 11
Дуглас Мэри (Douglas
Mary) 9, 75, 116
евреи 83-84
Елизавета (Евангелие
от Луки) 91
жертвоприношение 95-96, 99, 101 - 104, 107-115
живопись 24
жизнь 73
загрязнение (см. . также грязь) 27
заклинание 39, 41, 112, 122
122
змея (как символ) 19
знак 16-28, 30-33, 38-43, 49-50, 55-63,67-68,85,87,102,116
лингвистический 20, 26
изображение 19, 22, 30, 62
Иисус Христос 13, 27, 49
индексы 19, 20, 22, 32-33, 37-40, 50,
63-64, 69, 85-86
индуизм (см. также Аийанар, Ганеша, Парвати, Шива) 51, 89-91, 93
Исаак 90, 98
Иуда 91
каламбур 26-27
карты, географические 19, 22, 62
квакеры 78, 83
китайцы 60, 72
колдовство 37, 39-43, 50
коммуникативное событие 19
'Конкретные
исследования в культурной антропологии' 8
контекст (см. также сущностная связь) 8, 12, 21-22, 27-29, 43-45, 49-53, 60-61, 65-74, 78, 85, 87, 99, 103-105, 109, 116
конфигурации (см. . также контекст) 16-17, 25, 43, 56, 62-64, 67, 72, 115
корона (как
знак/символ) 19, 21-22, 39,68
культ 24, 92, 105
Леви-Строс К.
(Levi-Strauss С. ) 10-11, 23, 34-35, 37, 52, 55-56, 73-74, 80-81, 93
лечение 24
Лич Э. Р. (Leach E. R. ) 13, 117
логика И, 39,
51, 75, 82, 85-86, 89-90,
96, 99, 101
лоло 71
магия 37, 41-42
Малдер
Дж. (Mulder J. W. F. ) 20, 22, 26, 28
Малиновский Б. (Malinowski В. ) 10, 12,71,93
Маранда П. , Маранда Э. К. (Maranda P. , Maranda E. K. ) 35
Мария, Дева 91,93
Мария Магдалина 91, 93
мелодия 23-24, 34, 55-57
метафора 19, 22-31, 34-40, 45, 49-55, 62-66, 72-75, 78, 86-89, 92,97-99, 102-103, 112-116
метонимия 19, 22-23, 30-40, 50-51, 53, 55, 63, 68, 73, 80,
85-89, 102, 108-114
миф, мифология 11, 29, 34-37, 48-49, 53-56, 58, 70, 74, 85-93, 98, 103-104, 109-113
музыка 12-14, 17, 23-25, 36, 44, 53-57,62,70, 116
ндембу
72
невеста 27, 36, 60, 67-71, 95
нуэры (Эванс-Причард) 102
образ,
сенсорный 25-28, 30, 38, 40, 47-48, 56
обрезание 75, 97-98
обривание 72, 75, 92, 95-97
обряды
перехода 45-46, 68, 75, 95, 97, 101-103, 107, 113
объяснение (в
социальной антропологии)
9-10, 53,62,78, 117
омоним 26
ориентация, пространственная 65-66
Осирис 90
очищение
75-76, 95-97, 103, 108, 111-112
Павлов И. П. 33, 37-38, 59
парадигматическая ассоциация (связь) 23-24, 34-36, 55
Парвати
(см. также индуизм) 90, 93
пение
24
пенис
26, 51, 59
петух
(как символ) 26
письменность 17,
24, 57, 85, 123
123
плач 32, 59, 77
поведение
(см. действие) 7, 10-15, 17, 25, 41-43, 49, 51, 55, 59, 68, 73-77, 83, 86, 90, 92, 94, 99, 104, 107, 117
подарок (одаривание) 13, 43, 74, 102, 116
поза 17
понятия 10, 13-14,
20-30, 34, 44, 48-49, 61, 65, 73, 80, 86-88, 92, 100, 108, 112
порог (см. также граница) 46, 76, 89, 105,
107
пространство, его
сегментация 43-46, 49, 53, 62-66, 76-77, 87-96, 99- 108, 116-117
профессиональный язык
(см.
. также терминология) 24, 35-36
психоанализ 117
пустыня 89, 106, 113
ранжированность
понятий 64-65
Рахиль 91
рационализм 9-13, 25,
81
Ревекка
91
речь 17,
24
ритуал как пограничная веха
46-49, 53-55, 58
Рэдклифф-Браун
А. Р. (Radcliffe- Brown A. R. ) 10, 117
Сарра 91
свинья
(как знак/символ) 20, 28, 30, 40
священное
(метафоры для него) 45- 46, 102-105
сделки коммуникативные 9
экономические
8-9
секс, сексуальные отношения
26, 83, 89, 90-94
семиология
(семиотика) 25, 49, 80
семя (сперма) 73
сигнал 16, 20, 25,
32-33, 37-43, 50, 58-60, 63-64, 70, 77
сигнум 19-22
сила (бессилие) 76-77, 88-91, 100, 102
символ 16-31, 38-44, 48-51, 55-61, 65-73, 85-86, 92, 102,
104, 113-117
синоним
26-27
синтагматическая цепочка 23-24, 33-36, 55
Сиф 90
смерть 52,
73, 88-90, 97-103, 113
сознание 11-12, 25-30, 37, 40, 48-52, 56-59, 73-74, 80,
87
сон 63, 70
Соссюр Ф. де (Saussure F. de) 23, 25- 26
статус 10, 13, 44-45
строительство 24, 106
структурализм 11
структурный
функционализм 7, 10
сущностная
связь (см. также контекст)
8, 12, 21-22, 27-29, 43-45, 49-53, 60-61,
65-74, 78, 85, 87, 99, 103-105, 109,
116
табу 26, 46, 60, 63, 75-77, 83, 88, 107
инцестуальное 93
Тайлор Э. (Tylor E. ) 93
талленси (Фортес) 8
танец 24
Тереза, св. 92
терминология (см. также профессиональный язык) 24,
35-36
термины родства 80
Тернер В. (Turner V. ) 72, 116
тикопиа
(Фирт) 8
тотемизм
51-53
трансформация 11-12, 24, 34-36, 50-51, 80, 93-94, 102,
112-116
Тробрианские
о-ва (Малиновский) 71
Фамарь 91
Фернандес Дж. (Fernanadez J. W. ) 114
Фирт P. (Firth R. ) 10, 116
Фортес М. (Fortes M. ) 10
Фрейд 3. (Freud S. ) 117
Фрэзер Дж. (Frazer J. G. ) 37-41, 64
хамар 60
Херви С.
(Hervey S. G. J. ) 20, 22, 26,
28
христианство 27, 29, 36, 49, 55, 71, 84, 86, 93, 106
литургия
13, 105, 113-114
мистицизм 92
символы (см. . также Библия) 8, 22, 29, 89, 91,
103-106
цвет (как символ)
70-73, 116
Цейлон (Шри-Ланка) 73
Шива (см. также индуизм) 51, 90
Эванс-Причард Э. (Evans-Pritchard E. E. ) 11, 102
эмпиризм 9-13
эскимосы 9
Эфиопия 60
Якобсон P. (Jakobson R. ) 23, 34, 38
125
Сэр Эдмунд Рональд Лич (1910-1989) на
своей родине, в Англии, был известен не только
специалистам-антропологам. Он был признан образованной публикой,
получил титул баронета. Его творчество отвечало общественному
интересу ко всеобщим условиям человеческого существования. Лич действительно
занимался тем, что в широком смысле можно назвать экологией человека. Для этого
он привлекал методы естественных и социальных наук, а также
философии и никогда не чурался политических дебатов.
Все это проявилось уже в
его первой, очень талантливой монографии 'Политические системы
Верхней Бирмы' (1954)1. В ней он скрупулезно изучил
'демократическую' и 'аристократическую' политические системы у
качинов и шанов Мьяммы, видя решение проблемы их балансирования в
искусственно созданной экологической среде на основе подсечно-огневого
земледелия у первых и орошаемого - у вторых2. Но такую, довольно
узкую постановку социально-политических проблем он постоянно
расширял, став одним из теоретиков структурно-функционального метода. Этому
сопутствовало вовлечение в орбиту его научного внимания самых
разных обществ, начиная с архаических и кончая современными.
Интересы Лича были разносторонними, а его творчество отличалось
интеллектуальной глубиной. Он изучал горные и равнинные народы
Юго-Восточной Азии, мифы древней Греции и сюжеты из Ветхого
Завета, магию и антропологию человеческого тела, архитектурную
эстетику и социологию 'гидравлических' обществ (основанных на экономике
с искусственным орошением). Последняя тема связана со знаменитой
теорией Карла Виттфогеля3, вызвавшей бурные дискуссии
в середине только что прошедшего столетия и достигшей наших пределов
в связи с обсуждением азиатского способа производства.
Такую широту интересов
никак нельзя поставить в вину исследователю-антропологу; но за что,
пожалуй, можно его критиковать, так это за желание
1Leach E. Political Systems of Highland Burma. L, 1954.
2Чеснов
Я. Е. Концепция этнической общности в работах Э. Лича. -
Этнологические исследования за рубежом. М.
, 1973, с. 126-142.
3 Wittfogel
K. A. Oriental Despotism: A Comprehensive Study of Total Power. New Haven, 1957.
126
следовать
новейшим модным течениям, что чрезвычайно усложняет анализ его творчества. Но в
целом мы должны быть благодарны Эдмунду Личу за то, что все его метания
остались в рамках сравнительного метода, если понимать его самым расширенным
образом как внимание ко всем человеческим обществам, а также за то, что он
разрушил противопоставление 'нас, современных' и 'их, примитивных'. Благодаря этому его
имя стоит в одном ряду с именами крупнейших антропологов-полевиков и одновременно
теоретиков социальной (культурной)
антропологии, таких, как Льюис Генри Морган, Бронислав Каспар Малиновский, Арнольд Рэдклифф (Радклифф)-Браун,
Клод Леви-Строс и др.
На становление Эдмунда Лича как ученого, несомненно,
повлияло и то, что он в молодые годы изучал математику и инженерное дело, и то, что он путешествовал по
Китаю. Только после этого 27-летний Лич обратился к изучению
антропологии в Лондонской школе экономических и политических наук (ЛШЭПН). Его руководителем был
основатель и пропагандист функциональной теории Бронислав Каспар Малиновский.
Диссертацию Лич защитил в 1947 г. Материал для нее он начал собирать в Бирме еще до Второй
мировой войны, где она его и застала. В 1947-1953 гг. Лич преподает в
ЛШЭПН. После выхода в свет монографии 'Политические системы Верхней Бирмы', где
Лич широко пользуется принципами экологического анализа, его внимание привлекают крупные сообщества долинных рисоводов.
Он отправляется на Шри-Ланку (Цейлон)
и всесторонне изучает одно поселение в
Северо-Центральной провинции острова. Исследование, посвященное деревне Пул
Элия, выходит в свет в 1961 г. 1
Но, видимо, прямолинейный экологический
детерминизм все больше не устраивает Лича, и он пишет работу, как бы подводящую
итог раннему периоду своего творчества - 'Переосмысливая антропологию' (изд. в том же,
1961 г. )2. Ученого все больше
интересует структурно-функциональный анализ, но не как представление о жестких
структурах общества, а как взгляд на систему подвижных отношений между миром
идеальных ценностей, с одной стороны, и экономическим и социально-политическим
поведением индивида - с
другой. В монографии о Пул Элия он уделил огромное внимание землевладению,
землепользованию и системам родства. В 1957 г. начинается его интенсивная преподавательская работа в
Кембридже. Будучи профессором, он
читал курсы по социальной антропологии до 1978 г.
Книгу 'Культура и коммуникация: логика взаимосвязи
символов'3 Лич опубликовал в свой профессорский период, непосредственно предназначая ее для
студентов-антропологов младших курсов. Более академическое изложение его взглядов на
культуру отражено в 'Социальной антропологии' (1982)4.
1 Leach E. R Pul Eliya: A Village in Ceylon. Cambridge, 1961.
2 Idem. Rethinking Anthropology. L, 1961.
3 Idem. Culture
and Communication: the logic by which symbols are connected. Cambridge-London-New York-Melbourne, 1976.
4 Idem. Social Anthropology. L. , 1982.
127
Все творчество Лича характеризует его как человека живого и даже ироничного ума, что
видно хотя бы по тому, что он написал долго не публиковавшуюся статью,
где сопоставил церемонию возведения его в рыцарство и обряд жертвоприношения свиней на
о. Калимантан (Борнео).
Кратко
охарактеризуем школу, в которой Э. Лич обучался ремеслу социального антрополога. Она связана с именем Б. К.
Малиновского (1884- 1942). Студентом
в Кракове Малиновский изучал математику и физику. В антропологию он пришел благодаря чтению 'Золотой
ветви' Джеймса Фрэзера. Малиновский,
проведя в 1914-1918 гг. полевые исследования на Тробрианских островах и в заливе Папуа на Новой Гвинее, усовершенствовал
принципы методики полевой этнографической работы. С 1924 г. он преподавал антропологию в ЛШЭПН, став в 1927 г. профессором. Малиновский вместе с Рэдклифф-Брауном провозгласили
функционализм, причем в одно время - в 1922 г. Основные положения нового подхода к изучению культуры,
общества и человека Малиновский изложил в книге 'Аргонавты Западной части Тихого океана'1. Развитие
функционализма как системы отражено в 'Научной теории культуры', изданной в 1944 г. , уже после смерти
Малиновского2.
Основные принципы теории Малиновского таковы: 1)
детальное эмпирическое
изучение небольшого общества усилиями одного этнографа, 2) его постоянный и непосредственный контакт с членами
этого общества, 3) необходимость проведения функционалистской теории, которая
все явления данной культуры рассматривает как прямое выражение основных
человеческих потребностей. Ученый настаивал на том, что любой обычай или
материальный объект выполняет некую витальную
функцию. На этом была основана теория
Малиновского о 'основных потребностях' (basic needs).
Функционализм Малиновского, как и близкие ему взгляды
Рэдклифф-Брауна,
нанесли существенный удар эволюционистским и диффузионистским концепциям, которые грешили изолированным
изучением отдельных черт культуры. Малиновский высоко ставил значимость
традиции как формы коллективной адаптации
общности к окружающей среде. Традиция в его понимании имела витально-биологическую функцию, без которой социальный организм обречен на вымирание3.
Воздействие на Лича другого столпа функционализма,
Альфреда Реджинальда
Рэдклифф-Брауна (1881-1955), естественно, было также велико. Рэдклифф-Браун придавал особое значение понятию
'социальная структура', что уже
проявилось в его первой монографии 'Андаманские островитяне', обстоятельном описании одного из самых архаических
народов на земле4.
1 Malinowski
В. Argonauts of the
Western Pacific. An Account of Native Enterprise and
Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. L, 1922.
2 Idem. A Scientific
Theory of the Culture and other Essays. Oxf, 1944.
3 Man and Culture. L, 1957, p. 249-250.
4 Radcliffe-Brown
A. R The Andaman Islanders. Cambridge, 1922.
128
Примечательно, что
упоминанием этой работы как исходной точки своих изысканий Лич заканчивает
текст книги 'Культура и коммуникация. . . '.
Лич не был бездумным апологетом своих учителей. Их
критика, содержащаяся в его работах, направлена в сторону более гибкого понимания
социальных структур как взаимосвязанных оппозиций. Лича в большей мере, чем его учителей,
интересовала динамика социальных процессов, а также данные культур
архаических обществ для раскрытия социальных механизмов современного
общества.
В
последний год жизни Лич дал интервью журналу Current Anthropology, где коснулся своего собственного становления
как специалиста на фоне филиации идей и методов научной традиции:
'Последовательность всегда диалектична.
В моем антропологическом развитии был момент, когда Малиновской всегда был прав. На следующем этапе он был всегда неправ. Но с возмужанием я стал замечать, что у каждой
стороны есть нечто положительное. Я
вижу в этом гегельянский процесс - очень глубокий элемент в процессе развития гуманитарного мышления во
времени. Но, пройдя эту последовательность по кругу, оказываешься не в
начальной точке, а продвигаешься немного
вперед или же куда-то еще. Но всегда в этот процесс входит
первоначальное отречение от своих непосредственных предков - тех учителей, которым всего более обязан'1. Движение по кругу
прежде всего личное дело ученого. Нас же будет интересовать то, что сделал Лич на
пути продвижения
к современному состоянию антропологического знания.
Разбор книги Лича 'Культура и коммуникация. . . '
следует начать с оценки ее основного эвристического приема - бинарных оппозиций.
Это, конечно, заимствование у Леви-Строса. Однако заметим, что сам Леви-Строс здесь не был оригинален, так
как воспринял этот прием от британской социальной антропологии, прежде всего от
Рэдклифф-Брауна. Последний использовал бинарные оппозиции для анализа
социальных отношений между подразделениями архаического общества. 'Отношения
между двумя подразделениями, которые мы называли термином 'оппозиция", являются таким типом отношений,
которые одновременно разъединяют и соединяют, порождая специфический вид социальной
интеграции. . . ' - писал Рэдклифф-Браун2. Для Лича бинарные оппозиции означают
более широкие, метафизические разграничения во вселенной: этот мир//мир иной;
мирской//свя-щенный; низкий статус//высокий статус; обычный//необычный; живой// мертвый;
бессильный//могучий (с. 64).
Бинарные оппозиции кажутся объективированными.
Но они не теряют связи с человеком, осмысливающим действительность и тем самым ее
конструирующим. Это отвечает догме классического рационализма с его
противопоставлением объективного и субъективного начал. Все это осознает Лич.
1Цит.
по: Купер А. Постмодернизм, Кембридж и
'Великая калахарская дискуссия'. - Этнографическое обозрение. 1993, ? 4, с. 14.
2 Radcliffe-Brown A. R. Method in Social
Anthropology. Bombay, 1973, p. 103.
129
Философское
обоснование им своей точки зрения заслуживает нашего внимания: 'Тот
рационализм, о котором идет речь, - это не рационализм Декарта, уверенного, что с помощью
последовательных точных приемов логического
рассуждения мы можем в уме сконструировать 'истинную" модель вселенной и эта модель будет точно соответствовать
объективно существующей вселенной,
которую мы воспринимаем посредством наших чувств; то, о чем мы говорим, несколько ближе к 'новой
науке" Джамбаттисты Вико, итальянского философа XVIII в. , который признавал, что операции человеческого сознания, связанные с воображением,
являются 'поэтическими" и не
укладываются в твердые, легко формулируемые правила Аристотелевой и математической логики' (с. 11).
Эта исходная философская позиция позволяет
Личу условно разделить антропологов на эмпириков и рационалистов. Себя он отнес
к последним.
Напомним, что в отечественной традиции аналогичная критика
декартовской абсолютизации 'Я' связана с
именами Л. С. Выготского и М. М. Бахтина. Выготский в своем
фундаментальном труде 'Мышление и речь' показал механизмы, с помощью которых высшие психические функции возникают как
следствие перехода отношений участников коммуникации во внутренние отношения:
так называемый внутренний мир сознания оказывается продуктом коммуникативной деятельности. Внутренняя
речь, по Выготскому, возникает на основе внешней речи1. Идеи Бахтина,
связанные с пониманием 'Я' как отклика на обращения другого человека, были им положены в основу концепции
культуры, существующей на коммуникативной границе2.
Не будем сейчас вдаваться в общефилософское состояние
европейской мысли, породившей в Европе, включая Россию, коммуникативные концепции. Но не упомянуть
Людвига Витгенштейна мы не можем, поскольку он во второй период своей жизни
('поздний' Витгенштейн) показал, что человек осознает себя ('существует для себя') только потому, что
вступает в сеть коммуникативных связей с
другими людьми. Эту коммуникативную связь Витгенштейн обозначил в 'Философских исследованиях', посмертно изданных в 1953 г. , как определенную 'форму жизни'.
'Термин 'языковая игра" призван
подчеркнуть, - отмечает он, - что говорить на языке - компонент деятельности или форма жизни'3. Следовательно,
Витгенштейн использует здесь практически антропологическую формулировку проблемы
порождения сознания. Для него это не случайно, ибо вся жизнь одного из величайших философов современности
была окрашена самыми настоящими антропологическими интересами вплоть до желания
пожить среди аборигенов Таймыра.
1 Выготский
А. С. Мышление и речь. - Собр. соч. Т. 2. М. , 1982.
2Бахтин М. М. Эстетика
словесного творчества. Изд. 2-е. М. , 1986, с. 353-354, 392.
3 Витгенштейн
Л. Философские исследования. - Философские работы. Ч. 1.
. М, 1994,
с. 90.
130
Формы жизни - стилевое, а следовательно, избирательное понятие. Иначе говоря, они
предполагают некий выбор на фоне избыточности, многообразия ресурсов жизни
(например: не все то пища, что съедобно). Собственно говоря, механизмы
мышления, открытые Выготским, Бахтиным, а позднее и Леви-Стросом1, показывают
преобразования экстракоммуникации (некой избыточности) в интракоммуникацию - во
внутренний мир сознания (например, пищевые предпочтения).
Дальше раскрывается любопытная картина, связанная с тем,
что на самом-то деле вовсе не вся экстракоммуникация становится средством мышления. Л. С. Выготский показал этот
механизм на материале эстетических восприятий.
Он считал, что натуралистические перцепции внешнего мира получают
эстетический потенциал только после психологической задержки: действие, повторенное после такой задержки, может
приобретать эстетический характер, т.
е. натуралистическая перцепция превращается в эстетическую перцепцию2. В архаических
обществах натуралистические перцепции преобразуются во внутреннюю речь не до конца.
Тогда происходит возгонка образов, но не смыслов. Архаическому мышлению
приходится пролагать свой путь через множество смыслов, потому что натуралистические
перцепции не
инструментальны. Они избыточны и, не имея жесткой определенности в качестве средств,
перетекают друг в друга. Эта избыточность, как хорошо показал Леви-Строс, трансформативна. И Лич
широко пользуется в данной работе методом
трансформативных преобразований.
Итак,
бинарные оппозиции, логика которых охватывает вселенную, выступают в роли системы самоописания с избыточным
потенциалом.
Архаические общества являют собой идеальные примеры
подобной избыточности. Вот
классический пример австралийских аборигенов. Избыточный принцип 'повсюду жизнь', реализованный на
практике, позволяет аборигену выжить в
самых невероятных условиях. Например, обходиться без питья в пустыне и спасать свою жизнь за счет способности
кожи воспринимать конденсационную
влагу из песка, в который человек себя закапывает на ночь. Он способен менять источники пищи. А пройдя чуть
ли ни весь континент, на другом его конце объяснить с помощью жестов
членам незнакомого племени свою принадлежность к брачному классу и получить
жену. Решения подобного типа - это решения в условиях избыточной информации.
Наш австралийский персонаж в экстремальных
ситуациях не пользуется раз и навсегда заданным образцом (что имеет
место в традиционных, но не в архаических культурах), но каждый раз создает
новый прецедент, собирая заново свою
витальность. Здесь он превращает экстракоммуникативную ситуацию в
интеркоммуникативную, которая служит уже не когнитивным средством, а средством жизнедеятельности. Австралийский герой
сначала думает, как
1 Леви-Строс К. Структурная антропология.
М. , 1985.
2 Выготский Л. С. Психология искусства. М. ,
1987, с. 186-206.
131
Леви-Строс,
но потом опускается до уровня презренной реальности, ничуть от этого не
страдая, но, напротив, выживая в экстремальных условиях.
Публикуемая книга - как бы
развернутый разговор Лича со своим учителем, Рэдклифф-Брауном, в
свидетели дискуссии он хочет пригласить всех читателей. Ему нужно
наше мнение по поводу структуралистской интерпретации им книги Рэдклифф-Брауна 1922 г. об аборигенах Андаманских островов, 'одной из великих
классических монографий по социальной антропологии' (с. 117). Сам Лич полагает,
что его собственная статья 1971 г. об андаманцах1
прибавляет нам знаний. В таком утверждении скрыта структуралистская
идея о том, что знание может наращиваться через серию интерпретаций.
Но нас в первую очередь должно
интересовать то, как Лич воспринял основные установки Рэдклифф-Брауна. В этом нам
помогут недавно вышедший в русском переводе
сборник очерков лекций А. Р. Рэдклифф-Брауна 'Структура и функция в примитивном обществе' и статья АЛ. Никишенкова, сопровождающая это издание. Читая
Рэдклифф-Брауна, прежде всего обращаешь
внимание на настороженное отношение ученого к философии и социологии Эмиля Дюркгейма. Отдавая дань
дюркгеймовскому акценту на производящую
причину и социальную функцию явлений общественной жизни, Рэдклифф-Браун отказался от анализа
сознания. С этим было связано и
отторжение им категории 'коллективных представлений', выдвинутой Дюркгеймом. Но
Рэдклифф-Брауну оказалась близка идея Дюркгейма о 'социальном целом', развитая его ближайшим учеником
Альфредом Моссом в категорию 'тотального социального факта'. У
Рэдклифф-Брауна эта категория выступает в виде утверждения о 'моральном
порядке' во вселенной, который лежит в основе социальных институтов архаических
народов. Личу такой космизм явно не по душе.
Но именно Рэдклифф-Браун, развивая функциональный
анализ, ввел в науку структурный принцип бинарных оппозиций, и это,
пожалуй, основное, что Лич заимствует у своего предшественника, подвергая его в то же время критике за отождествление духовно-этических
ценностей с религиозными. Правда, сносок на свою работу 'Переосмысливая
антропологию', где он критикует и Рэдклифф-Брауна, и Малиновского, Лич в книге
'Культура и коммуникация. . . ' не делает. На нее даже нет указания в библиографии. Может быть, это форма отказа от -прежней критики?
Примечательно тут вот что.
Рассматривая в одном из разделов своей книги 'материальные
воплощения идей', Лич разворачивает фронт критики уже
не против великих функционалистов, а против Леви-Строса, о котором
1 Leach E. R. Kimil: A Category of
Andamanese Thought. - Structural Analysis of Oral Tradition. Philadelphia,
1971.
2 Рэдклифф-Браун А.
Р. Структура и функция в примитивном обществе. М. , 2001.
132
в 1970 г. написал целую книгу1. В том месте, где
Лич рассматривает 'метафорическо-метонимические трансформации', он вводит
понятие 'сгущений (condensations)' (с. 51). По мнению
Лича, Леви-Строс в постановке проблемы (в данном случае проблемы тотемизма)
'упускает из виду наличие здесь религиозной установки', которая требует 'ряда сгущений'
(с. 52). Из анализа Личем индуистского представления о боге Шиве и веры австралийских аборигенов в тотемы мы узнаем, что
'сгущениями' являются 'совместные переживания
коммуникативного опыта' (с. 53). В сущности, перед нами 'коллективные представления', от которых
отказывался Рэдклифф-Браун. Следовательно, Лич признает, что такое
'сгущение' может рассматриваться как
'моральный порядок'!
В разделе 'Логика жертвоприношения' у Лича есть замечательная
фраза: 'Я надеюсь, что убедил вас в том, что при этнографическом исследовании внимание к мелким
деталям действительно имеет значение' (с. 113). Эта фраза заставила меня вспомнить слова
другого этнографа, сказанные в другой стране и по другому поводу, но удивительно
близкие ей по смыслу. Мой наставник в чеченской этнографии Ибрагим Саидов
аспирантскую подготовку проходил в Москве под руководством Марка Осиповича Косвена.
Саидов мне рассказывал, что когда он уже написал кандидатскую диссертацию, то пришел домой к
Косвену за отзывом. А день это был особый в жизни всех людей на свете -
тогда, 12 апреля 1961 г. , из космоса вернулся Юрий Гагарин. Саидов,
получив положительный отзыв на диссертацию, посвященную общественному быту
чеченцев, задал маститому ученому непростой вопрос: 'А все-таки, по Вашему
мнению, что за наука этнография?' Косвен, задумавшись, посмотрел в окно на толпы людей,
возвращавшихся с торжественной встречи Гагарина, и ответил: 'Этнография - это
наука о мелочах'.
Лич сформулировал аналогичную мысль на примере
обстоятельного разбора древнееврейского ритуала, связанного с козлом отпущения. Попутно он прояснил значимость
смерти как отделения духовной сущности от материального тела и использование
символики смерти как маркера изменения социального статуса. Правда, он почему-то не упоминает, что
значение ритуальной смерти давно было
раскрыто Арнольдом ван Геннепом2 и получило дальнейшую разработку в трудах Виктора
Тернера3. Зато Личу принадлежит другая,
связанная с этим фактором мысль: козлу отпущения сохраняют жизнь потому, что он должен быть
неотделенным от своей нечистоты. Удаление животного с ритуальной сцены имеет
полное смысловое соответствие в обряде
инициации (с. 96).
Успех Личу здесь обеспечен не только его
вниманием к деталям, позволяющим исключить какое-либо внешнее и ненужное для
анализа обстоятельство. Нет здесь и привлечения сравнительного факта ради замены
1 Leach
E. R. Claude Levi-Strauss. N. Y. -L, 1970.
2Геннеп
А. , ван. Обряды
перехода. Систематическое изучение обрядов. М, 1999. 3Тернер В. Символ и ритуал. М. ,
1983.
133
отсутствующего
измерения. Роль деталей в рассмотренном обряде гораздо глубже - их значение состоит в указании на
ментальный герменевтический круг. Детали
изученного Личем обряда - это те самые 'сгущения', с помощью которых мышление людей прорывается в пределы
герменевтического круга, где всеобщее выражает себя через частность, а
частность - через всеобщность. То есть
герменевтический круг наполнен избыточными смыслами, а деталь как специфический 'тотальный социальный
факт' (живой козел как носитель
нечистоты) ограничивает эту избыточность и открывает путь дальнейшему ходу
жизни. Такой подход к пониманию обряда был намечен еще Малиновским,
который в своих работах показал, что ритуалы вроде молодежных инициации и охоты
за головами на островах Тихого океана были пусковыми событиями,
гарантировавшими начало сельскохозяйственных работ. Одновременно они поддерживали институты традиционного общественного строя. Подобная интерпретация обрядов
заставляет нас дать положительную оценку вклада функционалистов в
методологию антропологической науки.
Но Лич не сделал следующего шага - от семиотики смерти к
семиотике жизни.
Ведь нечистота козла - ритуальная грязь, в которой порождается жизнь. Дело вовсе не в
том, что грязь - это то, что лежит не на месте, как думает Лич (с 75) вслед за
Мэри Дуглас1. Грязь несет витальный потенциал. Он представлен в мифологеме
происхождения мира из экскрементов трикстера Вакчжункаги у американского
племени виннебаго, в обрядах, связанных с клоунскими персонажами у
австралийских аборигенов, которые пьют напиток из мочи, плевков и прочей дряни
на торжественных ритуалах племени,
в мифологеме чувашей, согласно которой в домашнем мусоре находятся зародыши детей, и т. д. Чужим людям нигде
непозволительно подметать пол, у всех народов акт дефекации совершается
тайно. Это интимная сфера, табу. К табу как
нельзя лучше подходит понятие 'сгущение', используемое Личем (с. 51 и сл. ).
Мартин Хайдеггер как-то отметил, что из
герменевтического круга легче выйти, чем туда войти. Для всего его творчества проблемой
было философское обоснование входа в герменевтический круг бытия. Очевидно, это
связано с
тем, что для всей новейшей философии проблемой была включенность в ту или иную традицию, тогда как для
классической философии проблема состояла в
противостоянии традиции и в критике культуры. Классическая философия и связанная с ней наука разработали
методики рефлексивного выхода из своих герменевтических кругов через те
или иные редукции. Эти великие редуктивные системы были представлены
философским идеализмом в разных видах, Марксовым сведением человека к
общественным отношениям, концепцией либидо у
Фрейда. Наконец, как антитеза таким системам
появляется философия Ницше, философия жизни Дильтея, Шпенглера, интуитивизм Бергсона и другие
направления. Но только в упо-
1 Дуглас
М. Чистота и опасность. М. , 2000.
134
мянутых 'формах жизни'
позднего Л. Виттенштейна, в 'вечном присутствии', 'вине' и 'озабоченности' Хайдеггера
философия подходит к подлинно
исторической постановке проблемы человека. Она решается здесь через вписанность человека в традицию и культуру. А это
требует разработки герменевтических
методов с их анализом переживания и коммуникативной природы
человеческого сознания.
Но как раз так строится сознание человека
доиндустриального общества - на основе постоянного и нередуктивного входа в
герменевтический круг своего бытия. Это не изолированно-рефлексивный вход, а
целостно-витальный. Такая
витальность как раз и обеспечивает работу с избыточностью, с образами, со всей толщей мифопоэтического сознания.
Витальный вход в герменевтический
круг жизни акцентирует не смертный ее полюс, а родильный.
Витальный вход маркирован морфемами 'грязи'. Это те самые
'отношения
с подшучиванием', которые так интересовали Рэдклифф-Брауна. Смех всегда
сопровождает сексуально-генеративную деятельность людей и божественных сил. Так,
у якутов считается, что если какая-то из женщин на празднестве родин
засмеется, то родит на следующий год. У японцев солнечная богиня Аматэрасу, удалившаяся
из мира, вернулась обратно благодаря скабрезным шуткам. Аналогичным образом было поднято
настроение горевавшей об исчезнувшей дочери древнегреческой богини Деметры.
Шум, о котором как об
акустической грязи пишет Лич (с. 77-79), повсюду сопровождает свадебные обряды.
Витальные оппозиции не симметричны, они интенционально
направлены
на порождение жизни, т. е. асимметричны. Лич близко подходит к такой концепции
витальности, когда дает короткое, но очень удачное изложение своего понимания
ритуала. Сошлемся не только на упомянутое им совместное переживание
коммуникативного опыта, но и на такие приведенные им 'сгущения', как
'присутствие на свадьбе' и 'присутствие на похоронах'. Он пишет, что тут имеет
место 'единое общее послание' (с. 53). Но кому направлено это избыточное и
нефункциональное послание как не самим участникам обряда!
А здесь уместно выделить важный момент, касающийся
понимания Личем
одной из любимых оппозиций культурологов - оппозиции сакрального (священного) и
профанного (обыденного). Он придает ей большое значение, практически проводя
через всю книгу. Эта оппозиция для него поставляет индексы метафизических
разграничений и построения культурно необходимых последовательностей (с. 64).
Эта идея восходит, очевидно, еще к Дюркгейму, который в священном искал истоки
табу, за что подвергся справедливой
критике Рэдклифф-Брауном1.
Витальный вход в герменевтический круг
опускает сакральное с небес на землю. А здесь оно легитимизирует существование
человека, наделяя витальность свойством естественного, природного, извечного. Теперь
человеку
1Рэдклифф-Браун
А. Р. Структура и функция в примитивном обществе, с. 196.
135
можно спокойно оглядеться в
мире вещей и использовать их как инструмент для
построения коммуникации и, следовательно, всей культуры. Культура не существует
как универсальный объект, и в ней, к сожалению, имеются разрушительные
потенции.
Как бы к подобной констатации отнесся Лич? Думается,
положительно, ибо сам он усомнился и в 'универсальных внешних чертах культуры' (с. 78), и в универсалиях
семантики цвета (с. 70). В связи с этим напомним, что вопрос об
универсалиях в классической постановке Боэция выглядел как вопрос о
реальности того, что постигается в общих понятиях1. Это, конечно, философское понимание. Вся трудность
состоит в проблеме этнологического содержания
универсалий культуры. Напомним, что мнения среди антропологов по этому поводу сильно расходились. Так, А. Кребер и М.
Херсковиц, затем Т. Парсонс, К. Клакхон, Дж. П. Мердок, О. Г. Тайлор и другие
ставили вопрос о таких универсалиях. К их числу относили, например, некоторые
формы семьи, эдипов комплекс, миф о карающих богах и заботливых богинях,
некоторые обряды исцеления и т. п. Такие примеры универсалий вызвали резкую
критику Клиффорда Гирца в его знаменитой 'Интерпретации культур'2. И мы должны согласиться с этой критикой.
Однако проблему универсалий нельзя считать окончательно
снятой в антропологии. Если в универсалиях видеть не конкретные морфемы культуры, а сами реальные
принципы мышления, то вопрос остается открытым. Так, всеобщее, выступающее
на материале книги Лича как категория избыточного, всегда сохраняет свое
универсально-абстрактное объясняющее свойство по отношению к единичному, частному. Такой потенциал
универсально-абстрактного сокрыт в любом мифе
и даже в любом техническом приеме, который
может иметь общечеловеческое значение. Можно попытаться определить
этнологическую универсалию как такое всеобщее, которое схватывается и
удерживается морфемой культуры. Вот тогда эта универсалия может предстать не
философской идеологемой, но определенным локально-историческим ограничением
свободы сознания, непосредственной действенностью практики. Ведь практика как деятельность объединяет всеобщность и частность, постоянно меняя их местами, в отличие от их
более жесткой сцепки в ментально-герменевтическом круге. Только практика
здесь понимается не эмпирически, а как практика человеческой жизни с ее
витальностью. И тогда мы уже можем перекинуть логический мостик к юнговским
архетипам культуры, которые есть вовсе не морфемы, а императивы витальности. В
моей этнографической работе на Кавказе эти архетипы были зафиксированы как
императивы, высказанные принимавшими меня людьми, например архетип жилища ('человек не должен ночевать под открытым
небом'), архетип пищи ('человек не
должен ложиться спать голодным') и т. д.
1 Боэций А. М. С. Утешение философией. М. ,
1990, с. 354.
2 Geertz. Cl. The Interpretation of
Cultures. Selected Essays by Clifford Geertz. N. Y. , 1973.
136
Проблема
универсалий сложна, потому что в витальной семиотике восприятие мира человеком становится инструментом мышления. На это обратил внимание американский психолог Эрик Эриксон,
который приводит пример, взятый из этнологии племени индейцев юрок. Во время
ловли лосося индеец произносит фразу:
'Я вижу лосося'. В данной культуре описание визуального восприятия
обеспечивает желаемый результат. Зрительная перцепция здесь инструментальна1. В 1980-е годы в горах Абхазии я
обнаружил высокую степень
ритуализации поведения абхазских охотников. Так, если охотник отправлялся к
ручью за водой, то, черпая воду, он должен был несколько раз повторить свое имя. Имя здесь запускает начало витального процесса, в который включена добыча воды. Можно
было бы сказать, что произнесение
имени в данной ситуации классифицирует человека как добытчика воды.
Во всех примерах при их разнородности есть общее.
Жизнедеятельность человека берется как
средство артефикации рефлексивной позиции по отношению к внешнему миру и
для того, чтобы осуществить витальное вхождение в герменевтический круг. Эти
средства используются для функционального расчленения объектной области и
построения морфем культуры. Культура
оказывается вторичной по отношению к витальности.
Процесс культурогенеза имеет издержки, подобно магии,
которой Лич уделяет
достаточное внимание. Он справедливо отмечает, что в магии происходит интерпретация индекса (указательного знака)
в качестве сигнала. Такое
соскальзывание с индекса на сигнал происходит во время произнесения колдуном
словесных компонентов магических действий (с. 37-39, 43). Это говорит о том, что магия вторична по отношению к
витальному инструментализму, который
в нормальном состоянии в ней не нуждается. Можно было бы привести много
примеров, в частности из быта охотничьих народов, которые не используют магию там, где много дичи. Ее
применяют, если дичи мало. Магия
включается в зоне риска2. В связи с этим мы должны еще раз подчеркнуть немагический смысл
юрокского и абхазского примеров. Они маркируют дистанцию по отношению к культуре и
вводят ее саму как средство.
Вот здесь, когда мы получили общее представление о том,
как 'сделана' книга Лича, нам необходимо вернуться к одному из ее первых разделов. Этот раздел, скромно
названный 'Проблемы терминологии', методологически наиболее нагружен. Здесь
сосредоточена коммуникативная теория автора, компактно представленная на схеме
1 (с. 19). По совету Лича мы, читая книгу, постоянно мысленно к ней
возвращались. Здесь Лич, следуя семиотическим разработкам Малдера и Херви, излагает
взаимоотношения коммуникативной
пары, где взаимодействуют: 1) сущность А как носитель послания, который
передает информацию, и 2) послание В. Далее ситуация распадается на два варианта. Вариант, именуемый 'индексом':
здесь А указывает на В.
1 Эриксон Э. Детство и общество.
Изд. 2-е, перераб. и доп. СПб. , 1996, с. 253, 258.
2 Абрамян Л. Первобытный праздник и мифология. Ереван, 1982, с. 22.
137
Вариант, именуемый
'сигналом': здесь А вызывает В автоматически. Упомянутый пример с магией
наглядно демонстрирует различие между индексом и символом. Это основная эвристическая
позиция Лича. Она дополнена далее трактовкой терминов 'метафора' и 'метонимия',
восходящей к концепциям Р.
Якобсона и К. Леви-Строса. Этот раздел Лич завершает положением, что разнообразные формы коммуникации относятся
друг к другу как трансформации. Эти
констатации заданы Личем как проблемное ядро культуры, помещаемое им в тот или иной контекст. Все
дальнейшее в данной книге Лич считает построением его собственного
профессионального языка, описывающего эти
контексты.
Но мне кажется, что Лич здесь недооценивает самого себя,
ибо весь текст
его книги (например, пассаж на с. 25) говорит о том, что он не придерживается
крайней точки зрения Ф. де Соссюра, который мог вообще игнорировать объекты
внешнего мира. Этот внешний мир, выступающий у Лича под именем 'сущность',
выполняет функцию носителя послания. В этнографической реальности сознание часто выступает как
не-действие, воздержание от действия, или
позиция внешнего наблюдателя. Такая позиция скрыта в мифе. К сожалению, трактовка мифа у Лича дается то слишком иносказательно (через описание музыки
Бетховена, с. 56-57), то слишком
'логично' (как псевдологика, с 86). Собственно, Лич пересказывает здесь определение
Леви-Строса, что миф есть украшение логической мысли и эстетическая перцепция1. В этом мнении, разделяемом Личем, где он
вслед за Леви-Стросом считает,
что миф и музыка уничтожают время (с. 56), заключена
идея, что миф вырастает не из обряда, но его оправдывает (такова точка зрения и
самого Б. Малиновского).
Но миф, говоря словами Лича, это еще и носитель послания, т. е.
некая нарративная данность, которая построена логическими и образными средствами с позиции внешнего наблюдателя. И все
дальнейшие операции с мифом ведутся относительно этой позиции. В мифе
важно бездействие, чистый нарратив, обеспечивающий
необходимый разрыв ирреального с реальным. Следовательно, полнота бытия
заключена в не-действии, способном быть охватывающей
системой по отношению к частности действия. Коммуникативное сознание активно ищет сгустки не-действия и
обильно находит их в контекстах. Это
те самые контексты, в которых расположен профессиональный язык Лича.
Указанием на контексты Лич задал свою собственную . герменевтику, которая
состоит не в передаче его тотального опыта, а в его разоформлении на 'сгущения', т. е. смысловые узлы. Тем самым антропологическая герменевтика Лича становится"
соразмерной сознанию носителей тех культур, которые он изучает.
'Сгущения', наблюдаемые Личем в культуре, -
это ее фрагменты. Контекст состоит из фрагментов, между которыми существуют
отношения рас-
1 Lévi-Strauss
Cl. Introduction. - Mythologiques. I. P. , 1964.
138
пределения.
С точки зрения дарообмена они (отношения перераспределения) были
проанализированы А. Моссом в его знаменитом 'Очерке о даре'1. Но отношения
распределения гораздо шире, так как охватывают всю сферу мышления, вовлеченного
в оперирование фрагментами и порождающего коммуникативные отношения. Опираясь на
'Топику' Аристотеля, коммуникативную установку сознания можно охарактеризовать как
распределительно-топическую. Это сознание оперирует фрагментами, как фигурами
на шахматной
доске. Лич ограничился линейным анализом топов-'сгушений' (фрагментов), представленных в ритуалах.
Действительно, в архаическом сознании
ритуальные фрагменты служат средством для воспроизведения актов мышления. Эта
внешняя зависимость психики архаического человека была констатирована во многих ее проявлениях. Именно
поэтому папуас, описываемый Н. Н. Миклухо-Маклаем, первый раз в жизни увидев
зеркало, назвал его 'твердая вода': с помощью фрагмента вселенной он включает в
свое сознание новое для него явление.
Этот пример показывает, что свойством ментальных
фрагментов является та самая трансформативность, понятием которой широко
пользуются Леви-Строс и Лич. Символы (в широком их понимании как индексы и собственно символы)
множественны по смыслу, а значит, избыточны. Если строить дихотомию жизни и
смерти, то первая множественна, а вторая единична, следовательно, уникальна. Исходя из этого смерть в
архаических культурах воспринимается как
результат чьей-то злой воли. Вместе с тем в них же существует понятие 'всюду жизнь'. Множественность истоков жизни можно найти в иносказаниях. Если внимательно
присмотреться к анализу Личем
проблемы тотемизма, то можно увидеть констатацию им тотемной избыточности: 'В тотемических системах тотемные предки являются и категориями вещей, и видами (в Природе),
и категориями групп (в человеческом
обществе)' (с. 89). Конечно, тотем выполняет функцию посредника, как на этом настаивает Лич, или является источником силы в результате убиения. Но тотем обозначает
прежде всего позицию внешнего
наблюдателя, по отношению к которой жизнь не единична и не уникальна. Говоря иначе, вечна. Тотемы - одна из
форм связи в сознании человека с внешним наблюдателем. 'Дыры бытия', как
сказал бы Мераб Мамардашвили2,
перекрываются этими 'сгущениями' там, где есть особые эмбриологические концепции вроде австралийских о вечных источниках жизни - чурингах, зародышах детей. По
отношению к эмбриологическим представлениям тотемизм вторичен, о чем уже говорил
Рэдклифф-Браун. В отечественной литературе теорию вторичности тотемизма в довоенные годы обосновала О. М.
Фрейденберг3.
1 Мосс М. Очерк о даре. - Мосс М. Общества. Обмен.
Личность: Труды по социальной антропологии. М, 1996.
2 Мамардашвили М Философия и личность.
- Человек. 1994, ? 5, с. 5-20.
3Фрейденберг ОМ. Миф и литература
древности. М. , 1978, с. 25, 51-52, 72, 77.
139
Проблема
табу для Лича осталась загадочной. Он видит в табу маркированную границу между священным и обыденным и
полагает, что табу можно отнести к
культурным универсалиям (с 46, 83, 93 и сл. ). Действительно, табу как воздержание от действия
(не-действие) находится ближе к
позиции внешнего наблюдателя, чем тотем (предписывающий определенные действия). Табу относится к тому, что есть, но от
соприкосновения с чем надо воздерживаться, т. е. через табу происходит
рефлексивное удвоение частей мира. Иначе
говоря, мир начинает структурироваться. Табуированный козел отпущения
рефлексивно удвоен (отторгнут как скверна, но оставлен живым), что дает
возможность витальности вливаться в общество. В Абхазии в старину существовало
поверье: если стадо коз достигало численности в тысячу голов, надо было несколько коз изгнать в лес.
Считалось, что, если этого не сделать, всему стаду будет грозить опасность.
Здесь схема табу упрощена по сравнению с
древнееврейским обрядом, но смысл остается тем же.
В заключение нашего прочтения 'Культуры коммуникации. . .
' нам не избежать
рассмотрения того, как Лич понимает культуру. Прямо он об этом нигде не пишет. И это поначалу
вызывает недоумение. Ведь в структурно-функциональном подходе всегда четко
разделялись объект и предмет исследования. В
результате такого различения выделялся предмет социальной антропологии, и в
разных концепциях им становилось либо общество, либо культура. Рэдклифф-Браун очень резко настаивал на приоритете
общества и утверждал, что культура лишь одна из характеристик общества 'без особой феноменальной реальности'1. Рэдклифф-Брауна
интересовали прежде всего социальные институты, в чем он видел залог научной
объективности: 'Вы можете
изучить культуру только как характеристику социальной системы. Следовательно, если вы собираетесь создавать науку, это должна быть
наука о социальных системах'2.
Не
случайно, что это цитата из работы Рэдклифф-Брауна, названной 'Естественная наука об обществе'. В полевых
исследованиях в Верхней Бирме и на
Шри-Ланке предметом исследования Лич делал скорее общество, чем культуру. Последняя рассматривалась им
сквозь призму экологической адаптации, а социальные институты он помещал в
некую идеальную область, мало связанную с причинно-следственными отношениями, с
реальной жизнью. В книге 'Пул Элия' он
прямо писал, что 'природа социального есть по существу метафизическая
идея'3. Тем не менее, переосмысливая основы
социальной антропологии, Лич в более поздних работах отдавал предпочтение культуре как предмету исследования.
В книге 'Культура и коммуникация. . . ' Лич
подробно не рассматривает свое
представление о культуре, он только провозглашает, что 'культура осуществляет коммуникацию' (с. 8). И не случайно,
что здесь он не дает
1 Radcliffe-Brown A. R A Natural Science of Society. Chicago, 1948, p. 96.
2 Ibid. , p. 30.
3 Leach E. R. . Pul Eliya. . . p. 302.
140
целостного
анализа какой-либо отдельной культуры. Культура рассматривается им как
макроноситель информации, как объясняющая макросистема. Следовательно, за
культурой остается право на эксперимент и риск. Мы не можем не увидеть за
этим тенденцию к постмодернистской постановке вопроса. Ее также можно выявить из слов самого Лича о том,
что этнографическое описание должно исходить
из собственного жизненного опыта (с.
8). С этой позиции Лич отвергает унылые культуроцентристские 'этнографические консервы' - упрощенные краткие
изложения быта того или иного народа
(там же). Мышление Лича уходит от позитивистских механистических штампов в сторону идеального. Оно
элитарно. И вместе с тем ученый
понимает, что культура как носитель информации не может быть оторвана от людей, эту культуру создающих и
транслирующих. И в этом Лич представляет высокий уровень гуманитарного
европейского мышления, следующего утверждению
Блаженного Августина, что культура - это не только 'обработка', но и 'население', 'насельничество'. Мышление Лича, человека европейской цивилизации, нуждается в
культуре как в эксперименте с новыми
формами, источнике критики собственной цивилизации. Отсюда огромный интерес Лича к архаическим и
экзотическим культурам, а также к
Библии. Следовательно, для Лича культура не только предмет и средство
антропологического анализа, но и мировоззрение. В этом мировоззрении культура предстает как рефлексивная пауза
перед вопрошанием: вопрос о том, что такое человек, оказывается в
образовавшейся пустоте и показывает
недостаточность нашего представления о человеке. Если рассматривать позицию Лича как его собственную
коммуникацию с самим собой, то его
вопросы выделятся четче, чем ответы. Очевидно, культура и есть коммуникация с человеком, присутствие которого
отложено. Лич вынужден строить
идеальный конструкт человека.
Конечно, это интерпретация, но исходящая из текста книги 'Культура
и коммуникация. . . '. Но, как мне кажется,
она объясняет постоянные методологические
поиски Лича. Обо всем этом им проникновенно сказано в рецензии на книгу
Клиффорда Гирца 'Труды и жизненные пути: антрополог как писатель'1: 'Этнографическая
монография имеет больше общего с историческим романом, чем с каким бы то ни было
научным трактатом. Как антропологи, мы вынуждены примириться с ныне уже
признанным фактом, что в романе персонажи воспроизводят те или иные аспекты
личности автора. Да и как могло быть иначе? Единственное 'Я", которое я знаю
непосредственно, это мое собственное. Когда Малиновский пишет о жителях Тробрианских островов,
он пишет о себе; когда Эванс-Причард пишет о нуэрах, он пишет о себе. Любой другой
подход превращает персонажей этнографических трактатов в заводных кукол'2 .
1 Geertz
Cl. Works
and Lives: Anthropologist as an Author. Stanford, 1988.
2 Цит.
по: Купер А. Постмодернизм, Кембридж и 'Великая
калахарская дискуссия'. - Этнографическое обозрение. 1993, ? 4,
с. 3.
141
Сам Лич всячески стремится быть объективным:. по поводу сложной проблемы библейских
жертвоприношений и смерти Иисуса он пишет, что 'эти вопросы крайне сложны. . . ' (с.
114). О психоаналитических теориях: 'Догадки психоаналитиков, возможно,
довольно часто правильны' (с. 117). Эти и подобные им замечания свидетельствуют о философской
терпимости автора, что отнюдь не случайно.
Ведь с 1960-х годов философия оплодотворяла
семиотику, самую передовую из гуманитарных наук. Но и антропология, в той мере,
в какой она становилась из познания 'других' познанием 'себя', явно
поднималась к уровню философского мышления. Этот трудный путь с замечательной полнотой воплотился в
творчестве сэра Эдмунда Рональда Лича, особенно в его книге 'Культура и
коммуникация'.
142
Введение........................................................................................... 7
1. Эмпирики и
рационалисты: экономические сделки и акты коммуникации 9
2. Проблемы терминологии............................................................. 15
3. Объекты, сенсорные
образы, понятия.......................................... 25
4. Сигналы и индексы.................................................................... 3 2
5 Трансформации.. ............ ........................... ............. 34
6. Теории магии и колдовства..................................................... 37
7. Символическое
упорядочение мира человеком: границы социального пространства и времени 43
8. Материальное
воплощение абстрактных идей: 'сгущение'
посредством ритуала 48
9. Игра оркестра как
метафора ритуального действа .................... 55
10. Физиологическая
основа знаковых/символических построений 59
11. Картографирование:
время и пространство как взаимосвязанные представления 62
12. Ранжированность
понятий и пространственная ориентация........ 65
13. Примеры бинарного
кодирования............................................ 67
14. Предписания и запреты
при выборе брачного партнера----------- ... 80
15. Логика и мифо-логика............................................................ 85
16. Начала космологии................................................................. 88
17. Обряды перехода (Rites de
passage)......................................... 95
18. Логика
жертвоприношения...................................................... 99
Заключение................................................................................. 115
Библиография.............................................................................. 118
Указатель....................................................................................
121
Я. В. Чеснов. От коммуникации к
культуре, или Зачем сэру Эдмунду
Личу
нужно понять другого человека ....................................... 125
Научное
издание
Лич
Эдмунд
КУЛЬТУРА И
КОММУНИКАЦИЯ Логика взаимосвязи символов
К использованию
структурного анализа в социальной антропологии
Утверждено к печати
Институтом этнологии и антропологии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая
Редактор С.
В. Веснина
Художник Э.
Л. Эрмлн
Технический редактор О.
В. Волковл
Корректор ИМ.
Чернышева Компьютерная верстка Е. В. Катышева
ЛР ? 020297 от 23. 06. 97 Подписано
к печати 01. 11. 01
Формат 60x90 1/16
Печать офсетная. усл. п. л. 9,0
Усл. кр. -отт. 9,3. Уч. -изд. л. 8,7
Тираж 2000 экз. Изд. ? 7957
Зак. ? 4816
Издательская фирма
'Восточная литература' РАН
103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21
ППП "Типография "Наука" 121099,
Москва Г-99, Шубинский пер. , 6