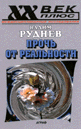Руднев
В. П.
Прочь
от реальности: Исследования по философии текста. II. - М.: 'Аграф', 2000. - 432
с.
Книга русского философа, автора книг 'Винни Пух и
филосо-фия обыденного языка', 'Морфология реальности', 'Словарь культуры XX
века: Ключевые понятия и тексты', посвящена меж-дисциплинарному исследованию
того, как реальное в нашей жиз-ни соотносится с воображаемым. Автор анализирует
здесь такие понятия, как текст, сюжет, реальность, реализм, травма, психоз,
шизофрения. Трудно сказать, по какой специальности написана эта книга: в ней
затрагиваются такие сферы, как аналитическая философия, логическая семантика,
психоанализ, клиническая ха-рактерология и психиатрия, структурная поэтика,
теоретическая лингвистика, семиотика, теория речевых актов. Книга является
фундаментальным и во многом революционным исследованием и в то же время
увлекательным интеллектуальным чтением.
ББК71
ISBN 5-7784-0093-4
© Издательство 'Аграф', 2000 © Руднев В.,2000
От автора. 2
Глава 1. ТЕКСТ.. 3
Время и текст. 3
Человек пансемиотического поведения. 16
Природа художественного высказывания. 30
Повествовательные миры.. 82
Художественное пространство. 98
Глава
2. СЮЖЕТ.. 118
Ошибка за ошибкой. 118
Фабулы не существует. 137
Сюжета не существует. 156
Глава
3. РЕАЛЬНОСТЬ.. 165
Призрак реальности. 165
Призрак реализма. 177
Морфология сновидения. 194
Приложение. 209
Сновидения Юлии К. 209
'Китайская рулетка'. 215
Глава
4. ПРОЧЬ ОТ РЕАЛЬНОСТИ.. 236
Смысл как травма: Психоанализ и философия текста 236
Психотический дискурс. 264
Препарированный
дискурс: Морфология безумия. 301
Л. Н. Толстой Косточка. 312
'Косточка-1' (Л. Н. Толстой-М. Пруст) 316
'Косточка-2' (Л. Н. Толстой-Дж. Джойс) 318
'Косточка-3' (невроз навязчивости) 320
'Косточка-4' (паранояльный бред) 323
'Косточка-7' (шизофренический дискурс) 329
'Это не я убил': Verneinung Фрейда и бессознательные механизмы
речевых действий 335
1.
'Не я ли, Господи?'. 336
2.
'Ручных тигров не существует'. 343
3.
'Это не я убил'. 347
4.
'Когда б я был безумец...'. 358
Читатель-убийца. 364
Указатель
имен. 384
Литература. 394
ОГЛАВЛЕНИЕ.. 416
Идеи, положенные в основу этой
книги, представля-ют собой развитие ключевых идей книги 'Морфология реальности'
[Руднев 1996b] . Прежде всего это положе-ние о том, что
понятия 'реальность' и 'текст' не име-ют в культуре XX века четких
онтологических критери-ев, постоянно перетекая друг в друга. На попытке уло-вить
и осознать границу между текстом и реальностью, в частности, построено все
фундаментальное искусство XX века.
Книга, представляемая сейчас
читателю, построена в виде завихряющейся спирали; последняя в определен-ном
смысле может служить символом идеи неразрывно-сти текста и реальности;
последняя, по нашему мне-нию, составляет основу культурной коллизии XX века.
В соответствии с этим в первой
главе 'Текст' внача-ле разграничиваются понятия 'текст' и 'реальность', затем
делается попытка понять, как функционирует ху-дожественный текст, а потом
рассматриваются основ-ные онтологические мосты между текстом и реальнос-тью -
модальности.
Во второй главе 'Сюжет' мы
вначале показываем, как функционирует художественный сюжет, а затем по-степенно
делаем попытку отказаться от этого понятия.
В третьей главе 'Реальность'
спираль закручивает-ся - реальность рассматривается как текст, художест-венный
реализм объявляется никогда не существовавло рассматриваться как знаковое
образование, а язык понимается как бесконечная череда произвольных ас-социаций.
Отсюда закономерным оказывается
переход в четвер-той главе 'Прочь от реальности' к психоаналитическо-му
осмыслению культуры XX века как культуры невро-тической и психотической. Само
производство текста приравнивается к практике психоанализа, а отрицание
реальности становится универсальным механизмом функционирования речи.
В заключение приношу глубокую
благодарность всем тем, кто так или иначе на разных этапах работы и в разной
форме своей помощью содействовал созданию или изданию этой книги: Валерию
Анашвили, Марку Евгеньевичу Бурно, Павлу Волкову, Владимиру Друку, Сергею
Зимовцу, Сурену Золяну, Татьяне Михайловой, Корену Мхитаряну, Татьяне
Михайловне Николаевой, Михаилу Одесскому, Алексею Плуцеру-Сарно, Ольге
Разуменко, Юрию Сергеевичу Степанову и Владимиру Шухмину.
Я желаю всем счастья.
В. Р.
ПРОЧЬ ОТ
РЕАЛЬНОСТИ
Наука XX века
сделала три важнейших открытия в области осмысления собственных границ. Эти три
от-крытия стали методологической основой нашего иссле-дования.
1. Действительность шире любой
описывающей ее системы; другими словами, 'мышление человека бога-че его
дедуктивных форм' [Налимов 1979: 72]. Этот принцип был
доказан Куртом Гёделем в теореме о не-полноте дедуктивных систем [Godel 1931].
2.
Поэтому, для того чтобы адекватно описать какой-либо объект действительности,
необходимо, чтобы он был описан в двух противоположных системах описа-ния. Это
- принцип дополнительности, сформулиро-ванный Нильсом Бором в квантовой
механике [Бор
1961], а затем
перенесенный на любое научное описа-ние [Лотман 1977а, 1978а].
3. Невозможно одновременно точно
описать два вза-имозависимых объекта. Это - расширенное понима-ние так
называемого соотношения неопределенностей Вернера Гейзенберга, доказывающего
невозможность одновременного точного измерения координаты и им-пульса
элементарной частицы [Гейзенберг 1963, 1987]. Философский аналог этого принципа был
сформулиро-ван Л. Витгенштейном в его последней работе 'О до-стоверности':
3'. Для того чтобы сомневаться в
чем бы то ни бы-ло, необходимо, чтобы нечто при этом оставалось не-
9
сомненным. Этот принцип можно
назвать 'принципом дверных петель':
'341.
...Вопросы, которые мы ставим, и наши с о м н е н и я основываются на
том, что определенные предложения освобождены от сомнения, что они словно
петли, на которых вращаются эти вопросы и сомнения. 342. То есть это
принадлежит логике наших научных исследований, что определенные вещи и в самом д
е л е несомненны. 343. ...Если я хочу, чтобы дверь враща-лась, петли должны
быть неподвижны' [Витгенштейн 1984: 147] (разрядка Л.
Витгенштейна).
Опираясь на эти
принципы, можно утверждать, что текст и реальность - базовые понятия
этой книги - сугубо функциональные феномены, различающиеся не столько
онтологически, с точки зрения бытия, сколько прагматически, то есть в
зависимости от точки зрения субъекта, который их воспринимает. Другими словами,
мы не можем разделить мир на две половины и, собрав в первой книги, слова,
ноты, картины, дорожные знаки, Собор Парижской Богоматери, сказать, что это -
тексты, а собрав во второй яблоки, бутылки, стулья, автомобили, сказать, что
это - предметы физической реальности.
Знак, текст, культура,
семиотическая система, семиосфера, с одной стороны, и вещь, реальность,
естествен-ная система, природа, материя, с другой, - это одни и те же объекты,
рассматриваемые с противоположных точек зрения.
Текст - это воплощенный в
предметах физической реальности сигнал, передающий информацию от одно-го
сознания к другому и поэтому не существующий вне воспринимающего его сознания.
Реальность же мыс-лится нашим сознанием как принципиально непричаст-ная ему,
способная существовать независимо от нашего
10
знания о ней (в последнем,
впрочем, сомневались уже Нильс Бор и Вернер Гейзенберг; подробно эту пробле-му
мы рассмотрим в главе 'Реальность').
И вот в этой
главе мы предпринимаем попытку обна-ружить те основания, на которых строится
различие точки зрения текста и точки зрения реальности, так ска-зать, попытку
выявить механизм переключения с одной точки зрения на другую.
Исходя из основополагающей идеи,
высказанной Лю-двигом Витгенштейном в 'Логико-философском тракта-те', идеи о
том, что если нечто может быть вообще ска-зано, то оно может быть сказано ясно [Витгенштейн 1994:
3], мы будем считать
стандартное предложение на естественном языке эквивалентом любого текста. Ядром
же любого предложения естественного языка служит так называемый предикативный
центр, то есть в явном или неявном виде выраженный глагол, базовой категорией
которого является грамматическая категория времени, или - шире -
семантико-грамматическая категория темпоральности. Последняя особенность
вытекает из самой структуры человеческого мышления:
'Любая мысль
обладает точкой отсчета, поэтому сама мысль определяет эту точку. Этот факт
выражается в грамматике при помощи правила, в соответствии с кото-рым каждое
предложение должно содержать глагол, то есть указательно-рефлексивный знак,
указывающий время события, о котором идет речь, ибо время глагола имеет
указательно-рефлексивное значение' [Рейхенбах 1962: 356].
Другими словами,
любое высказывание так или ина-че представляет собой высказывание о прошлом,
насто-ящем или будущем. Естественно, что в различных ти-
11
пах языкового мышления время
моделируется по-разно-му, но тем или иным образом моделируется всегда. По-лучается,
что время - универсальная характеристика и физической реальности, и знаковой
системы. Однако семиотическое время, время текста, время культуры
противоположным образом отличается от времени фи-зической реальности.
Важнейшим свойством физического
времени являет-ся его анизотропность, то есть необратимое движение в одну
сторону; эта особенность физического времени от-мечается практически всеми
философами, стоящими на естественно-научных позициях [Вернадский 1975;
Грюнбаум
1969; Рейхенбах 1962; Уитроу 1964]. В соот-ветствии с этим свойством ни один момент в мире не
повторяется полностью, мы не можем повторно ока-заться в прошлом и не можем
заглянуть в будущее.
Со второй половины XIX века наиболее
общеприня-той в рамках естественно-научной картины мира явля-ется интерпретация
временной необратимости через второй закон термодинамики, согласно которому
энтро-пия в замкнутых системах может только увеличиваться. Связь временной
необратимости с возрастанием энтро-пии была статистически обоснована в конце
XIX века великим австрийским физиком Людвигом Больцманом [Больцман 1956]
и в середине XX века подробно разра-ботана философом-позитивистом Гансом
Рейхенбахом [Рейхенбах 1962].
'Общая термодинамика, - писал Л. Больцман, - придерживается безусловной
необратимости всех без исключения процессов природы. Она принимает функ-цию
(энтропию), значение которой при всяком событии может изменяться лишь
односторонне, например уве-личиваться. Следовательно, любое более позднее со-
12
стояние
Вселенной отличается от любого более ранне-го существенно большим значением
энтропии. Раз-ность между энтропией и ее максимальным значением, которая
является двигателем всех процессов природы, становится все меньше. Несмотря на
неизменность полной энергии, ее способность к превращениям ста-новится,
следовательно, все меньше, события природы становятся все более вялыми, и
всякий возврат к преж-нему количеству энтропии исключается' [Больцман 1956:
524].
По определению
Г. Рейхенбаха, направление време-ни совпадает с направлением большинства
термодина-мических процессов во Вселенной - от менее вероят-ных состояний к
более вероятным. Мы не можем ока-заться 'во вчера' потому, что в мире за это
время произошли необратимые изменения, общее количество энтропии возросло. В
соответствии с этим принципом в мире, в котором мы живем, 'сигареты не
возрождаются из окурков'.
Но поскольку в
сторону возрастания энтропии на-правлены не все термодинамические процессы в
раз-ных частях Вселенной, а только большинство из них, то существует
гипотетическое представление о том, что в тех частях Вселенной, где энтропия
изначально велика и поэтому имеет тенденцию уменьшаться, время дви-жется в
обратном направлении. Связь с такими мирами, по мнению основателя кибернетики
Норберта Винера, одного из приверженцев данной гипотезы, невозможна, так как
то, что для нас является сигналом, посылающим информацию и тем самым
уменьшающим энтропию, Для них сигналом не является, так как у них уменьше-ние
энтропии есть общая тенденция. И наоборот, сигна-
13
лы из мира, в котором время
движется в противополож-ном направлении, для нас являются энтропийными по-глощениями
сигналов:
'Если бы оно (разумное существо, живущее в мире с противоположным
течением времени. - В. Р.) нарисо-вало
нам квадрат, остатки квадрата представились бы нам любопытной кристаллизацией
этих остатков, все-гда вполне объяснимой. Его значение казалось бы нам столь же
случайным, как те лица, которые представля-ются нам при созерцании гор и
утесов. Рисование ква-драта представлялось бы нам катастрофической гибе-лью
квадрата - внезапной, но объяснимой естествен-ными законами. У этого существа
были бы такие же представления о нас. Мы можем сообщаться только с мирами,
имеющими такое же направление времени' [Винер 1968: 85].
Таким образом, поскольку энтропия и информация суть величины, равные по
абсолютной величине, но противоположные по направлению, то есть с увеличе-нием
энтропии уменьшается информация, то время увеличения энтропии и увеличения
информации суть времена, направленные в противоположные стороны (впервые эту
мысль высказал Э. Васмут (см. [Аскин 1966: 135]].
Любой текст есть сигнал, передающий информацию и
тем самым уменьшающий, исчерпывающий количест-во энтропии в мире. Таким
образом, поскольку любой предмет реальности в нашем мире изменяется во време-ни
в сторону увеличения энтропии, а текст ее исчерпы-вает, то, следовательно,
можно считать, что сам текст движется по времени в противоположном направлении,
в направлении уменьшения энтропии и накопления ин-
14
формации. Таким образом, текст -
это 'реальность' в обратном временном движении. Поэтому то, что явля-ется
текстом у наших временных антиподов (рисование квадрата), для нас - событие
реальности (катастрофи-ческая гибель квадрата), и наоборот.
Переключение с точки зрения
реальности на точку зрения текста есть переключение с увеличения энтро-пии на
увеличение информации. Объект как предмет физической реальности изменяется во
времени от менее энтропийного состояния к более энтропийному, то есть разрушается;
объект как текст изменяется во времени от более энтропийного состояния к менее
энтропийному, то есть созидается.
Вещи увеличивают энтропию, тексты
увеличивают информацию. Вещи движутся в положительном време-ни, тексты - в
отрицательном. Последнее кажется па-радоксом, потому что мы привыкли
представлять дви-жение по времени как движение по пространству, то есть
специализированно, в терминах Анри Бергсона [Бергсон 1914]. Для нас
движение от прошлого к буду-щему представляется в виде луча прямой, движущего-ся
слева направо. Отсюда и заводящая в данном случае в тупик метафора Артура
Эддингтона 'стрела време-ни' [Eddington 1958]. Ибо, представляя
отрицательное движение по времени, мы поневоле представляем дви-жение справа
налево, то есть нечто, кажущееся в прин-ципе противоестественным, наподобие
обратного про-кручивания киноленты. Можно сказать, что мировая линия событий в
физическом мире представляет собой не луч прямой от менее энтропийного
состояния к бо-лее энтропийному, но кривую, где при общей тенден-ции к
возрастанию энтропии имеются отрезки, на про-тяжении которых энтропия
понижается. Поскольку время текста направлено в противоположную сторону
15
по отношению ко времени
реальности, то следующие три постулата Г. Рейхенбаха о необратимости энтро-пийного
времени:
(1)
Прошлое не возвращается;
(2) Прошлое
нельзя изменить, а будущее можно;
(3) Нельзя иметь достоверного
знания (протокола) о будущем [Рейхенбах 1962: 35-39] - в информативном
времени текста соответственно меняются на противоположные:
(1')
Прошлое текста возвращается, так как каждый текст может быть прочитан сколько
угодно раз.
(2')а С
позиции автора прошлое текста изменить можно, так как автор является демиургом
всего текста.
(2')б С
позиции читателя нельзя изменить ни про-шлое, ни будущее текста. Если читатель
вмешивается в текст, пытаясь изменить его будущее, то это говорит о том, что он
воспринимает текст как действительность в положительном времени.
(3') Можно
иметь достоверные знания о будущем текста. Сравним две фразы:
а) Завтра будет дождь.
б) Завтра будет пятница.
Первое
высказывание является вероятностным ут-верждением. Нельзя точно утверждать, что
завтра будет дождь. Второе утверждение является достоверным, так как в той
семиотической среде, в которой оно произно-сится, названия дней недели
автоматически следуют од-но за другим. Поэтому в тексте возможен не только
ргаеsens historicum, но и futurum historicum. Обратимся к сви-детельству одного
из основателей философии истории,
16
философии времени и семиотики
Святому Августину, который анализирует семиотическое время во многом сходным
образом:
'Таким-то
образом совершается наше измерение вре-мени: постоянное напряжение души нашей
переводит свое будущее в свое прошедшее, доколе будущее не ис-тощится
совершенно и не обратится совершенно в про-шлое. Но каким образом будущее,
которое не осущест-вилось еще, может сокращаться и истощаться? Или ка-ким
образом прошедшее, которое не существует уже, может расти и увеличиваться?
Разве благодаря тому, что в душе нашей замечается три акта действования: ожида-ние
(expectatio, то же, что чаяние, упование, надежды), внимание (attentio, то же,
что взгляд, воззрение, созерца-ние, intuitus) и память или воспоминание
(memoria), так что предмет нашего ожидания, делаясь предметом наше-го внимания,
переходит в предмет нашей памяти. Нет сомнения, что будущее еще не существует,
однако же в душе нашей есть ожидание будущего. Никто не станет отвергать и
того, что прошедшее уже не существует; од-нако же в душе нашей есть
воспоминание прошедшего. Наконец нельзя не согласиться и с тем, что настоящее
не имеет протяжения (spatium), потому что оно проходит для нас неуловимо (in
puncto praeterit) как неделимое; но внимание души нашей останавливается на нем,
посред-ством чего будущее переходит в прошедшее. Поэтому не время будущее
длинно, которого еще нет, но длинно бу-дущее в ожидании его. Равным образом не
время про-шедшее длинно, которого нет уже, но длинно прошед-шее по воспоминанию
о нем. Так, я намереваюсь, поло-жим, пропеть известный мне гимн, который знаю
наизусть. Прежде нежели начну его, я весь обращаюсь при этом в ожидание. Но
когда начну, тогда пропетое
17
мною, переходя в прошедшее,
принадлежит моей памя-ти, так что жизнь моя при этом действии разлагается на
память по отношению к тому, что пропето, и ожидание по отношению к тому, что
остается петь, а внимание все-гда присуще мне, служа к переходу от будущего в
про-шедшее. И чем далее продолжается действие мое, тем более ожидание
сокращается, а воспоминание возраста-ет, доколе первое не истощится совершенно
и не обра-тится всецело в последнее. И что говорится о целом гим-не, то можно
приложить и ко всем его частям и даже к каждому из слогов. То же самое можно
применить и к действиям более продолжительным, по отношению к ко-им этот гимн
служит только краткою частичкою; и к це-лой жизни человека, коего все действия
суть части ея; наконец и к целым векам сынов человеческих, коих раз-ные
поколения и единичные жизни составляют части од-ного целого' [Августин
1880: 363-364].
Время жизни
текста в культуре значительно больше времени жизни любого предмета реальности,
так как любой предмет реальности живет в положительном эн-тропийном времени, то
есть с достоверностью разруша-ется, образуя со средой равновероятное
соединение. Текст с течением времени, наоборот, стремится обрасти все большим
количеством информации.
В романе Оскара Уайльда 'Портрет
Дориана Грея' текст и реальность конверсивно меняются местами. Текст (портрет
героя) стареет, тогда как герой остается вечно молодым. Но эта подмена на
поверхности оборачивается глубинным сохранением функций текста; старея, он тем
самым передает информацию герою о его злодеяниях, как бы став его этическим
зеркалом. Смерть Грея восстанав-ливает исходную ситуацию: текст вновь молодеет,
мерт-вый герой моментально превращается в старика.
18
Таким образом, чем старше текст,
тем он информа-тивнее, так как он хранит в себе информацию о своих прежних
потенциальных восприятиях. Барочная сюита выступает для нас как 'серьезная
музыка', и в то же вре-мя в своей структуре она хранит следы потенциального ее
восприятия как музыки легкой, танцевальной, какой она была в эпоху ее создания,
подобно современной лег-кой музыке, которую, как можно вообразить, через мно-го
веков будут слушать с той сосредоточенностью, с ка-кой мы слушаем легкую музыку
прошлого. Наоборот, духовная музыка - католическая месса, реквием, пассион -
воспринимается нами как светская вне того риту-ального контекста, явные следы
которого несет ее текст. Поэтому в определенном смысле мы знаем о 'Слове о
полку Игореве' больше, чем современники этого памят-ника, так как он хранит все
культурные слои его прочте-ний, обрастая огромным количеством комментариев. При
этом, как справедливо отмечает основоположник феноменологической эстетики Роман
Ингарден, мы не восстанавливаем непонятные места текста из знания ре-альности,
а скорее наоборот, восстанавливаем прошед-шую реальность по той информации о
ней, которую хра-нят тексты:
'Мы
комментируем лишь произведения посредст-вом произведений, а не произведения
посредством ми-нувшей действительности. Отсюда возможность позна-ния содержания
самих ныне нам непосредственно до-ступных произведений является условием
возможности познания минувшей эпохи, а не наоборот, как это часто считают
историки искусства' [Ингарден 1962: 463].
Текст не
умирает в пределах создавшей его культуры прежде всего потому, что он не равен
своей материаль-
19
ной сущности. Хотя в определенном
смысле знак разде-ляет судьбу со своим денотатом, но, с другой стороны,
'выцветшее изорванное знамя исчезает как предмет ре-альности, но сохраняется
как предмет поклонения'. С этой точки зрения не имеет смысла говорить, что 'про-изведение
архитектуры Нотр-Дам намокло от дождя, потому что в Париже в это время шел
дождь'.
Текст не равен своему экземпляру.
В отличие от пред-мета реальности, который в пространственном смысле
центростремителен, то есть ограничивается рамками своих очертаний, текст
центробежен, он путем 'тира-жирования' стремится охватить как можно большее
пространство. Но смерть текста не есть уничтожение всех его экземпляров, так
как всегда в случае необхо-димости его можно восстановить и актом культурной
канонизации приравнять реконструированный текст к изначальному. Такова,
например, история 'Курса об-щей лингвистики' Ф. де Соссюра, реконструированно-го
Ш. Балли и А. Сеше из разрозненных конспектов лекций швейцарского лингвиста,
который никогда не писал книги с таким названием, но несмотря на это, благодаря
своей важности в культуре, она считается его произведением. Текст лишь тогда
умирает, когда его пе-рестают читать, то есть когда он перестает давать куль-туре
новую информацию. В этом случае все экземпля-ры текста остаются как предметы
реальности. Сам же текст исчезает.
Положительное энтропийное
направление времени соответствует философскому детерминизму (не меха-нистическому
детерминизму Лапласа, а менее сильно-му философскому, утверждающему, что всякая
причина имеет свое следствие [Поппер 1983: 572].) Отрицатель-ное
информативное направление времени соответству-ет философскому телеологизму.
Телеология и детерми-
20
низм суть противоположные
'симметричные' систе-мы описания одного и того же объекта [Рейхенбах 1962].
Наличие у текста автора и читателя подразуме-вает телеологический принцип
описания действитель-ности. В отличие от состояния естественной физичес-кой
системы, которое стало таким вследствие некото-рого взаимодействия событий в
прошлом (движение от причины к следствию), в тексте нечто сделано кем-то с
какой-то целью. В естественной системе происхо-дит движение от менее вероятных
событий к более ве-роятным, в тексте наоборот - от более вероятных к менее
вероятным.
Рассмотрим случай с бросанием
игральной кости. Когда кость бросается 'просто так', то есть когда мы не следим
за результатом бросания, то этот результат не несет никакой информации.
Происходит причинно-следственный процесс от менее вероятного состояния
('повисания' кости в воздухе) к более вероятному (к ее падению на землю в силу
закона тяготения). Энтропия здесь накапливается, время движется в положительном
направлении. Но процесс бросания кости как игровой заключается в том, что на
чисто физическую равноверо-ятность каждого из шести возможных исходов наклады-вается
семиотическая неравновероятность ожидания определенного результата. Нам не все
равно, какой гра-нью упадет кость, шестерка для нас лучше, чем едини-ца. Поэтому
падение кости определенной гранью несет информацию, энтропия исчерпывается, и
этот процесс переоценивается как знаковый, являясь в этом случае не
причинно-следственным, а целевым.
В каком смысле при переживании
бросания кости как знакового процесса можно говорить о том, что время здесь
движется в противоположном направле-нии?
21
Допустим, в нашем мире
господствует 'извращен-ный' принцип тяготения (ср. цитату из Норберта Вине-ра
выше). Тогда кость 'оттолкнется' нижней плоско-стью от земли и 'прыгнет' в
руку. При этом конечное состояние кости на земле становится начальным взаи-модействием,
а начальное взаимодействие кости с ру-кой станет следствием, то есть конечным
состоянием. Теперь представим, что наше семиотическое сознание так же
извращено, что нам нужно не накапливать, не со-общать информацию, а стирать ее.
Тогда кость из поло-жения 'шестерки' прыгнет в руку, и тот факт, что вме-сто
шестерки мы получили неопределенность, и будет нашим 'сообщением'. В этом
случае мы добиваемся увеличения энтропии, погашение 'шестерки' и есть на-ша
цель. И в этом случае время сообщения движется в положительном направлении.
Таким образом, начало и конец в
тексте и реально-сти симметрично меняются местами. Человек пансемиотического поведения,
то есть такой человек, который строит свою жизнь как сообщение, как текст,
восприни-мает свою будущую смерть не как конечное состояние, не как следствие
причинного процесса, не как оконча-тельное увеличение энтропии, не как
результат движе-ния от менее вероятного состояния к более вероятному, но как
цель, окончательное исчерпание энтропии, как результат движения от более
вероятного состояния к ме-нее вероятному. Смерть для него в этом
случае представ-ляет собой скорее рождение. Именно таким является
этическое религиозное сознание, приписывающее миру творца, автора, то есть
подразумевающее исторический телеологизм и тем самым отрицательное движение от
смерти (физиологического рождения) к истинному рож-дению (физиологической
смерти). Поэтому в таком со-знании рождение рассматривается как нечто энтропий-
22
но-отрицательное - результат
греха, а смерть - как глубоко позитивное информативное явление, как вос-кресение
для истинной ахронной жизни. Ибо конец лю-бого текста, конец его создания и
восприятия, его 'физи-ологическая смерть' означает начало его жизни как се-миотического
явления.
В этом, по-видимому, и состоит
идея культурного бессмертия. В тот момент, когда человек культуры уми-рает, он
в полной мере рождается как текст культуры, начинается его подлинная ахронная
жизнь, которая на-чинает читаться с самого начала как нечто телеологи-ческое.
Пример
телеологического отношения к своей смерти являет собой свидетельство о кинике
Диогене Синопском, которое приводит Диоген Лаэрций: 'Тем, кто гово-рил ему:
"Ты стар, отдохни от трудов", он отвечал: "Как если бы я бежал
дальним бегом и уже приближался к цели, разве не следовало бы мне напрячь все
силы, вместо того чтобы уйти отдыхать?"' [Диоген Лаэртский 1979: 244].
Подобное отношение к смерти было характерно для большинства 'учителей жизни' от
Будды, Лао-цзы, Сократа и Иисуса Христа до Л. Н. Толстого. К тому же ряду
явлений относятся идея нирваны в буддизме и самадхи в йоге. Тот же тип
отношения к смерти являет со-бой культурное самоубийство Катона Утического или
смерть А. Н. Радищева как реализация самоубийства Ка-тана (в интерпретации Ю.
М. Лотмана [Лотман 1977b]).
По мнению 3. Фрейда, любое самоубийство есть отож-дествление себя с другим и,
следовательно, акт телеоло-гический, передача информации тому, кто остается
жить (хотя бы по принципу: 'Я убью себя, но вам же будет ху-же') [Фрейд 1995с].
В этом плане этика телеологична в
принципе, ее вре-мя направлено к исчерпанию энтропии, а психология
23
детерминистична, ее время
направлено в сторону уве-личения энтропии. Поэтому в христианстве психоло-гия -
от дьявола, она представляет собой систему ис-кушений, направленных на то,
чтобы сбить человека с пути информативной смерти-рождения. Человеку в обычной
жизни необходима постоянная семиотическая регуляция поведения, что равносильно
движению в от-рицательном времени. В противном случае общая тен-денция движения
мира в сторону увеличения энтропии очень быстро уравновесит его со средой.
Таким обра-зом, семиотизация, понижение энтропии, равносильна
социоантропологическому выживанию (на этом пост-роен сюжет робинзонады).
Десемиотизация равносиль-на разрушению личности и культуры. Культура всегда
антиэнтропийна и поэтому стремится к повышенной семиотичности. Однако
вследствие принципиальной не-полноты любой системы описания действительности
(ср. принцип (1) на с. 9) культуре необходимо несколько систем описания с тем,
чтобы 'неполнота компенсиро-валась стереоскопичностью' (по выражению Ю. М.
Лотмана [Лотман
1978: 17]). Отсюда принципиальный би-лингвизм культуры как ее
универсальная характеристи-ка [Иванов 1978; Лотман 1977с; Лотман-Успенский 1977].
При этом в каждой культуре всегда есть своя се-миотика 'сырого' и семиотика
'вареного'. 'Естествен-ность' Руссо противопоставляется 'искусственности'
Монтескье. 'Новое' петровских реформ противостоит 'старому' боярской фронды.
Строго упорядоченное конфуцианство находится в противоречивых отношени-ях с
квазинеупорядоченными даосами и буддистами-чань (см. [Абаев 1983; Померанц 1972]).
Но и в том и в другом случае - и при отстаивании естественности, и при
отстаивании упорядоченности - речь идет о языке, о преодолении энтропии.
24
Семиотическое
пронизывает каждодневный жизнен-ный опыт человека, так как он вследствие своего
экстракорпорального развития, повлекшего за собой разви-тие высших языковых
функций [Поппер
1983: 515-517], не
может жить инстинктом. Поэтому человеку необхо-дима семиотика еды, чтобы
отличить вредное от полез-ного и отравленное от неотравленного. Для того чтобы
сшить или купить новую одежду, которая в качестве предмета физической
реальности подвержена энтро-пии, необходимо иметь в языке понятие одежды, чтобы
была возможность 'генетически' приравнять старую одежду к новой. В этом смысле
общество, живущее се-миотической жизнью, постоянно стремится двигаться в
антиэнтропийном направлении на фоне неуклонного положительного энтропийного
времени.
Энтропийная
модель времени не является универ-сальной в истории культуры и насчитывает
всего лишь около ста лет развития. На протяжении двух тысячеле-тий христианская
культура жила в соответствии с про-тивоположной концепцией времени, которую
можно назвать эсхатологической. Наконец, самая древняя мо-дель времени и самая
жизнестойкая, насчитывающая десятки тысяч лет, - это мифологическая, цикличес-кая
модель. В мифологической модели времени не 'ра-ботает' первый постулат
Рейхенбаха - постулат нео-братимости:
'Если же поверить пифагорейцам, то снова повто-рится все то же самое
нумерически (буквально, тож-дественно), и я снова с палочкой в руке буду
рассказы-вать вам, сидящим передо мной, и все остальное вновь придет в такое же
состояние' (цит. по [Лосев 1976: 126]).
25
Так же циклически моделируется в
мифологической картине мира история (см., например, [Конрад 1972; Лосев 1976; Элиаде 1987].
Соответственно и в языке мифологической эпохи нет противопоставления настоя-щего,
прошлого и будущего [Лосев 1982а; 1982b; Уорф 1962а; 1962b].
Мифологическая модель мира не знает противопоставления текста и реальности.
Мифологиче-ская стадия сознания - это стадия досемиотическая. Знак здесь равен
денотату, высказывание о действии - самому действию, часть - целому и т. д.
(см. [Фрэзер
1980; Леви-Брюлъ 1994; Лосев 1982а; Лотман-Успенский 1973; Мелетинский 1976;
Пятигорский 1965]). В определенном смысле понятие мифа есть
самоотрицаю-щее понятие. Ибо там, где есть слово 'миф', уже нет са-мого мифа, а
там, где есть миф, нет понятия мифа, как и нет вообще никаких понятий. Текст
возникает при демифологизации мышления, на стадии развертывания временного
цикла в линейную последовательность, то есть на стадии эпоса, который уже в
определенном смысле является текстом [Лотман-Минц 1981]. Для Платона время -
еще круг, но это уже один большой круг (Великий Год), а время - 'подвижный
образ веч-ности', которая существует вне времени [Платон 1971]. Поэтому
понятие текста и реальности у Платона существуют (соответственно tehne и
physis), но то, что для нас является реальностью, для Платона - мир тек-стов,
подобий идеального, истинного мира, а мир идей (семиотический в нашем смысле)
для него обладает свойствами истинной реальности [Лосев 1974]. Разви-тие
идей Платона в философии неоплатоников, пере-плетенное с иудейской динамической
картиной мира (см. [Аверинцев 1971, 1977]), дает эсхатологическую, линейную модель
времени и истории, разработанную ранними христианскими авторами и прежде всего
Бла-
26
женным Августином в трактате 'De
Civitate Dei' [Авгу-стин 1906]. История, по Августину,
есть противоборст-во двух миров: государства земного и Государства Бо-жьего.
Участь первого - разрушение, участь второго - созидание и завоевание ахронного
рая (ср. [Бердяев
1923; Гуревич 1972; Майоров 1979]). Завязка исторической
драмы - Первородный Грех, ее кульми-нация - Страсти Христовы, а развязка и цель
- Вто-рое Пришествие и Страшный Суд. В соответствии с этим прошлое и будущее,
начало и конец в средневеко-вом представлении об истории меняются местами (ср.
представление древнерусской летописи о том, что про-шлое находится впереди
('передние князья'), а настоя-щее и будущее - позади ('задняя слава') [Лихачев 1972:
286]. Ср. также слова Иоанна Крестителя об Ии-сусе: 'Идущий
за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня' [Иоанн, 1, 15].
Очевидно, что эта картина времени полностью соответствует противопо-ставлению
энтропийного времени информативному в естественно-научной картине. Энтропийное
время - это время града земного, время дьявола. Информатив-ное телеологическое
время - это время Града Божьего. Таким образом, истинная жизнь - это жизнь в
нашем понимании семиотическая, мир идей, по Платону, а жизнь бренная - это
внезнаковая энтропийная реаль-ность, реальность иллюзорная. Истинная жизнь в
эсхатологическом сознании - это подготовка к смерти. От-сюда средневековая идея
о том, что жизнь - это сон, а смерть - пробуждение. Поэтому отношение к смерти
в рамках эсхатологической модели глубоко положитель-ное, а бессмертие на этом
свете - самое мучительное наказание (Агасфер, Мельмот, Демон). Ю. Н. Тынянов
Говорил, что в России страх смерти как культурное яв-ление ввели Толстой и
Тургенев [Гинзбург
1986: 385].
27
Действительно, культурного страха
смерти еще в пуш-кинскую эпоху не было, достаточно вспомнить веселую 'холерную'
переписку Пушкина в 1830 году.
Хронологически начало 'страха
смерти' совпадает с деэсхатологизацией культуры, начавшейся в середине XIX века
в прямой связи с естественно-научным и фи-лософским позитивизмом и в конечном
счете с откры-тием второго закона термодинамики, который был сформулирован
Кельвином и Клаузиусом в 1850 году и положил начало энтропийной модели времени [Уитроу 1964:
353].
Деэсхатологизация времени была
процессом отнюдь не долгим, так как культуре противопоказан страх смер-ти.
Поэтому уже с конца XIX века в философской мысли начинается мощное
антиэнтропийное движение, направ-ленное на то, чтобы сомкнуть острие 'стрелы
времени', неумолимо движущейся к максимальной энтропии, с ее началом. Это
движение развивалось по двум направлени-ям, одно из которых можно назвать
ремифологизацией, а другое - реэсхатологизацией.
Уже Людвиг Больцман в 'Лекциях по
теории газов' формулирует флуктуационную гипотезу возникновения мира, в
соответствии с которой Вселенная возникла в результате чрезвычайно
маловероятного события. Именно поэтому энтропия в начале развития Вселен-ной,
по мнению Больцмана, была низкой. С этого мо-мента она увеличивается до тех
пор, пока это не приве-дет к тепловой смерти Вселенной. Но этот процесс, по
Больцману, является лишь очень вероятным, но не до-стоверным. Существует
мизерная вероятность того, что элементы вселенной вновь распределятся таким же
об-разом, как это было в ее начале, что приведет к флуктуационному взрыву и мир
повторит свое развитие. Эта вероятность равна вероятности того, что в один и
тот же
28
день все жители одного города
покончат жизнь само-убийством [Больцман 1956: 523-526].
Гипотеза
Больцмана является вероятностной, в соответствии с ней возвращение мира
практически не про-изойдет никогда. В менее же строгих построениях мыс-лителей
начала XX века идея возвращения становится поистине навязчивой. Она пронизывает
философию жизни Ф. Ницше, аналитическую психологию К. Г. Юн-га и практически всю
философию истории века - по-строения О. Шпенглера, Н. А. Бердяева, И. Хёйзинги,
А. Дж. Тойнби, М. Элиаде [Шпенглер 1991; Бердяев 1923; Toynbee 1934-1961; Хёйзинга
1993; Элиаде 1987].
Одновременно с
ремифологизацией начинается и реэсхатологизация, для которой характерно
совмещение христианского понимания мира с его естественно-науч-ной картиной. В
конце XIX века это движение связано в первую очередь с именем Н. Ф. Федорова,
основной це-лью 'философии общего дела' которого было антиэнт-ропийное
достижение земного рая при помощи физического воскрешения мертвых [Федоров 1982].
Характерно, что Федоров, апеллируя к первому началу термодинами-ки (закону
сохранения энергии), совершенно игнориро-вал второе. В XX веке наиболее яркий
представитель движения реэсхатологизации - Пьер Тейяр де Шарден, развивающий
концепцию прогрессивного антиэнтропий-ного развития мира, направленного к так
называемой точке Омега, к рождению Бога, единого самосозидающего интеллекта [Тейяр де
Шарден 1987].
По-видимому,
культуре вообще не свойственно быть атеистической. Атеизм в культуре часто
выступает как квазиатеизм. Так, А. Дж. Тойнби показал, что концепция
исторического материализма является лишь разновидностью христианского учения,
идея коммунизма - вариантом эсхатологического второго пришествия
29
[Toynbee 1935: 355-356].
По-видимому, так называемые материализм и идеализм суть дополнительные описа-ния
одного объекта. Говоря обобщенно, точка зрения идеализма совпадает с точкой
зрения текста, а точка зрения материализма - с точкой зрения реальности (ср.
вывод Л. Витгенштейна о том, что идеализм и материа-лизм суть одно, если они
строго продуманы [Витгенштейн 1994: 57 (5.64)].
В культуре XX
века существовала еще одна точка зрения на время, связанная с традицией
английского 'абсолютного идеализма' начала века [Bradley 1969; Alexander 1903; McTaggart
1965; Dunne 1920, 1930]. Эти философы исходили из того, что
ноуменально времени вообще не существует, а иллюзия времени возникает в
статичном мире из-за непрерывного изменения внима-ния наблюдателя.
Наиболее интересной в плане
семиотического рас-смотрения проблемы времени является концепция Джо-на Уильяма
Данна. Есть два наблюдателя, говорит Данн. Наблюдатель 2 следит за наблюдателем
1, находящимся в обычном четырехмерном пространственно-времен-ном континууме.
Но сам этот наблюдатель 2 тоже дви-жется во времени, причем его время не
совпадает со временем наблюдателя 1. То есть у наблюдателя 2 при-бавляется еще
одно временное измерение, время 2. При этом время 1, за которым он наблюдает,
становится пространственно-подобным, то есть по нему можно пере-двигаться, как
по пространству - в прошлое, в будущее и обратно, подобно тому как в
семиотическом времени текста можно заглянуть в конец романа, а потом перечи-тать
его еще раз. Далее Данн постулирует наблюдателя 3, который следит за
наблюдателем 2. Континуум этого последнего наблюдателя будет уже шестимерным,
при этом необратимым будет лишь его специфическое вре-
30
мя 3; время 2 наблюдателя 2 будет
для него пространственно-подобным. Нарастание иерархии наблюдателей и
соответственно временных изменений может продол-жаться до бесконечности,
пределом которой является Абсолютный наблюдатель, движущийся в абсолютном
Времени, то есть Бог [Dunne 1920] (см. также наши пе-реводы
фрагментов из Данна [Данн 1992, 1995]).
Интересно, что, согласно Данну,
разнопорядковые наблюдатели могут находиться внутри одного сознания, проявляясь
в особых состояниях сознания, например во сне. Так, во сне, наблюдая за самим
собой, мы можем оказаться в собственном будущем - тогда-то мы и ви-дим
пророческие сновидения. Теория Данна - являет-ся синтетической по отношению к
линейно-эсхатологи-ческой и циклической моделям. Серийный универсум Данна -
нечто вроде системы зеркал, отражающихся друг в друге. Вселенная, по Данну, -
иерархия, каждый уровень которой является текстом по отношению к уровню более
высокого порядка и реальностью по отно-шению к уровню более низкого порядка.
Концепция Данна оказала
существенное влияние на культуру XX века, в частности на творчество X. Л. Бор-хеса,
каждая новелла которого, посвященная проблеме времени и соотношению текста и
реальности, законо-мерно дешифруется серийной концепцией Данна, кото-рую Борхес
хорошо знал. Так, в новелле 'Другой' ста-рый Борхес встречает себя самого
молодым. Причем для старика Борхеса это событие, по реконструкции Борхе-са-автора,
происходит в реальности, а для молодого - во сне. То есть молодой Борхес во
сне, будучи наблюда-телем 2 по отношению к самому себе, переместился по
пространственно-подобному времени 1 в свое будущее, где встретил самого себя
стариком, который, будучи на-блюдателем 1, спокойно прожил свой век во времени
1.
31
Однако молодой Борхес забывает
свой сон, поэтому, ког-да он становится стариком, встреча с самим собой, путе-шествующим
по его времени 1, представляется для него полной неожиданностью (подробно о
концепции Данна в связи с 'серийным мышлением' начала XX века см. [Руднев 1992а]).
Культура - это огромный текст. Но лю-бой текст только тогда является текстом,
когда он может быть прочитан. Последнее, как писал М. М. Бахтин, -
'вытекает из
природы слова, которое всегда хочет быть услышанным, всегда ищет ответного
понимания и не останавливается на ближайшем понимании, а пробивается все дальше
и дальше (неограниченно). Для слова (а следовательно, для человека) нет ничего
страшнее безответности. Даже заведомо ложное слово не бывает абсолютно ложным и
всегда предполагает инстанцию, которая поймет и оправдает хотя бы в фор-ме:
"всякий на моем месте солгал бы также"' [Бахтин 1979: 306].
Представим
себе, что всю жизнь человека можно записать на видеомагнитофонную кассету.
Пусть эта запись будет обладать еще большим сходством с ре-альной жизнью
человека: будет стереоскопической, будет воспроизводить вкус и запах и т. п. В
любом слу-чае эта запись будет являться текстом лишь в том слу-чае, если ее
кто-то прочтет после того, как она будет записана. В противном случае она
превратится в бес-смысленный конгломерат из предметов реальности. Культура для
идеалистического сознания есть 'видео-магнитофонная запись' жизни всего человечества.
Ес-ли предположить, что после смерти человечества она не будет прочитана (ср.
финал романа Г. Гарсиа Мар-кеса 'Сто лет одиночества', где жизнь рода Буэндиа
32
оказывается записанной на
манускрипте от начала до конца; ср. также апокалиптический мотив книги, кото-рую
дает Ангел Иоанну и в которой записана судьба человечества), то развивать ее
бессмысленно, так как она превращается в конгломерат ничего не значащих вещей.
Поэтому в рамках такого сознания понятие движения времени в сторону увеличения энтропии,
в сторону физиологической смерти есть такое же само-отрицающее понятие, как
понятие мифа. Человеку христианской культуры (а это равносильно тому, что-бы
сказать: человеку европейской культуры) не свой-ственно думать, что он умрет
'окончательно'. Он лишь знает о смерти других, то есть знает, что другие время
от времени в физическом смысле перестают су-ществовать. Сама смерть не является
событием жизни человека [Витгенштейн 1994: 71 (6.341)]. Поэтому
для идеалиста внесемиотическая реальность является не-существующей абстракцией.
Само разграничение про-шлого и будущего предполагает их зеркальную проти-воположность,
ибо 'в тебе, душа моя, измеряю я вре-мена' [Августин 1880: 362], ибо энтропийной жизнью от прошлого к
будущему живет только природа, кото-рая об этом 'не знает', которая не горюет о
прошлом и не уповает на будущее. Ибо в природе существует лишь бесконечный ряд
настоящих моментов. Появле-ние семиотической памяти уже означает движение в
противоположном направлении, так же как и появле-ние понятия 'миф' является
отрицанием самого мифа.
Согласно гипотезе Г. Рейхенбаха,
опирающегося на эксперименты и выводы Э. К. Г. Штюкельберга и Р. П. Фейнмана,
положительное направление времени в макромире есть следствие асимметрии
положительно и отрицательно заряженных частиц. Физическое время движется в
сторону увеличения энтропии потому, что
33
электронов в целом больше, чем
позитронов. К такому выводу физики и философы приходят потому, что при
наблюдении за поведением этих частиц возникает эф-фект их аннигиляции, то есть
возникновение из ничего и превращение в ничто. В соответствии с 'бритвой
Оккама' путь электрона, который превращается в свою противоположность -
позитрон, корректней описать как движение того же электрона, но в противополож-ном
направлении времени [Рейхенбах 1962: 356; Уит-роу 1964: 359-363].
Анализируя понятия 'текст' и
'реальность', мы ана-лизировали только вход и выход человеческого созна-ния,
которое само по себе оставалось для нас 'черным ящиком'. Быть может, мышление
есть нечто аналогич-ное высвобождению элементарных частиц, которые мо-гут
двигаться по времени туда и обратно. Мы не можем полностью возвратиться в
прошлое, так как мы не мо-жем 'всего упомнить'. Если же мы помним все, то это
позволяет нам почти реально передвигаться по времени в прошлое, как это делал
человек с большой памятью Шерешевский [Лурия 1968].
Здесь мы переходим в область
домыслов и загадок, выходя за рамки рассматриваемых нами проблем. По-этому этот
раздел нам хочется закончить высказывани-ем Бенджамена Ли Уорфа, которого
называют самым за-гадочным лингвистом двадцатого столетия:
'Если мы сделаем попытку проанализировать созна-ние, то найдем не
прошлое, настоящее и будущее, а сложный комплекс, включающий в себя все эти
поня-тия. Все есть в сознании, и все в сознании существует и существует
нераздельно. В нашем сознании соединены чувственная и нечувственная стороны
восприятия. Чув-ственную сторону - то, что мы видим, слышим, осяза-
34
ем, - мы можем называть the
present (настоящее), дру-гую сторону, обширную воображающую область памя-ти, -
обозначить the past (прошлое), а область веры, ин-туиции и неопределенности -
the future (будущее), - но и чувственное восприятие, и память, и предвидение,
все это существует в нашем сознании вместе' [Уорф 1962: 148].
В
первом разделе мы попытались понять, чем отли-чаются друг от друга такие
объекты, как текст и реаль-ность. В этом разделе будет предпринята попытка раз-граничить
художественный и не художественный текст.
При этом на
протяжении всего исследования понятие художественности как аксиологически
ориентированное понятие нас интересовать не будет, так же как и произ-водные от
него аксиологические выражения 'более ху-дожественный' или 'менее
художественный'. К сожа-лению, в русском языке нет термина, который в наиболь-шей
степени соответствовал бы тому, о чем будет идти речь: английскому fiction и
производному от него fiction-al. Между тем, буквальный перевод этих слов как
'вы-мысел' и 'вымышленный' не вполне подходит, так как их значение лишь
пересекается со значением 'художест-венный' в том смысле, в котором мы хотим
его употреб-лять. Вымышленность может иметь место и в контексте
нехудожественного, например обыденного речевого дис-курса, когда, скажем,
ребенок рассказывает небылицы, или имеет место ситуация обмана или вранья,
речевого бахвальства (см. об этом подробнее [Searle 1976; Тодоров 1983]).
Вымысел как
мощный субститут реального материа-ла присутствует в работах по лингвистической
филосо-фии и лингвистике (например, история о французе, пе-реселившемся в
Лондон, из статьи С. Крипке 'Загадка
36
контекстов мнения' [Крипке 198б]), к которой мы обра-тимся ниже при
анализе сюжета). С другой стороны, в контексте художественного произведения
могут встре-чаться пропозиции, которые вполне нейтральны в плане их
вымышленности / подлинности, то есть предложе-ния типа
(1) Все счастливые семьи похожи друг на друга...
Такие
предложения исследованы в работах [Weitz 1956; Castaneda 1979; Lewis 1983]
и специально нами рассматриваться не будут. Следует лишь отметить, что в
принципе все художественное произведение или подав-ляющая его часть могут
обходиться без вымысла, и это будут не только произведения, граничащие с
публицис-тикой вроде 'Архипелага Гулаг' А. И. Солженицына (где, впрочем,
подчеркнуто в подзаголовке, что речь идет о 'художественном исследовании'), но
и такие сложные тексты современного постмодернизма, как 'Бесконеч-ный тупик' Д.
Е. Галковского.
Сейчас нас будут интересовать
прежде всего художе-ственные произведения в узком смысле, то есть беллет-ристика,
которая и называется в англоязычном языко-вом обиходе fiction. Поэтому, говоря
о художественном высказывании, мы будем иметь в виду вымышленное высказывание в
контексте художественного беллетрис-тического произведения, то есть в таком, в
котором дей-ствуют выдуманные герои. Таким образом, главным предметом нашего
анализа будут такие художественные высказывания, как
(2) Все сметалось в доме
Облонских или
(3) Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова.
37
Основной
особенностью высказываний этого типа является отсутствие у них логической
валентности, или истинностного значения. То есть в каком-то фундамен-тальном
смысле такие предложения не являются ни ис-тинными ни ложными, так как
собственные имена, вхо-дящие в них, не имеют реальных денотатов. Вне своего
исконного контекста подобные предложения в речевой деятельности могут играть
лишь роль цитат, в против-ном случае они становятся бессодержательными и их
употребление теряет смысл. Так, уже великий немецкий философ и логик Готлоб
Фреге писал:
'Предложение Одиссея высадили на берег
Итаки в состоянии глубокого сна очевидным образом имеет смысл. Но
поскольку мы не знаем, есть ли денотат у имени Одиссей, мы вряд ли можем
сказать, что таковой имеется у всего предложения. Ясно, однако, что тот, кто
всерьез считает данное предложение истинным или ложным, считает также, что имя
Одиссей имеет не толь-ко смысл, но и денотат, ибо именно денотату этого име-ни
можно приписывать состояние, обозначенное в при-веденном предложении
соответствующим предикатом. [...] суждение не изменится от того, имеет слово
Одис-сей денотат или нет. Однако сам факт, что нас волнует вопрос о денотатах
отдельных частей предложения, указывает на то, что мы в общем случае
предполагаем наличие денотата и у предложения в целом. Суждение теряет для нас
всякую ценность, как только мы замеча-ем, что какая-нибудь из его частей не
имеет денотата'[Фреге 1978: 187-188].
Что же является истинностным значением художест-венного высказывания в
противоположность его смыс-лу? Фреге считал, что по отношению к вымыслу про-
38
блема поиска денотата, во всяком
случае денотата, по-нимаемого как истинностное значение, неактуальна. Вот что
он писал по этому поводу в статье 'Мысль: ло-гическое исследование':
'Вымысел
является тем случаем, когда выражение мыслей не сопровождается, несмотря на
форму утвер-дительного предложения, действительным утверждени-ем их истинности,
хотя у слушающего может возник-нуть соответствующее переживание' [Фреге 1987:
25].
Задача,
поставленная в этом разделе, пожалуй, и сво-дится к тому, чтобы выяснить, каким
образом 'у слуша-ющего возникают соответствующие переживания', то есть
переживания истинности того, что он слушает, в то время как он в тот же момент
осознает, что перед ним вымысел. Можно подойти к этому вопросу так, как под-ходил
к нему сам Фреге, то есть равнодушно заявить, что у подобных высказываний
('Одиссей высадился на Итаку') нет и не может быть денотата. Но в то же вре-мя
Фреге сам писал, что 'суждение теряет для нас вся-кую ценность, как только мы
замечаем, что какая-ни-будь из его частей не имеет денотата'. Можно пойти
другим путем, сказав, что художественное высказыва-ние имеет истинностное
значение, но в контексте осо-бого модального 'приступа' - 'в данном художествен-ном
произведении'. Так поступает фактически боль-шинство послевоенных
исследователей этой проблемы [Линский 1982; Woods 1974; Walton 1978; Castaneda 1979;
Lewis 1983; Miller 198 5]. В дальнейшем мы обсу-дим это
решение. Но сейчас нам представляется умест-ным попытаться найти решение,
которое вытекает из рассуждений самого Фреге в его знаменитой работе 'Смысл и
денотат'.
39
Здесь Фреге говорит, что
денотатом предложения яв-ляется его истинностное значение, а смыслом (то есть
способом реализации денотата) - выраженное в пред-ложении суждение (см. [Фреге 1978:
210]). Далее Фре-ге говорит о косвенном контексте и косвенном
денотате. Косвенный контекст для Фреге - это любое придаточ-ное предложение.
Оно лишено истинностного значения, потому что независимо от того, истинно или
ложно со-держание придаточного предложения, истинность глав-ного предложения не
меняется. Поэтому, говорит Фре-ге, денотатом придаточного предложения является
его смысл.
Но что же это означает, что
денотатом становится смысл, то есть высказанное в предложении суждение? Ведь
денотат, значение, должен представлять собой не-кий материальный класс
объектов. Для номиналиста Фреге такая проблема не возникает - для него это
класс суждений, мыслей (Gedanke), существующих в некоем другом по отношению к
физической реальности платоновском пространстве, в 'третьем мире', по более
позднему выражению Карла Поппера [Поппер 1983].
Как же можно ответить на вопрос о
том, что являет-ся значением косвенного контекста, приняв в целом подход Фреге,
но оставаясь при этом на 'естественно-позитивистской', если так можно
выразиться, точке зрения? Наш ответ сводится к следующему. Значение косвенного
контекста следует искать в самом языке, или, поскольку мы говорим о своей
'естественно-пози-тивистской установке', - в речевой деятельности. Ко-свенный
контекст говорит не о реальности. О реальнос-ти говорят прямой контекст или все
сложное предложе-ние в целом (это - мысль Фреге; мы в дальнейшем уточним и
скорректируем ее). Косвенный контекст, кос-венная речь, говорит - о речи.
Поэтому ее значением
40
является прямой контекст.
Допустим, имеется сложно-подчиненное предложение
(4) Нам рассказали, что В. прекрасно играл на флейте.
В
этом случае истинностным значением придаточно-го предложения 'В. прекрасно
играл на флейте' будет его смысл, то есть само это высказывание, как если бы
оно выступало в прямом контексте. Таким образом, ис-тинностным значением
косвенных контекстов (прида-точных предложений) будет совокупность осмыслен-ных
(правильно построенных в семантическом плане) высказываний данного языка. То
есть в нормальном (не-маргинальном) случае предложение 'В. играл на флей-те' -
будучи семантически правильно построенным - войдет в класс денотатов косвенных
контекстов, а ква-зипредложение
* Поединок без быстро улетело -
будучи
синтаксически и семантически неправильно построенным, не будет входить в
область денотатов (о границах критерия осмысленности, синтаксической и
семантической, мы говорить сейчас не будем, по-скольку нас интересуют не
маргинальные, а обычные высказывания обыденной речевой деятельности). Пе-рейдем
к художественным высказываниям. Когда Пушкин пишет 'Однажды играли в карты у
конно-гвардейца Нарумова', то ясно, что у этого предложе-ния нет, строго
говоря, истинностного значения, оно не является ни истинным, ни ложным. Но ведь
свою особую эстетическую ценность данное суждение от этого не теряет.
Художественная речь, не высказывая
41
истины или лжи, существует по
меньшей мере более двух тысячелетий.
Образно
говоря, в случае классического художествен-ного высказывания происходит нечто
вроде фонологиче-ской нейтрализации согласной фонемы по глухости/звонкости на
исходе слова (когда, например, спрашивают: 'В вашем доме есть [кот]?', имея в
виду: 'В вашем доме есть код?'). Чтобы было вполне ясно, что мы имеем в ви-ду,
приведем пример прагмасемантической нейтрализа-ции высказывания по
истинности/ложности из статьи американского философа Дональда Дэвидсона:
'Представьте себе следующее: актер играет в эпизо-де, по ходу которого
предполагается возникновение по-жара (например, в пьесе Олби 'Крошка Алиса').
По ро-ли ему положено с максимальной убедительностью сыг-рать человека,
пытающегося оповестить о пожаре других. "Пожар!" - вопит он и,
возможно, добавляет (по замыслу драматурга): "Правда, пожар! Смотрите,
какой дым!" - и т. д. И вдруг... начинается настоящий пожар, и актер
тщетно пытается убедить в этом зрителей. "По-жар!" - вопит он. -
"Правда, пожар! Смотрите, какой дым!" и т. д.' [Дэвидсон 1987: 219].
Существует
аналогичная легенда о Ф. И. Шаляпине, которая звучит примерно так. Однажды в
компании Ша-ляпина заспорили о том, что такое искусство. Шаляпин незаметно
вышел из комнаты. Через пять минут он во-рвался в комнату, бледный, со
сбившимся шарфом, с выражением волнения на лице. 'Пожар!' - закричал он. Все
бросились к дверям. 'Вот что такое искусст-во', - спокойно заметил Шаляпин.
Ясно, однако, что для восприятия
подобного рода ло-гико-семантической нейтрализации необходимо разви-
42
тое культурное сознание, которое
реагировало бы на по-вествование с пустыми термами (вымышленными геро-ями)
ровно настолько, насколько эта реакция может быть признана адекватной в ту или
другую сторону. Из-вестен анекдот об актере провинциального американ-ского
театра, который так вошел в свою роль, что на са-мом деле задушил актрису -
Дездемону, а зритель так сильно переживал этот момент, что после удушения
Дездемоны застрелил актера - Отелло. Однако неда-ром Бертольд Брехт сказал об
этой истории: 'Плохой актер, плохой зритель!'
Другой, противоположный полюс
неадекватности восприятия фиктивного высказывания представляет со-бой знаменитая
сцена в 'Войне и мире' Л. Н. Толстого, где Наташа Ростова, находясь в театре,
воспринимает происходящее на сцене как конгломерат бессмыслен-ных действий. Это
относится ко всей эстетике позднего Толстого, не без основания утверждавшего,
что искус-ство - это обман.
О том, как трудно прививалось
восприятие прагма-тики вымысла в русской культуре, пишет Д. С. Лиха-чев в книге
'Поэтика древнерусской литературы'. Он рассказывет, что когда в XVII веке при
дворе царя Алексея Михайловича был поставлен первый спек-такль - 'Артаксерксово
действо', - то действие продолжалось десять часов без перерыва (это дела-лось
для того, чтобы максимально приблизить эстети-ческое восприятие к обыденному).
Начиналось оно выступлением особого персонажа, Мамурзы, 'орато-ра царева', который
объяснял собравшимся на языке того времени основы прагмасемантики художествен-ного
высказывания применительно к театру. Он гово-рил собравшимся царю и придворным,
что сейчас пе-ред ними выступят воскресшие Артаксеркс и его со-
43
ратники, 'которые явились здесь и
теперь перед рус-ским царем, которому тоже предстоит бессмертие' (см. [Лихачев 1972:
191-198]).
Таким образом,
употребление и восприятие художе-ственного высказывания представляет не только
логи-ческие трудности, но и являлось когда-то острой куль-турно-психологической
проблемой. Поэтому художест-венная проза, 'искусство предложения', появилась
гораздо позже, чем поэзия, 'искусство слова' в точном смысле (подробнее об этом
см. [Лотман
1972]). С логи-ческой точки зрения художественное высказывание
не является ложным высказыванием, оно не искажает фак-тов (как это делает
бытовой вымысел), а оперирует с не-существующими фактами.
Здесь возможны
три случая:
1.
Художественное высказывание приписывает несу-ществующим именам обычные
предикаты. Это именно тот наиболее распространенный в городском
послеренессансном сознании тип fiction, беллетристики, кото-рый мы и будем
рассматривать.
2. Второй
случай противоположен первому. Здесь се-мантически заполненным именам
приписываются 'вы-мышленные' предикаты. На этом основан 'историчес-кий роман',
когда чаще всего реально существовавше-му в истории персонажу приписываются,
возможно, никогда не происходившие с ним действия (ср. доведе-ние именно этого
принципа до абсурда в хармсовских 'Анекдотах о Пушкине').
3. Третий
вариант вымысла является в логическом смысле самым сильным и объединяет два
предыду-щих - здесь вымышленным именам приписываются 'вымышленные' предикаты.
Это случай, наиболее пол-но реализующийся в научной фантастике или мистиче-ской
литературе. Например:
44
Космический корабль 'Альфа' приземлился на по-верхность
Юпитера.
Предлагаемое в
этом разделе решение проблемы ис-тинностного значения художественного
высказывания сводится к следующему. Мы считаем, что художествен-ное
высказывание в определенном смысле можно отож-дествить с фрегевским косвенным
контекстом. И в том и в другом случае не может идти речь об истинностном
значении. В случае главного и придаточного предложе-ния это лежит на
поверхности. В случае художественно-го высказывания 'истинностный контекст'
уходит в пресуппозицию.
Читая художественное
произведение, мы всегда ис-ходим из презумпции, что это 'кто-то рассказывает о
чем-то', что это Пушкин, а не кто-либо другой говорит, что 'Однажды играли в
карты у конногвардейца Нарумова', что это Толстой говорит 'Все смешалось в доме
Облонских', и поэтому ответственность за истинность этого высказывания ложится
на плечи автора. Это он рассказывает
историю. И истинным является лишь тот факт, что рассказывается некая история.
Мы можем протестировать
легитимность отождеств-ления художественного высказывания с содержанием
косвенного контекста следующим образом. Для этого мы используем известный
феномен из теории речевых актов, так называемое 'иллокутивное самоубийство'
(см. одноименную статью [Вендлер 1985]).
Напомним, что суть этого феномена
состоит в следу-ющем: в любом современном индоевропейском языке есть глаголы,
которые, будучи поставлены в стандарт-ную перформативную позицию (первое лицо
единст-венного числа) и будучи при этом явными эксплицит-ными перформативами,
семантически сами перечерки-
45
вают свое перформативное
значение, совершают илло-кутивное самоубийство. Это такие глаголы, как хвас-таться,
похваляться, лгать (отсюда знаменитый пара-докс лжеца), инсинуировать,
голословно заявлять, кле-ветать, выбалтывать, высмеивать, льстить.
'Так,
- пишет Вендлер, - высмеивать, говоря "Я высмеиваю тебя", или
льстить, говоря "Я тебе льщу", было бы саморазрушительным действием' [Вендлер 1985:
247].
Также
иллокутивным самоубийством являются сле-дующие перформативы:
Я клевещу на вас.
Говоря так, я просто похваляюсь.
Я хвастаюсь, что меня выбрали председателем.
Однако
у иллокутивного самоубийства есть одна очевидная особенность: оно возможно
только в прямом контексте. Косвенный контекст разрушает иллокутив-ное
самоубийство. Так, вполне нормальными высказы-ваниями русского языка были бы
следующие:
Говорят, что я высмеиваю тебя. Глупо утверждать, что я
тебе льщу. По его мнению, я клевещу на вас. Неправда, будто я хвастаюсь, что
меня выбрали председателем.
Здесь
косвенный контекст и художественная практи-ка функционально пересекаются.
Вполне можно пред-ставить, что персонаж абсурдистской пьесы Ионеско, Беккета
или Введенского говорит:
Я клевещу на вас.
46
Хотя истинность в речевом акте не
играет главной ро-ли, но, по-видимому, успешность речевого акта в опре-деленной
степени зависит от истинности составляюще-го его пропозициональную основу
'индикативного ра-дикала'. Во всяком случае, когда истинность речевого акта
входит в поверхностную структуру обычного глав-ного предложения, то есть когда
речевой акт вместе со своей чисто перформативной валидностью теряет и ло-гическую
валентность (в пресуппозицию любого перформатива безусловно входит его
истинность или лож-ность), то пропадает и феномен иллокутивного само-убийства.
Нам не удалось найти реальных примеров с проанализированными Вендлером
глаголами, но мы мо-жем прибегнуть к такому излюбленному в лингвистиче-ской
философии способу доказательства, как мыслен-ный (или даже словесный
дискурсный) эксперимент. Приведем выдуманный 'лабораторный фрагмент' неко-ей
'художественной прозы':
- Что же вы все
делаете? - закричал Джон.
- Я клевещу на тебя, - заявил
Билл.
- Я льщу тебе, - воскликнула
Маргарет.
- Я высмеиваю тебя, - ответила
Джейн.
- А я похваляюсь, что меня выбрали
председате-лем, - мрачно выдавил Грэхем.
Поскольку при
восприятии художественной прозы чи-тателю ясно, что все, якобы происходящее в
рассказе, на самом деле выдумано, то и феномен противоречивости в отношении
успешности/неуспешности, характеризую-щий иллокутивное самоубийство, вместе с
пресуппозитивной логической валентностью, уничтожаясь, позволя-ет сделать этот
фрагмент совершенно нормальным 'си-мулякром' обычной художественной прозы XX
века.
47
При этом важно (и эта особенность
не замечена Вендлером), что интенсионализация и уничтожение иллокутив-ного
суицида происходят в ситуации 'ответа на вопрос', то есть в излюбленном Я.
Хинтиккой модальном ракурсе вопроса [Хинтикка 1980]. Ответ на вопрос (Что ты
дела-ешь? - Я льщу тебе.) во многом снимает истинно-значную нагрузку с
высказывания и переводит его иллоку-тивную валидность в более мягкий контекст,
а именно в косвенный, потенциально косвенный, который играет роль своеобразного
лингвистического 'психотропного средства', предотвращающего иллокутивное самоубий-ство.
Предположим, мы действительно
показали, что худо-жественное высказывание в каком-то фундаментальном смысле
эквивалентно обычному придаточному предло-жению, и, следовательно, денотатом
художественного высказывания, так же как и денотатом придаточного предложения,
является его смысл, то есть то утвержде-ние, которое в нем делается.
Тем самым денотатом
художественного высказыва-ния в общем является обычное высказывание нормаль-ной
речевой деятельности. Однако тогда встает законо-мерный вопрос: что в таком
случае является коррелятом главного предложения в художественном произведении?
По Фреге, принципиальной особенностью предложения в целом и сложного
предложения в частности является то, что его денотатом служит истинностное
значение, логическая валентность. Поэтому следует найти у худо-жественного
произведения ту его часть, которая облада-ет логической валентностью.
Такой его частью является
заглавие, слово, которое уже своей внутренней формой указывает на родство с
главным предложением. Характерной также является позиция заглавия в начале
дискурса, а также то, что ис-
48
торически заглавие выросло из
первого предложения художественного текста. То, что мы называем 'Пове-стью
временных лет', было первым предложением тек-ста 'Первоначальной летописи': 'Се
повесть времен-ных лет, откуда пошла есть русская земля, кто в Киеве начал
первым княжити...' и т. д.
Заглавие
художественного дискурса несомненно об-ладает логической валентностью, оно
может с истинно-стью указывать на то, что перед нами именно это произ-ведение.
Будучи в современных литературных текстах чаще всего номинативным
словосочетанием, заглавие указывает на то произведение, чьим репрезентантом оно
является. Так, если на титульном листе книги написано:
Л.
Н. Толстой
Анна
Каренина
роман, -
то логический анализ этого
высказывания может выгля-деть следующим образом:
Истинно,
что перед вами книга (роман), называюща-яся 'Анна Каренина' и написанная Л. Н.
Толстым.
Заглавие как будто говорит: 'Вот
повествование о том, что произошло то-то и то-то'; содержанием этого того-то и
того-то и является сам художественный текст, функционально эквивалентный
придаточному предло-жению и именно поэтому имеющий значение безотно-сительно к
правдивости или лживости того, о чем в нем говорится.
Но если заглавие художественного
произведения действительно обладает истинностным значением, то в этом случае
оно в состоянии быть не только истинным, но и ложным. Может ли заглавие
художественного про-изведения быть ложным высказыванием? Да. И это про-исходит
в тех случаях, когда имеет место фальсифика-
49
ция, то есть, например, в случае
с Оссианом. Когда чи-татель видел перед собой заглавие:
Сочинения Оссиана -
то это был
образец ложного высказывания, так как на са-мом деле поэмы, приписываемые
шотландскому барду III века, были написаны шотландским поэтом и фольк-лористом
конца XVIII века Джеймсом Макферсоном. То же самое имело место в заглавии:
Повести покойного Ивана Петровича Белкина.
Как уже
отмечалось, современное короткое заглавие выросло из длинного заглавия, которое
в свою очередь отпочковалось от первого предложения текста. Для это-го
архаического заглавия были характерны две особен-ности.
То, что в современном заглавии
ушло в глубинную структуру, в старом заглавии лежало на поверхности - его
указательно-рефлексивное значение.
Вторая особенность состояла в
том, что старое загла-вие очень часто эксплицировало жанр того художест-венного
произведения, репрезентантом которого оно яв-лялось - повесть, слово, сказание,
моление, песнь. Так, то, что мы сейчас называем одним словом 'Задонщина', на
самом деле называлось так: 'Слово о великом князе Дмитрее Ивановиче и о брате
его князе Владимере Андреевиче, яко победили супостата своего царя Мамая'.
Русская художественная проза, появившись срав-нительно поздно и развившись
только в конце XVIII ве-ка, четко хранила связь с традицией этого называния
'полным именем'. Так, полное название пушкинской 'Сказки о царе Салтане' такое:
'Сказка о царе Салтане,
50
о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди'. Харак-терно
также название лермонтовского произведения, одного из прекрасных, как бы мы
сейчас сказали, 'римейков' фольклорной традиции: 'Песня про царя Ива-на
Васильевича, удалого купца Калашникова и злого оп-ричника Кирибеевича'.
Итак, заглавие художественного дискурса несет пол-ную
логико-истинностную нагрузку. Во всем произведе-нии только оно должно быть
истинным (или ложным).
В 20-е-30-е годы XX века в русской и европейской (прежде всего
пражской) эстетике, ориентированной на лингвистический структурализм, победил
тезис, в соот-ветствии с которым художественное произведение явля-ется не
непосредственным отражением ('отображени-ем') действительности, как считала
социологически ориентированная эстетика XIX - начала XX века, а особым типом
высказывания, направленным на выра-жение самого себя. В той или иной степени
этот тезис разделяли В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Ты-нянов, но
непосредственно учение о самонаправленно-сти художественного высказывания
создали Р. О. Якоб-сон, говоривший в этой связи о поэтической функции языка [Якобсон 1975], и Ян Мукаржовский в своем трактате об
эстетической функции [Мукаржовский 19.76]. Цветан Тодоров так
подытожил это функционалистское понимание 'искусства предложения' в статье
'Семиотика литературы':
'До настоящего
времени никто не сумел дать устой-чивого определения литературы. [...] Согласно
первому, отличительная особенность литературного дискурса заключается в том,
что составляющие его предложения не являются ни истинными, ни ложными, но
создают
51
представление о вымышленной
действительности. [...] Согласно второму определению, отличительной чертой
литературного дискурса [...] является сосредоточение внимания на сообщении ради
него самого' [Тодоров 1983а].
Надо сказать, что здесь же Тодоров критикует слиш-ком догматическое и
узкое понимание литературы, как оно процитировано им выше. Текст может, как
извест-но, особенно в межпарадигмальные эпохи (ср. [Степа-нов 1985]), быть в 'плавающем' междужанровом со-стоянии,
находиться на полпути между обыденным дискурсом и литературным. Наиболее ярко
это показа-но Н. С. Трубецким применительно к 'Хожению за три моря' Афанасия
Никитина, которое по жанровым исто-кам будучи скорее путевыми заметками,
постепенно приобретает черты художественного нарратива, то есть
саморефлексирующего высказывания [Трубецкой 1983].
Разрабатываемая
в данном разделе идея о том, что значением художественного высказывания
является его смысл, есть не что иное, как сформулированная на язы-ке
пропозициональной семантики та же идея, которую высказывали русские формалисты
и пражские функци-оналисты. Художественная литература не является от-ражением
реальности (это функция обыденной речевой деятельности), художественная
литература является от-ражением речевой деятельности, свойственной той на-циональной
языковой культуре, которой принадлежит автор; она является рефлексией над этой
языковой куль-турой и обогащением ее. Поэтому законы литературы имманентны.
Когда Пушкин писал 'Евгения Онегина', он очень широко использовал опыт
западных литератур, прежде всего французской и английской (см., например, [Жирмунский
1975; Лотман 1976, 1980]).
52
Написав и издав 'Онегина', Пушкин
обучил русскую литературу роман-тическому роману, его характерным
высказываниям, его художественной парадигматике. Перефразируя слова Бе-линского,
нанесшего много объективного вреда русской литературе тем, что он пытался
сделать из нее учебник жизни, можно сказать, что 'Онегин' был не энциклопе-дией
русской жизни, а энциклопедией русского языка, современной Пушкину русской речевой
деятельности (подробнее описание фактов русской литературы в свете развиваемой
в этой работе концепции художественного дискурса см. в третьей главе, где
критикуется понятие художественного реализма).
Литература как самообучение
языку, его скрытым богатствам и возможностям сродни детской эгоцентри-ческой
речи, также направленной на высказывание ради него самого и редуцированной в
плане логической ва-лентности. Применительно к поэзии о сходстве детской и
художественной речи писал Л. П. Якубинский в статье 'Откуда берутся стихи' [Якубинский
1986]. Детская эгоцентрическая речь является не столько
освоением реальности, сколько усвоением языка. Именно поэтому дети повторяют
часто одни и те же фразы, не подразу-мевая при этом высказывания истинных или
ложных суждений. Именно поэтому для ребенка важны сказки, которые он готов
слушать по многу раз, не затрудняя се-бя восприятием логической валентности
высказывае-мых там суждений.
Таким образом, художественная
проза необходима как процесс самообучения культуры своему языку, за-крепления
наличествующих в нем смыслов и обогаще-ния новыми смыслами. Художественная
проза берет в качестве строительного материала обыденную речевую деятельность в
той же мере, в какой язык в качестве
53
строительного материала берет
саму реальность (ср. концепцию языка как отражения реальности в 'Логи-ко-философском
трактате' Л. Витгенштейна [Витген-штейн 1994]). В этом смысле
искусство прозы - это не искусство слова - последнее относится к поэзии, - а
искусство предложения, именно поэтому вопрос об экстенсионале встает
применительно к ней так остро. Взяв пропозицию в качестве своего инструмента,
являясь, го-воря словами современного философа, симулякром про-позиции [Baudrillard
1981],
художественная проза неза-метно для читателя лишает пропозицию ее наиболее
фундаментальных свойств - способности выражать ис-тинностные значения, давая ей
взамен возможность опе-рировать пустыми термами, говорить о несуществую-щем, не
навлекая на себя репрессивных санкций, как это бывает в обыденной речевой деятельности
с ложью или обманом, которые (в частности, в демократическом, а не в
тоталитарном языковом сообществе) подвергают-ся социально-психологическому
осуждению. Создавая целые конфигурации вымышленных пропозиций, худо-жественная
проза сохраняет изоморфизм с невымыш-ленными пропозициями (о понятии
изоморфизма пропо-зиции-картины применительно к 'Логико-философско-му трактату'
см. [Stenius
I960]), что в свою
очередь создает иллюзию правдоподобия художественных про-изведений, иллюзию
художественного реализма. Эта ил-люзия в социально-психологическом смысле
опасна как одна из предпосылок (можно сказать, логических пред-посылок)
тоталитаризма как возможности манипулиро-вать экстенсионально пустыми
пропозициями. Поэтому опровержение художественного реализма представляет-ся
таким же актуальным сегодня, каким Джорджу Эд-варду Муру в 20-е годы
представлялось 'опровержение идеализма' (см. [Moore 1922]).
54
Итак, денотатом художественного
высказывания яв-ляется высказанное в нем суждение, то есть по сути де-нотат художественного
высказывания - это оно само, как если бы оно употреблялось в обыденной речи. Та-ким
образом, если логический анализ обычного выска-зывания во внеэстетической
речевой деятельности -
Он уже пришел -
разворачивается
как - Истинно, что он уже пришел, - то в случае художественного высказывания он
будет раз-ворачиваться по-другому: Истинно, что высказывание 'Он уже пришел'
является осмысленным (правильно по-строенным в семантическом смысле)
высказыванием русского языка. Но действительно, о чем же еще нам мо-жет сказать
фраза: 'Все смешалось в доме Облонских', при том что мы знаем, что никаких
Облонских в реально-сти не существует (мы предупреждены об этом 'главным
предложением' этого текста, который нам говорит 'Это - роман "Анна
Каренина", то есть повествование вымышленное, беллетристическое')?
По-видимому, это высказывание может нам сказать только о том, что оно является
осмысленным предложением русского языка, что такие высказывания в принципе
'бывают'. Можно заметить, что художественное высказывание во многом
соответствует экстенсионально пустым высказываниям из тех, которые часто
анализируются в работах филосо-фов языка, например, знаменитое 'Нынешний король
Франции лыс', - которое не является ни истинным, ни ложным, будучи произнесено
после окончания франко-прусской войны 1871 года, то есть после того, как Фран-ция
окончательно стала республикой (см., например, [Рассел 1982. Стросон 1982]).
Чтобы подобная фраза стала осмысленной, для нее должен быть создан соответ-
55
ствующий контекст. Либо этот
контекст будет историчес-ким (то есть будет иметься в виду произнесение этого
высказывания до 1871 года) - и тогда это высказывание приобретет нормальную
логическую валентность; либо это будет экспериментально-научный контекст, где
это высказывание приводится как образец аномального; ли-бо это будет контекст
художественный, когда (аналогич-но случаю с иллокутивным самоубийством)
произнесе-ние этой фразы можно будет оправдать какими-то 'нар-ративными
обстоятельствами', например невежеством говорящего или желанием говорящего
ввести наивного слушателя в заблуждение (ср. анализ подобных речевых ситуаций в
бытовой речевой деятельности в статье [Кларк-Карлсон 1986]). В этом случае мы
как будто под-сматриваем самый момент зарождения художественнос-ти, когда
высказывание употребляется не для того, чтобы высказать истину или ложь, а для
того, чтобы обыграть эффект отсутствия у него истинностного значения.
Таким первичным жанром,
находящимся на границе обыденной и художественной речевой деятельности,
является бытовой анекдот (см. подробно [Руднев 1990а]). Анекдот еще минимально
оторван от обыден-ной речевой стихии, но уже является фактом эстетичес-кого
поведения. Анекдот строится на зазоре между дву-мя типами означивания. Поэтому
и в историко-культурном плане анекдот - важнейший этап на пути построения
беллетристики, так как в нем внимание с собственно передачи информации
переносится на пове-ствование ради него самого.
Каким же образом художественная
проза обогащает наши представления о языке, как она путем обогащения языка
обучает нас миру?
Здесь следует вспомнить концепцию
значения, разра-ботанную Витгенштейном в 'Философских исследова-
56
ниях', которая коротко звучит
так: 'Значение есть упо-требление' [Витгенштейн 1994: 99]. Как известно, Вит-генштейн
строго не разграничивал понятия 'смысл' и 'значение', особенно в поздний период
своего творчест-ва, поэтому мы переформулируем его позицию следую-щим образом:
смысл выражения зависит от той языковой ситуации, той 'языковой игры', в
которой это выражение употребляется.
Здесь мы
встречаемся лицом к лицу с вопросом о том, что представляет собой исконный
интенсионал ху-дожественного высказывания, тот интенсионал, кото-рым оно
обладало еще будучи обычным высказывани-ем. Сказать, что поскольку денотатом
художественного высказывания стал его интенсионал, постольку интен-сионал I и
интенсионал II слились, - значит только за-путать проблему. Рассмотрим
простейшее высказыва-ние, которое мы будем рассматривать как художествен-ное
высказывание:
Он уже пришел.
Будучи
художественным высказыванием, оно лиша-ется логической валентности, то есть его
анализ разво-рачивается как -
Истинно, что высказывание 'Он уже пришел'
явля-ется правильно построенным высказыванием русского языка.
Здесь мы
рассмотрели смысл, интенсионал II художе-ственного высказывания (эквивалент его
экстенсионала). Но ведь остался и исконный интенсионал I, само утверж-дение 'Он
уже пришел'; смысл, который не зависит от истинности и ложности. Но что это за
смысл? Здесь-то
57
мы и прибегнем к помощи
семантической теории поздне-го Витгенштейна. Как не бывает языковой игры вооб-ще
- должна быть какая-то конкретная языковая игра (или речевой жанр, в
терминологии М. М. Бахтина, близ-ко подошедшего к концепции Витгенштейна (см. [Бах-тин
7979]), ср. перечень языковых игр в 'Философских исследованиях' [Витгенштейн
1994: 90]), - так не
бы-вает 'художественного произведения вообще'. Художе-ственный дискурс
выступает в конкретном жанровом во-площении - бытовой рассказ, детективный
роман, 'бульварное чтиво', 'повесть о любви', мелодрама, про-изводственный
роман, роман ужасов, научно-фантасти-ческий роман, модернистский роман,
постмодернистская проза, концептуалистская проза и т. д.
Каждый раз смысл художественного
высказывания будет меняться в зависимости от того, в какой художе-ственный
контекст мы его поместим. Так, в контексте напряженного детективного или
криминального сюже-та фраза 'Он уже пришел' может означать призыв к действию,
то есть примерно следующее: 'Он уже при-шел. Оружие к бою' (ср. сходный анализ
витгенштейновско-муровского выражения 'Я знаю, что...' в [Малкольм 1987]).
Но в контексте любовной истории
или психологиче-ской мелодрамы высказывание 'Он уже пришел' может означать не
призыв к действию, а нечто совсем другое, например конец долгого ожидания,
нечто вроде: 'Он уже пришел. Наконец-то!'
В контексте же бытового рассказа
или новеллы тайн смысл этой фразы может быть совсем другим. Напри-мер, в
отсутствии объекта этого высказывания говоря-щие обсуждают нечто, связанное с
ним, о чем нельзя го-ворить в его присутствии. Тогда 'Он уже пришел' будет
означать сигнал к прекращению разговоров 'о нем'.
58
Теперь предположим, что мы знаем,
что перед нами художественное высказывание, но не знаем ни его за-главия, ни
жанра, ни содержания соседних высказыва-ний. Тогда 'Он уже пришел', оторванное
от контекста, вообще ничего не сообщит нам кроме того, что это вы-сказывание
принадлежит к правильно построенным предложениям русского языка, то есть мы
будем знать лишь интенсионал II этого высказывания (его 'художе-ственный
денотат'), исконный же смысл высказывания сможет раскрыть лишь конкретная
жанровая ситуация. Но если предположить, что высказыванием 'Он уже пришел'
начинается рассказ писателя, известного свои-ми сюжетными сюрпризами и
стилистическими голово-ломками, то эта фраза будет содержать потенциально все
возможное число ее бытовых первичных жанровых смыслов и станет в смысловом
отношении на порядок богаче. Таким образом, вторичный художественный ре-чевой
жанр (художественная языковая игра) строится путем наложения смыслов высказываний,
относящихся к первичным речевым жанрам (языковым играм), на конкретный
нарративный контекст данного художест-венного дискурса.
До сих пор мы говорили
исключительно о нарратив-ном прозаическом высказывании. Можно сказать, что в
большой мере наши утверждения распространяются на драматический род литературы
и на стихотворный эпос, то есть на все те роды и жанры художественной литера-туры,
где имеются высказывания с пустыми термами, где в сюжете действуют вымышленные
персонажи. Но наши утверждения во многом неприемлемы по отноше-нию к поэзии par
exellence, к лирической поэзии. В пер-вую очередь в отношении к лирике не
действует тот за-кон, в соответствии с которым высказывание при пере-ходе в
художественный контекст лишается логической
59
валентности и областью его
экстенсионалов становятся высказывания обыденной речи. Сравним два высказы-вания:
Все смешалось в доме Облонских. Я помню чудное мгновенье.
Для нормального восприятия первого высказывания как художественного
представляется необходимым, что-бы читатель осознавал, что на самом деле ничего
не про-исходит, что все сказанное - вымысел. Для нормально-го восприятия первой
строки пушкинского стихотворе-ния и подавляющего большинства стихотворений
лирического плана этого совершенно не нужно. Мы вполне можем себе представить
говорящего в ситуации, в прошлом имевшей место в реальности, что он дейст-вительно
'помнит чудное мгновенье'. То есть получает-ся, что в лирике высказываются
истинностные значения, художественные высказывания лирического дискурса обладают
логической валентностью - и это совершен-но не мешает восприятию эстетической
функции лири-ческого дискурса.
Происходит
парадоксальная вещь: проза, которая при-звана уподобиться обыденной речи с
характерным для нее высказыванием истинностных значений, должна ли-шить себя
логической валентности; в поэзии же, которая вообще не претендует на
воспроизведение объективной реальности, логическая валентность высказывания
оста-ется нетронутой. Вспомним [Руднев ]996Ь], что проза в принципе связана с
индикативом, характерной принад-лежностью которого как раз является логическая
валент-ность, а поэзия - с конъюнктивом, который совершенно к логической
валентности безразличен. То есть проза, изображающая, миметирующая взаимную
зависимость
60
между высказыванием и реальностью,
лишает свои вы-сказывания взаимной зависимости с реальностью; по-эзия,
изображающая взаимную независимость высказы-вания и реальности, сохраняет
взаимную зависимость своих высказываний и реальности. Парадокс снимается тем,
что для поэзии феномен предложения вообще не слишком важен. Поэзия не
изображает предложений, они не являются ее инструментом. Поэтому именно в
поэзии возможен именной стиль (см. [Wells 1960; М. Лотман 1982]), так как поэзия в первую очередь
работает со сло-вом. Именной стиль в художественной прозе возможен лишь как
модернистский эксперимент.
Предикативность как неотъемлемая
черта пропозициональности (об этом подробно см. [Степанов 1985: гл. IV]) с необходимостью присуща
художественной прозе, наррации. Поэтому проза и освобождает свои вы-сказывания
от логической валентности, превращая их в квазивысказывания, чтобы осуществить
эстетическую функцию, которая выступает в ней как функция нарра-ции,
занимательного повествования ради самого пове-ствования. Но если в лирической
поэзии смысл и дено-тат 'остаются на своих местах', то что же обеспечива-ет в
ней поэтическую функцию (подробную и стройную концепцию прагмасемантики
поэтического высказыва-ния см. в исследованиях С. Т. Золяна [Золян 1988, 1997])?
Что отвлекает в поэзии читателя от истинност-ных значений? Ведь стихи читаются
и слушаются не для того, чтобы узнать, что в реальности происходило со
стихотворцем, во всяком случае по преимуществу не Для этого.
Роль эстетической функции
обеспечивает в поэзии 'двойная сегментация речи', то есть наложение на син-таксическое
членение речи ритмического членения, ор-ганизованного при помощи регуляризации
просодичес-
61
ких единиц. Стихотворный ритм,
накладывающий силь-ные ограничения на ритмический состав слов в строке
(подробно см. [Руднев 1985, 1986]),
представляет собой 'возможность одно и то же рассказать по-разному и найти
сходство в различном', по классическому опреде-лению Ю. М. Лотмана [Лотман 1972:
32], то есть созда-ет мощную предпосылку для создания поэтического стиля. И
если понятие 'лирический сюжет' представля-ет собой во многом научную метафору,
без которой можно обойтись при изучении лирического дискурса, то доминантой
художественной прозы является именно сюжет - последовательность модально
окрашенных художественных высказываний. Поэтому именно к изу-чению сюжета,
раскрывающегося через понятие нарра-тивной модальности, мы перейдем в
последующих раз-делах нашего исследования.
До сих пор мы исходили из того, что имеется некий замкнутый дискурс и
некая, тоже замкнутая в себе ре-альность. Затем мы спрашивали: как отличить
одно от другого? (В первом разделе книги мы выдвинули гипо-тезу, что первый
обладает особым семиотическим вре-менем.) Но представим себе обычную для
искусства XX века ситуацию, когда в рамках одного художествен-ного дискурса
возникает другой, то есть ситуацию тек-ста в тексте, которой мы уже касались.
Так, в
'Мастере и Маргарите' Булгакова предложение
Тьма, пришедшая со Средиземного моря,
накрыла не-навидимый прокуратором город -
одновременно
является фразой из романа Мастера, ру-копись которого читается Маргаритой, и
началом пове-ствования о Пилате, которое по сравнению с каруселью
62
московских событий выглядит почти
как документаль-ное (см. об этом [Лотман 1981: 16-17]). Таким образом,
процитированное высказывание относится к трем рече-вым пластам: к обычной
русскоязычной речевой дея-тельности (это семантически правильно построенное
высказывание); к языку романа Булгакова и к языку ин-корпорированного в роман
Булгакова романа Мастера о Пилате.
Таким образом, это предложение
уже внутри булгаковского романа задается косвенным контекстом: это роман,
написанный героем романа, то есть художест-венное высказывание 'в квадрате'.
Как мы показали, денотатом художественного высказывания является са-мо это
высказывание как элемент возможной речевой деятельности, осуществляемой в
естественном языке. Но в романе Булгакова для Маргариты, читающей ро-ман
Мастера, таким 'естественным языком' является язык романа Булгакова. Поэтому
предложение 'Тьма, пришедшая со Средиземного моря...', означает самое себя два
раза: внутри художественного языка булгаковского романа его денотатом будет
являться высказыва-ние, произнесенное в рамках основного текста романа; вне его
это будет аналогичное предложение русского языка, имеющее в качестве денотата логическую
ва-лентность - то есть являющееся либо истинным, либо ложным. Можно представить
себе, что в романе о Пила-те (внутри булгаковского романа) есть еще один роман,
скажем, сочиненный Пилатом, а в нем - еще один, и так до бесконечности.
Подобного рода бесконечные
построения текстов в тексте характерны для романтического нарратива типа
'Мельмота Скитальца' Ч. Метьюрина или 'Рукописи, найденной в Сарагосе' Яна
Потоцкого. Бывает и так, что мы читаем внутри прозаического нарративного ху-
63
дожественного дискурса стихи,
написанные его геро-ем; наиболее яркий пример - стихи доктора Живаго, которые
Пастернак выделил в отдельную (последнюю) главу романа. Мы воспринимаем эти
стихи на фоне ро-мана. Они, так сказать, построены из слов самого рома-на, это
'интенсиональные стихи', отсылающие нас не к реальной жизни их настоящего
автора Бориса Пас-тернака, а к нарративной художественной реальности. Это
стихи, сотканные из слов несуществующего языка. И вот почти каждый текст, сколь
бы примитивным он ни был, всегда стремится к тому, чтобы инкорпориро-вать в
свою структуру элементы другого художествен-ного языка, как правило, более
примитивно организо-ванного. Делается это для того, чтобы создать иллюзию
собственной правдоподобности. Эта уловка встречает-ся почти в каждом бульварном
романе, где мы читаем фразу вроде:
В романах обычно пишут то-то и то-то - в
насто-ящей же жизни все происходит по-другому.
В классической опере XIX века речитатив является эквивалентом
говорения, прозаической разговорной ре-чи. Чтобы подчеркнуть это, для того
чтобы слушатель забыл, что перед ним условное по своей природе искус-ство,
герои оперы еще и 'поют' в интенсиональном смысле, то есть в ткань оперы
вводятся номера (арии, дуэты), как правило, организованные более жестким ху-дожественным
языком, или как цитаты из других хроно-логически более ранних художественных
языков. Так, в 'Пиковой даме' П. И. Чайковского исполняется дуэт 'Мой маленький
дружок...', воспроизводящий тему Allegro моцартовского клавирного концерта ? 25
до ма-жор (К. 503).
64
Но в XX веке соотношение основного и дочернего дискурсов строится
не как простое включение, а скорее как сложное пересечение: при этом не всегда
понятно, где кончается текст первого порядка и начинается текст второго
порядка, что и происходит в 'Мастере и Мар-гарите'. Ср. еще более запутанную
ситуацию в фильме Л. Бунюэля 'Скромное обаяние буржуазии', когда ге-рои,
сидящие за столом, вдруг обнаруживают, что их показывают на сцене, что они -
актеры; все в ужасе разбегаются, кроме одного, который в этот момент про-сыпается:
оказывается, что он все это видел во сне.
Работа с прагматикой в
послевоенном художествен-ном мышлении оказывается настолько сильной, что даже в
обычной массовой литературе, каковой являют-ся, например, детективные романы
Агаты Кристи, мо-гут происходить прагмасемантические сдвиги, кото-рые были
невозможны еще в 20-е годы в самых утон-ченных модернистских дискурсах. Так, в
романе 'Убийство Роджера Экройда' убийцей оказывается рассказчик, что приводит
читателя к сильной прагма-семантической фрустрации (подробно см. последний
раздел настоящего исследования). Соотношение языка и реальности строится во
второй половине XX века на-подобие ленты Мебиуса: внутреннее незаметно пере-ходит
во внешнее, а внешнее - во внутреннее. Текст и реальность соотносятся не как
проекция художест-венного языка, интенсионального по своей природе, на
экстенсиональный язык, описывающий реальность (то есть не по рецептам
'Логико-философского тракта-та'), но как сложный перепутанный клубок, в котором
языки разной степени интенсиональности переплета-ются подобно тому, как в
обыденной речевой деятель-ности переплетаются эстетические и неэстетические
начала: шутка и анекдот соседствуют с приказом и
65
ссорой, розыгрыш - с обманом,
рассказывание снов - с чтением докладов.
Здесь важно отметить тот факт,
что обыденная рече-вая деятельность, конечно, не сводится к высказыванию
пропозиций в индикативе, обладающих истинностным значением. И в этом плане
настает время пересмотреть и скорректировать фрегианское представление о логи-ческой
семантике и вместе с ним наше представление об экстенсионале художественного
высказывания.
Пропозициональная семантика,
добившаяся к 30-м годам XX века огромных успехов в трудах деятелей Венского
кружка (см. [Шлик 199 За, 1993b; Карнап 1946, 1959]) и львовско-варшавской школы [Tarski 1956], тем не менее не достигла основного
результата, на который были направлены ее усилия, - построения идеального
логического языка, - и к концу 30-х годов обозначился ее кризис, приведший к
созданию новых философских концепций, отошедших от основной верификационистской
идеи логического позитивизма.
Новый подход, связанный с идеями
позднего Витген-штейна и Дж. Э. Мура [Moore 7959] или развивавшийся
параллельно им (см., например, [Ryle 1978]),
носит назва-ние лингвистической философии (британский ее вариант иногда
называют философией обыденного языка, амери-канский вариант - философией
лингвистического ана-лиза). Из лингвистической философии выросло отдель-ное
направление аналитической философии и филосо-фии языка - теория речевых актов
Дж. Остина и Дж. Серля [Остин 1986, Searle 1969; Серль l986a, 1986b]. Одновременно идея пропозициональности
начала себя исчерпывать в собственно логических построениях, что привело к
возникновению многозначных логик (см. их очерк в книге [Зиновьев I960]) и развитию модальной ло-гики.
Последнее в свою очередь привело в 60-е годы к со-
66
зданию Я. Хинтиккой, Д. Капланом,
С. Крипке, Р. Монте-гю совершенно новой философско-логической дисцип-лины,
опирающейся на идеи Лейбница, - семантики возможных миров, или
теоретико-модельной семантики [Крипке 1981, Хинтикка 1980, 1981; Скотт 1981].
Основой, объединявшей эти новые,
весьма разнооб-разные и часто направленные полемически по отноше-нию друг к
другу подходы, была критика понятия исти-ны (как фундамента
пропозиционально-семантической теории) и достоверности (как залога истинности).
Опре-деляющую роль в этом научно-философском движении сыграло доказательство
Гёделем теоремы о неполноте дедуктивных систем типа системы 'Principia
Mathematica' Б. Рассела и А. Н. Уайтхеда, на которую опира-лась вся
логико-позитивистская парадигма первой поло-вины XX века. Важное место в
культурно-историческом процессе критики понятия истинности и достоверности
сыграло также развитие квантовой механики и формули-ровка Н. Бором и В.
Гейзенбергом ее философских осно-ваний [Бор 1961, Гейзенберг 1987]. Здесь
уместно вер-нуться к самому началу нашего исследования, где гово-рится о
базовых принципах эпистемологии XX века. Поскольку исходные посылки любого
рассуждения не-возможно проверить (принцип неполноты), необходимо считать их
истинными конвенционально (принцип до-стоверности) и исходя из этого строить
модель действи-тельности при помощи дополнительных языков описа-ния (принцип
дополнительности).
Таким образом,
возобладал в целом американский прагматический взгляд на истину как на нечто,
пред-ставляющее собой лишь удобную форму, которую мы придаем миру, подобно
пространству и времени в кантонском истолковании. Критика понятия истинности
как основы значения высказывания шла по ряду направ-
67
лений (см. очерк послевоенной
семантики в статье [Сааринен 1986]).
Теория речевых
актов выявила в речевой деятельно-сти ряд высказываний (речевых актов),
основным пара-метром значения которых является не истинностное значение, а
иллокутивная сила высказывания, степень его убедительности, успешности [Остин 1986,
Серль 198ба]). Так, председатель собрания, заявляющий:
Объявляю собрание открытым, -
прежде всего
заботится не об истинности того, что он говорит, а об успешности своего
речевого акта, он са-мим актом своего высказывания производит действие в
реальности. То есть в речевых действиях высказывание и реальность не находятся
в отношении параллельного изоморфизма - высказывание является не отражением
реальности, а частью реальности. Как писал Витген-штейн, 'слова - это поступки'
[Витгенштейн
1992: 182]. Наиболее сильный вариант теория речевых актов
обнаружила в так называемой 'перформативной гипо-тезе' (см. [Ross 1970]), в соответствии с которой любое
высказывание на уровне глубинной структуры является перформативом, речевым
актом, то есть в его глубин-ную пресуппозицию входит перформативный элемент. То
есть обычное индикативное высказывание 'идет дождь', по мнению философов,
разделяющих перфор-мативную гипотезу, на уровне глубинной структуры выглядит
следующим образом: 'Желая сделать так, чтобы ты знал это, я говорю: идет дождь'
[Вежбицка
1985: 253].
Возникшая и развившаяся в 60-70-е
годы лингвисти-ка разговорной речи подчеркнула, что в живой разго-ворной
речевой деятельности те высказывания, которые
68
вообще могут претендовать на
обладание истинност-ным значением, то есть эксплицитные индикативные
высказывания, играют весьма незначительную роль. Разговорная речь, как правило,
вообще не имеет формы правильного предложения, чаще всего это эллиптичес-кая,
отрывочная речь, обрывки фраз, интерферирующих друг с другом, незаконченных,
оборванных на полусло-ве. Вот как выглядит расшифровка фрагмента записи
разговорной речи покупателей в московском овощном магазине конца 70-х годов:
'Апельсины: Три
не очень больших //; Штучек семь / маленькие только пожалуйста //; Мне четыре
покрупней дайте //; Один большой огурчик мне //; Один длинный по-толще //; Вот
тот кривой взвесь-те //; Что-нибудь грамм на триста найдите // Капуста: Один
покрепче //; Побольше один //; Мне два маленьких крепеньких //; Будьте любез-ны
вот тот кочешок с краю //; Один кочешок получше най-дите пожалуйста' [Русская
разговорная речь 1978: 151].
Наряду с
императивами, вопросами, конъюнктивны-ми высказываниями, контрфактическими
предложения-ми, которые в принципе лишены значений истинности, многие
высказывания в индикативе в принципе невери-фицируемы (наиболее подробную и
убедительную кри-тику оснований истинности как базы семантики выска-зывания дал
исследователь творчества Фреге и созда-тель оригинальной философии языка
английский философ Майкл Даммит в [Даммит 1987]). Таковы со-ветские лозунги:
Империализм - это загнивающий капитализм. Коммунизм - это
советская власть плюс электри-фикация всей страны.
69
Мир победит войну. Коммунисты всегда впереди.
Т. М. Николаева
назвала систему подобных высказы-ваний, при помощи которых можно манипулировать
массовым сознанием, 'лингвистической демагогией' [Николаева 1988].
Вообще в разговорной речи зачастую не действует принцип исключенного третьего,
в ней возможны объективно противоречивые высказывания. Бинарная
пропозициональная логика неадекватна тако-му материалу. Для его анализа
необходима многознач-ная логическая система.
Так, например,
Г. фон Вригт рассматривает противо-речивое высказывание 'Дождь одновременно
идет и не идет' в рамках строящейся им трехзначной логики:
'Рассмотрим процесс, такой, например, как выпаде-ние дождя. Он
продолжается некоторое время, а затем прекращается. Но предположим, что это
происходит не внезапно, а постепенно. Пусть р-----р иллюстрирует, что на
определенном отрезке времени вначале опреде-ленно идет дождь (р), а между двумя
этими временны-ми точками находится 'переходная область', когда мо-жет падать
небольшое количество капель - слишком мало для того, чтобы заставить нас
сказать, что идет дождь, но слишком много для того, чтобы мы воздер-жались от
утверждения, что дождь определенно закон-чился. В этой области высказывание р
ни истинно, ни ложно. ...Можно, однако, считать, что дождь еще идет до тех пор,
пока падают капли дождя, а можно считать, что дождь закончился, если падают
только редкие кап-ли дождя. Когда ситуация рассматривается с таких то-чек
зрения, промежуточная область перехода или нео-пределенности включается и в
дождь, и в не-дождь,
70
причем выпадение дождя
отождествляется с положени-ем, когда отсутствует невыпадение дождя, а невыпаде-ние
дождя - с положением, когда не идет дождь. Тог-да вместо того, чтобы говорить,
что в этой области ни идет, ни не идет дождь, следовало бы сказать, что в
данной области и идет дождь, и не идет дождь' [Вригт 1986Ь: 566-567].
В принципе
неверифицируемыми являются также высказывания о будущем и прошлом. Это
модальные высказывания. Они легко фальсифицируются: выска-зывания о будущем -
будущим опытом, высказыва-ния о прошлом - альтернативными представлениями о
прошлом. Так, Ю. М. Лотман показал, как строились с ориентацией на
художественное поведение вымыш-ленные 'хлестаковские' мемуары Д. И. Завалишина [Лотман 1975].
Л. Н. Гумилев в своих книгах подчер-кивает, что историческая реальность
изображается ис-ториком или летописцем под углом зрения той поли-тической
партии, которой он принадлежит: в зависи-мости от этого он замалчивает одни
факты, придумывает другие и тенденциозно освещает третьи. Создаются такие
грандиозные исторические фальси-фикации, как государство пресвитера Иоанна (см.
[Гу-милев
1970]). Еще более радикально судят об
истории русские математики М. М. Постников и А. Т. Фомен-ко, которые, опираясь
на концепцию Н. А. Морозова, доказывают, что целые исторические эпохи являются
фальсификациями (см. [Постников-Фоменко 1982; Носовский-Фоменко 1995]).
Можно считать, что эти доказательства неубедительны и малопродуктивны (ср.
остроумную критику их Ю. М. Лотманом: [Лот-ман 1982]),
однако сам факт актуализации подобных исследований независимо от того, как к
ним относить-
71
ся, является показательным в
эпоху кризиса понятий истины и достоверности.
Чрезвычайно
интересный тип высказываний, опре-деленных с точки зрения условий их
истинности, при-водит Р. Моуди в книге 'Жизнь после жизни' [Моуди 1991], где собраны свидетельства людей,
переживших клиническую смерть. Здесь имеют место вербализован-ные отчеты о
мистическом постмортальном опыте, но его достоверность имеет не верификативную,
а жанро-вую природу: так, автор справедливо указывает на то, что в рассказах
многих 'свидетелей смерти' повторя-ются одни и те же детали, но это говорит не
об истин-ности этих свидетельств (так же как и не об их ложнос-ти), а о
принадлежности их к одному достаточно узкому речевому жанру (языковой игре).
Поэтому и методика, примененная здесь Моуди, так сильно напоминает ме-тодику В.
Я. Проппа, примененную последним при ана-лизе волшебных сказок [Пропп 1969].
Все это не
отменяет ценности подобных исследова-ний, как не отменяет невозможность
верификации вы-сказываний, сделанных пациентами профессора С. Грофа в
психоделическом бреду (высказываниях-свидетель-ствах о перинатальном и
трансперсональном опыте) [Граф 1992]. Тот факт, что методика Грофа
работает и достаточно большое количество психически больных излечиваются
(приобретают устойчивую ремиссию) по-сле таких сеансов, как раз говорит о том,
что истинность высказывания почти ничего общего не имеет с его ус-пешностью,
практической валидностью.
Современная
культура является культурой информа-ционной, постиндустриальной, это 'третья
волна циви-лизаций', как назвал ее американский футуролог Алвин Тоффлер [Toffler 1980].
Но именно в обществе с переиз-бытком информации последняя становится мощным
72
средством манипуляции
общественным сознанием. Ус-пешность сообщенной информации по средствам
масс-медиа зависит прежде всего не от ее истинности, а от ее убедительности.
Последнее позволило одному из наи-более авторитетных философов современного
Запада Жану Бодрийяру в его рассуждениях о той искажающей роли, которую играют
средства массовой информации, сделать провокативное утверждение по поводу амери-кано-иракского
конфликта в Персидском заливе в янва-ре 1991 года, что вообще все военные
действия там про-ходили лишь на дисплеях компьютеров, что 'войны в заливе не
было' [Бодрийяр
1993].
В последнее десятилетие кризис
пропозициональности зашел так далеко, что философы, традиционно при-числявшие
себя к лингвистической (аналитической) па-радигме, сочли более актуальным
изучение не самих пропозиций, а интенциальных состояний, то есть обра-тились к
области психической жизни, которую логичес-кие позитивисты вообще не считали
предметом фило-софии (см., например, [Searle 1983; Kripke 1982]). Какой же
может быть художественная практика в эпоху, когда в эпистемологическом смысле
'все дозволено'? К об-суждению этого вопроса мы переходим в конце данного
раздела.
Известно, что в XX веке
художественный опыт час-то предварял научные открытия (см. также [Степанов 1985]).
Так, задолго до лингвистики устной речи суще-ствовал стиль 'потока сознания' в
художественной литературе, созданный Дж. Джойсом и М. Прустом.
Постакмеистическая поэзия Мандельштама и Ахмато-вой не только предшествовала,
но и стимулировала ин-тертекстуальные исследования творчества этих авторов (см.
исследования К. Ф. Тарановского [1976] и его уче-ников).
Неомифологический роман уже подошел к сво-
73
ему расцвету к 40-м годам
('Доктор Фаустус' Томаса Манна), а понятие 'неомифологизма' появилось лишь в
70-е годы (см., например, [Мелетинский 1976]),
и тог-да же были разработаны научные методики анализа по-добного рода
художественного материала, например 'мотивный анализ' Б. М. Гаспарова (см. [Гаспаров 1995]) или деконструктивизм Деррида [Derrida 1967,
1972, 1980].
Ниже на
примере творчества одного из крупнейших представителей классического
европейского модерниз-ма XX века Франца Кафки мы покажем, как в художест-венной
практике реализовывались еще теоретически не отрефлексированные и даже не
названные идеи теории речевых актов. Вся творческая судьба Франца Кафки
(включая его жизнь, как она засвидетельствована в доку-ментах, письмах и
биографических материалах) могла бы рассматриваться как цепь неуспешных речевых
ак-тов: в детстве и юности зависимость от грубого бруталь-ного отца порождает
невозможность освободиться и за-жить самостоятельной жизнью - все попытки
сделать это тщетны; не получается обеспечить себе свободу, обеспечить
возможность для спокойного творчества - самого главного в жизни; попытки
жениться несколько раз срываются; все три романа остаются недописанны-ми; письмо
отцу ('Письмо Отцу') - неотправленным; любимая женщина (Милена Есенская) -
потерянной; все творчество кажется неудавшимся - Кафка завещает Максу Броду
уничтожить все его рукописи. Однако и эта последняя воля не выполняется.
Но вглядевшись внимательней,
можно увидеть, что эта неуспешность достигается Кафкой как будто специ-ально,
он будто нарочно стремится к ней. Говоря серьез-но, никто не мешал ему уехать
из дома отца и жить од-ному, никто не мог помешать ему, взрослому человеку,
74
жениться. Всякий раз он
отказывается от брака без ка-ких-либо видимых причин. Он мог бы послать письмо
отцу по почте, однако он делает все возможное, чтобы письмо в руки отца не
попало, - он отдает его матери с просьбой передать письмо отцу (ср. с
завещанием Мак-су Броду уничтожить рукописи), отлично понимая, что мать этого
никогда не сделает.
Что же в результате? Маленький
болезненный ипо-хондрик, неуверенный в себе чиновник, тихий еврей из Праги,
вечно больной и недовольный жизнью, стано-вится после смерти величайшим писателем
XX века, ку-миром культуры нашего столетия. Кажущаяся неуспеш-ность в жизни
оборачивается гиперуспешностью после смерти.
Прежде чем перейти к анализу
художественного творчества Кафки, вкратце обрисуем тот культурный фон, который
окружал его творчество. Это австрий-ский экспрессионизм, наследие
австро-венгерского модерна (подробно о культурной жизни Вены см. в книге [Janik-Toulmen
1973]). Смысл экспрессионизма и основная его характерная
черта состоит в том, что он гипертрофирует системность, но при этом искажает
элементы системы, обостряя знаковый характер этой системности (подробнее см. [Руднев 1992b,
1993а]). Разупорядочение мира у Кафки происходит не от наруше-ния
норм, а от слишком усердного их выполнения. У Кафки главенствует всегда некий
высший Закон, прояв-ления которого носят часто неожиданный характер, но всегда
строго детерминированный. Изображение иска-женных речевых действий - одна из
характерных осо-бенностей прозы Кафки. Причем эти искажения идут именно по тем
линиям, которые знакомы нам по жизни автора. Либо это неуспешность самых
элементарных речевых действий, когда человек говорит что-то друго-
75
му, а тот ему не отвечает, либо
наоборот, когда самые не-вероятные речевые акты становятся гиперуспешными.
Так, в
рассказе 'Приговор' дряхлый, немощный отец вдруг кричит (неизвестно из-за чего)
своему сыну: 'Я приговариваю тебя к казни - казни водой' - и сын по-сле этого
немедленно бежит топиться. И в том и в дру-гом случае подчеркивается,
артикулируется сама сущ-ность речевого акта, анатомируется его структура.
Своеобразным
памятником неуспешности/гиперуспешности речевого поведения является знаменитое
'Письмо отцу', в котором Кафка, с одной стороны, по-казывает, что отец своими
'ораторскими методами' воспитания - руганью, угрозами, злым смехом - до-бивался
обратного тому, чего хотел от сына, превращая его в запуганное и зависимое
существо.
'Мне было страшно, - пишет Кафка отцу, - напри-мер, когда ты кричал
"Я разорву тебя на части", хотя я и знал, что ничего ужасного после
слов не последует (ре-бенком я, правда, этого не знал), но моим представлени-ям
о твоем могуществе соответствовала вера в то, что ты в силах сделать и это'.
Но, с другой
стороны, Кафка признает, что именно таким, каким он вырос - запуганным, вечно
боящимся отца, никуда не годным, - он обязан этому воспита-нию, которое в этом
смысле было успешным. Возмож-но, если бы не отец, то Кафка женился бы, сделал
карь-еру, меньше страдал психически и умер бы не так рано. Но тогда, возможно,
он не написал бы 'Замка'.
Именно структуру этого последнего
произведения определяет диалектика неуспешности и гиперуспешности. С одной
стороны, чиновники Замка (Сордини, Сортини, Кламм, Мом, Эрлангер, Бюргель)
принадлежат к
76
высшей упорядоченной и
упорядочивающей структуре власти - отсюда их страшное высокомерие. С другой
стороны, чиновников отличают неадекватные слабости, проявляющиеся в их речевом
поведении. Они при всем своем высокомерии робки, нерешительны и ранимы. Так,
Сортини вначале пишет грубую записку Амалии, где в оскорбительных тонах требует
свидания, но при этом он злится на самого себя, что эта слабость отрыва-ет его
от работы. Написав агрессивную записку, он уез-жает (в сущности убегает). Эта
записка Сортини влечет за собой цепь неуспешных речевых действий. Амалия рвет
записку, а семья, испугавшись такой дерзости, тщетно добивается у Замка
прощения за этот поступок, но Замок в прощении отказывает, подчеркивая, что се-мью
никто ни в чем не обвинял; семья хочет хотя бы до-биться того, чтобы ей
определили вину, но Замок отка-зывает и в этом. Отец Амалии каждый день выходит
на дорогу и пытается вручить кому-либо из чиновников просьбу о прощении, но
безуспешно. Брат оскорбленной Амалии Варнава, устроившись на работу в Замок,
под-ходит то к одному, то к другому слуге с рекомендатель-ной запиской, но
слуги не слушают его, пока один из них не вырывает записку у Варнавы из рук и
не рвет ее в кло-чья. Даже давая поручения Варнаве, ему вручают какие-то явно
старые ненужные письма, а он, получив их, вме-сто того, чтобы сразу отдавать их
по назначению, медлит и ничего не предпринимает. Кламм, один из самых могу-щественных
персонажей романа, во всем, что касается главного героя К., проявляет робость и
уступчивость. Когда землемер отбивает у Кламма Фриду, тот сразу па-сует, не
делая попыток ее вернуть или наказать. Чинов-ники и их секретари не только
амбициозны, но и чрез-мерно впечатлительны, нервны и излишне болтливы. Бюргель,
к которому землемер К. попадает ночью слу-
77
чайно, болтает несколько часов
подряд, пытаясь при по-мощи болтовни бороться с бессонницей и не давая ус-нуть
землемеру. Но К. вместо того, чтобы воспользо-ваться беззащитностью Бюргеля,
сам засыпает.
Вообще
землемер в плане речевого поведения являет собой полную противоположность
чиновникам. Для не-го характерна не неуспешность, а скорее тернистый путь к
гиперуспеху. Те речевые действия, которые даются легко, его не интересуют. Для
него важны только те ре-чевые акты, успеха в которых можно добиться лишь пу-тем
упорной борьбы (подробнее см. [Руднев 1992Ь]). По свидетельству Макса
Брода, роман должен был кончить-ся тем, что Замок принимает К., когда тот
находится на пороге смерти. Вот еще один пример неуспешности-гиперуспешности.
Если уподобить Замок Царствию небес-ному (о многочисленных мифологических
интерпрета-циях 'Замка' см. в книге [Мелетинский 1976]),
то финал является аллегорией отпущения грехов перед смертью, в преддверии
ахронной жизни в семиотическом обратном времени (см. первый раздел настоящего
исследования).
Одной из
основных философских идей семантики возможных миров является та, в соответствии
с которой 'вечными истинами' (по выражению Куайна), или не-обходимыми истинами,
являются те, которые являются таковыми во всех возможных мирах. То, что
является истинным в одном возможном мире, может быть лож-ным в другом. Так,
например, если рассматривать кон-текст времени как возможный мир, то
высказывание:
Сегодня весь день светило солнце -
может быть
истинным применительно к некоторым конкретным дням, когда действительно светило
солн-
78
це, и ложным применительно к
другим дням, когда бы-ло пасмурно. Применительно к художественному дис-курсу
философия возможных миров, или теоретико-мо-дельная семантика, дает возможность
рассматривать художественный мир произведения как один из воз-можных миров, и
тогда задача определения экстенсио-нала художественного высказывания
разрешается сле-дующим образом. Высказывание 'Все смешалось в до-ме Облонских'
является истинным (или ложным) в художественном
мире романа Л. Н. Толстого 'Анна Каренина'. Примерно так рассуждают
исследователи прагмасемантики художественного высказывания, при-нимающие
теоретико-модельную стратегию (см., на-пример, [Woods 1974; Pavel 1976; Lewis 1983]).
При этом в ответ на традиционное фрегианское представле-ние о том, что
художественное высказывание с пустым термом не является ни истинным, ни ложным,
филосо-фы этого направления рассуждают следующим обра-зом. Если высказывание:
Шерлок Холмс жил на Бейкер-стрит
не является ни
истинным, ни ложным, то тогда в той же мере ни истинным, ни ложным должно быть
выска-зывание:
Шерлок Холмс жил на Парк-лет.
Последнее совершенно очевидно не соответствует действительности, во
всяком случае, художественной действительности рассказов А. Конан Дойла о
Шерлоке Холмсе (см. об этом [Woods 1974, Lewis 1983]). Харак-терной
особенностью теоретико-модельной парадигмы является уравнивание в правах
различных модальных и
79
интенсиональных контекстов. При
этом границы между художественным и нехудожественным дискурсом сти-раются.
Но они действительно стираются в
художественной практике, современной этой философской парадигме. В определенном
смысле здесь роковую роль сыграло за-воевавшее умы в 80-90-х годах понятие
виртуальной реальности. Вначале оно имело более или менее техни-ческий смысл,
означавший ту иллюзорную 'искусст-венную реальность', которая возникала перед
глазами пользователя компьютерных игр определенного типа. Однако постепенно
значение этого выражения стало расширяться. С виртуальными реальностями стали
ас-социироваться реальности сновидения, бреда, вообще любого измененного
состояния сознания. Но поскольку в определенном смысле состояние сознания
любого че-ловека является измененным по отношению к состояниям сознаний других
людей, то каждая реальность явля-ется виртуальной.
Действительный мир, который в
семантике возмож-ных миров являлся маркированным членом 'модельной тройки' [Крипке 1981], в философии виртуальных ре-альностей
сливается с виртуальными реальностями че-ловеческих сознаний и придуманными
этими сознания-ми дискурсами - идеологическими, риторическими, художественными,
религиозными (о религии как языко-вой игре см. [Hudson 1975]).
В этой культурной ситуации особое
значение приоб-ретает искусство постмодернизма, во многом являю-щееся Ответом
на Вызов философских стратегий се-мантики возможных миров и философии
виртуальных реальностей.
Постмодернизм как художественное
и философское направление отличает то, что каждое высказывание в
80
нем понимается как отсылка к
иному произнесенному ранее высказыванию (подробно о постмодернизме см. [Jameson 1986;
Lyotard 1979; Rorty 1979; Baudrillard 1981; Райхман 1989]).
Если говорить о современном ху-дожественном постмодернистском высказывании, то
следует скорректировать тезис о том, что экстенсиона-лом художественного
высказывания являются высказы-вания естественного языка.
Для постмодернистского высказывания
эта коррек-тировка, по-видимому, должна звучать следующим об-разом:
экстенсионалом постмодернистского художест-венного высказывания является
высказывание, при-надлежащее к другим художественным дискурсам, художественным
языкам и системам. По сути дела постмодернистское высказывание является всегда
ци-тирующим высказыванием. Причем если литература предпостмодернистского толка
- поэзия Мандельшта-ма, Ахматовой, Элиота, проза Томаса Манна, Булгако-ва,
Кортасара, Борхеса - старалась спрятать цитату, завуалировать ее, создавая
загадку для исследователя и провоцируя такие исследовательские парадигмы, как,
например, 'мотивный анализ', занимающийся расши-фровкой цитатных узлов
художественного дискурса (одним из наиболее ярких исследований такого рода яв-ляется
работа Б. М. Гаспарова о 'Мастере и Маргари-те' [Гаспаров 1995]), - то постмодернистское выска-зывание
сознательно оголяет цитату и тем самым обес-смысливает, дезавуирует ценность
исследовательских стратегий, блестяще работавших применительно к ли-тературе
предшествующего периода.
Исследователь
постмодернистского текста может по сути выступать лишь как соавтор этого
текста, посколь-ку в предельном случае постмодернистский текст вы-ступает как
гипертекст, то есть такое художественное
81
построение, которое зиждется на
нелинейном и много-кратном прочтении.
Прообразом
постмодернистского гипертекста, по-видимому, является роман X. Кортасара 'Игра
в клас-сики', где каждую главу можно читать двояко: 1) так, как она
представлена в тексте графически; 2) в соответ-ствии с особым ключом, который
приложен автором к роману.
Образцом
современного гипертекста является ком-пьютерный роман, например 'Полдень'
Майкла Джой-са (подробнее о структуре этого текста см. [Генис 1994]).
Гипертекст компьютерного типа обладает огра-ниченным числом высказываний
первого порядка и несколькими сотнями команд, шифтеров, которые поз-воляют
прерывать чтение в любом месте и при помо-щи комбинации нажатия клавиш менять
сюжетную стратегию, разыгрывая один за другим альтернатив-ные варианты интриги.
Говоря о том, что экстенсиона-лом постмодернистского высказывания является худо-жественное
высказывание первого порядка, а не вы-сказывания естественной речевой
деятельности, мы не имеем, конечно, в виду, что каждое высказывание в
модернистском тексте является непременно цитатой из другого текста. Но когда мы
говорили об обычном ху-дожественном высказывании с пустым термом, мы то-же
осознавали, что наряду с ними и ему подобными в художественном дискурсе
присутствуют высказывания и целые субдискурсы, сохраняющие истинностные зна-чения
(например, первое предложение романа 'Анна Каренина' или философские
размышления в 'Войне и мире'). Тем не менее отсылка к иным художественным
контекстам, эстетическая функция 'в квадрате', дейст-вительно является доминантой
художественного мыш-ления постмодернизма.
82
Чтобы
убедиться в этом, рассмотрим некоторые наи-более известные примеры.
Модернистским
бестселлером 80-х годов является ро-ман известного итальянского филолога и
семиотика Умберто Эко 'Имя розы'. Этот роман построен следующим образом. На
первом уровне его высказываний - история Адсона - молодого человека, послушника
бенедиктинского монастыря - и его наставника Уильяма Баскервильского, философа,
ученика Оккама. Однако на втором уровне восприятия (тоже лежащем почти на
поверхнос-ти) истории похождений средневековых героев, раскры-вающих
преступления в монастыре, находится ситуация, связанная с системой персонажей,
излюбленной топи-кой, стилистикой и сюжетными ходами рассказов Конан Дойла о
Шерлоке Холмсе. При этом Холмсу соответству-ет мудрый Уильям Баскервильский
(прозрачный намек на повесть 'Собака Баскервилей'), а Ватсону, естествен-но, -
Адсон.
В другом не
менее известном произведении, которое можно назвать постмодернистским в широком
смысле (оно написано в 1976 году), романе С. Соколова 'Шко-ла для дураков',
указанная нами особенность выступа-ет ярче всего на уровне стиля и в масштабе
конкретно-го высказывания. В этом произведении целые блоки вы-сказываний
строятся как цитаты, тоже совершенно прозрачные, из советских стихов и песен,
русской клас-сики и детского фольклора:
'Книга - лучший
подарок, всем лучшим во мне я обязан книгам, книга - за книгой, любите книгу,
она облагораживает и воспитывает вкус, смотришь в кни-гу, а видишь фигу, книга
- друг человека, она украша-ет интерьер, экстерьер, фокстерьер, загадка: сто
оде-жек и все без застежек - что такое? отгадка - книга.
83
Из энциклопедии, статья книжное
дело на Руси: книго-печатание на Руси появилось при Иоанне Федорове, прозванном
в народе первопечатником, он носил длин-ный библиотечный пыльник и круглую
шапочку, вяза-ную из чистой шерсти. И тогда некий речной кок дал ему книгу: на,
читай. И сквозь хвою тощих игл, оро-шая бледный мох, град запрядал и запрыгал,
как сере-бряный горох. Потом еще: я приближался к месту мо-его назначения - все
было мрак и вихорь. Когда дым рассеялся, на площадке никого не было, но по
берегу реки шел Бураго, инженер, носки его трепал ветер. Я говорю только одно,
генерал: что, Маша, грибы соби-рала? Я часто гибель возвращал одною пушкой
весто-вою. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой
человек. А вы - говорите, эх, вы-и-и! А белые есть? Есть и белые. Цоп-цоп,
цайда-брайда, рита-умалайда-брайда, чики-умачики-брики, рита-усалайда. Ясни,
ясни на небе звезды, мерзни, мерзни, волчий хвост!'
Можно сказать,
что моделью действительности, от-раженной в приведенной цитате и принадлежащей
ге-рою и рассказчику (наполовину дефективному, наполо-вину гениальному),
является упражнение по русскому языку из учебника А. С. Бархударова, где
разрозненные 'учебные' предложения из русской классики образуют своеобразную
систему перекрещивающихся своими предметными областями возможных миров. При
этом подобные цитаты, выполняя 'дидактическую функ-цию', с легкостью
прочитываются как постмодернист-ский коллаж.
Примером чрезвычайно сложного
построения мо-дернистских высказываний является творчество заме-чательного
сербского писателя ('балканского Борхе-
84
са') Милорада Павича. В его
главном и наиболее изве-стном произведении - романе 'Хазарский словарь' - рассказывается
история принятия хазарами в IX веке новой веры. Текст действительно строится в
виде ста-тей словаря, посвященного истории Хазарии, но каж-дый из трех томов
словаря - христианский, ислам-ский и иудейский - толкуют хазарский вопрос в
свою пользу, то есть христианские источники исходят из то-го, что хазары в IX
веке приняли христианство, ислам-ские источники исходят из того, что хазары
приняли ислам, а евреи - из того, что хазары приняли иудаизм. В результате
роман представляет собой сложнейшее хитросплетение внешне противоречивых, но
внутрен-не чрезвычайно последовательных высказываний. При этом характернейшей
особенностью данного произве-дения является то, что практически каждое
высказыва-ние является цитатой другого высказывания из другой статьи 'Словаря'.
В результате получается впечатле-ние огромного и богатейшего художественного
мира при том, что референция цитируемых источников практически никогда не
выходит за пределы текста ро-мана. Интенсионально-экстенсиональная система вы-сказываний
'Хазарского словаря' является принципи-ально амбивалентной с точки зрения своей
конечнос-ти/бесконечности, так как книгу можно читать вновь и вновь по кругу.
Прямой аналогией этого построения является эйнштейновское представление о Вселенной,
которая одновременно конечна и бесконечна [Эйн-штейн 1965: 219-222].
В качестве
последнего примера постмодернистского высказывания приведем один из последних
дискурсов русского прозаика-концептуалиста Владимира Сороки-на. Русский
концептуализм в целом можно рассматри-вать как разновидность постмодернизма,
так как в осно-
85
ве его художественного метода
лежит оперирование ху-дожественными клише отечественной (прежде всего
советской) культуры. Характерные особенности произ-ведения, о котором пойдет
речь, начинаются с его за-главия. Оно называется 'Роман', что является действи-тельным
обозначением жанра (вспомним наши сообра-жения о функции заглавия), но
одновременно и именем главного героя. Весь роман, за исключением финала,
строится как сплошной эклектичный набор цитат из классической русской
литературы XIX века - 'Отцы и дети' И. С. Тургенева, 'Обрыв' И. А. Гончарова,
'Гро-за' А. Н. Островского, 'Мертвые души' Н. В. Гоголя, 'Дубровский',
'Капитанская дочка' и 'Граф Нулин' А С. Пушкина, новеллы А. П. Чехова. Причем
эти цитаты так очевидны, что они воспринимаются почти как вещи, то есть как
денотаты в наиболее примитивном смысле этого слова Вот, например, ситуация,
когда молодой герой приезжает в деревню. Следует описание его чемодана:
'Мятые
рубашки с оставшимися в манжетах запон-ками, китайские цветастые полотенца,
голландские но-совые платки, нагельное белье, галстуки, парусиновые брюки,
панама, карманные шахматы, бритвенный при-бор, флакон французского одеколона,
расческа, пара книг, дневник'.
Ср. в 'Графе Нулине':
С запасом
фраков и жилетов,
Шляп,
вееров, плащей, корсетов,
Булавок, запонок, лорнетов,
Цветных платков, чулков a jour.
С ужасной книжкою Гизота,
С тетрадью злых карикатур,
С романом новым Вальтер Скотта,
86
Примерно в той же последовательности в цитате пе-речисляются
одежда, мелкие предметы, книги и рукопи-си. Последние три синтагмы метризуются,
постепенно превращаясь в 4-стопный ямб:
...бритвенный
прибор,
флакон французского одеколона,
расческа, пара книг, дневник.
В целом,
однако, по мере чтения начинает создавать-ся впечатление кошмарного сновидения,
построенного из лейтмотивов русской литературы. Здесь уже действи-тельности,
реальности вообще нет, экстенсионалы пре-вращаются в карнаповские 'индивидные
концепты' [Карнап
1959] (подробно о 'Романе' Сорокина см. [Руднев 1996а]).
Таково предельное качание
маятника экстенсионализации/интенсионализации художественной референции в
современной постмодернистской прозе.
Рассмотрим
следующее художественное высказы-вание:
Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было.
Что мы можем
сказать об этом высказывании, исходя из тех логико-семантических результатов,
которых мы достигли в предыдущего раздела книги?
Будем считать, что мы знаем, что
это высказывание взято из романа М. Ю. Лермонтова 'Герой нашего време-ни' (повесть
'Княжна Мери') и нам известно, что прои-зошло перед тем событием, которое
описывается данным высказыванием, и что произойдет после него. (Послед-нее
позволяет нам 'антирейхенбаховский' постулат се-миотического времени: мы можем
знать будущее текста. В этом случае мы можем констатировать, что во времен-ной
структуре всего дискурса это высказывание зани-мает одну из ключевых позиций (в
повести 'Княжна Мери' безусловно наиболее ключевую). Здесь Печорин узнает, что
он на самом деле убил Грушницкого, то есть в каком-то смысле впервые убил
человека, причем не врага-горца, а равного, причем он расстрелял его почти в
упор, безжалостно и цинично.) Одним словом, это вы-сказывание играет
чрезвычайно большую роль в дис-курсе. Если пользоваться языком традиционной
поэти-
88
ки, то можно сказать, что оно
маркирует развязку сюже-та 'Княжны Мери'. Это высказывание предельно ин-формативно,
оно как будто полагает некий предел собы-тиям: завеса приоткрывается - дым
рассеивается - и мы узнаем вместе с Печориным, что произошло нечто неизбежное и
в физическом смысле непоправимое (не-обратимое, анизотропное). Грушницкий убит,
его боль-ше нет среди живых. Вот что мы можем сказать об этой фразе, глядя на
нее с позиций первого раздела.
Исходя из предыдущего раздела, мы
можем конста-тировать, что денотатом этого высказывания является само это
высказывание как элемент русскоязычной рече-вой деятельности: высказывание это
правильно построе-но в семантическом плане, оно понятно. Содержанием же этого
высказывания является узнавание Печориным, его спутниками (участниками дуэли) и
читателем того, что Грушницкий убит.
Если бы данное высказывание
принадлежало пост-модернистскому дискурсу, то нам следовало бы сказать, что его
денотатом является высказывание из какого-ли-бо другого художественного текста.
И в данном случае можно вполне определенно сказать, из какого именно - 'Евгения
Онегина' Пушкина, который послужил канвой для повести 'Княжна Мери': пропорция
'Онегин - Пе-чорин; Ленский - Грушницкий'. Но 'Герой нашего времени' не
является произведением постмодернизма, хотя трактовка его как
постмодернистского не является абсурдной, поэтому мы скажем, что отсылка к
'Онеги-ну' является скрытой цитатой, то есть частью смысла (коннотата) данного
высказывания.
Можно сказать, что для понимания тех эмоций, ко-торые,
возможно, овладели Печориным после того, как 'дым рассеялся', важно знание (для
первых читателей 'Героя нашего времени' это было вполне актуальное
89
знание)
соответствующих строф шестой главы 'Онеги-на', а именно строф XXXIII и XXXIV:
Приятно дерзкой эпиграммой Взбесить
оплошного врага;
Приятно зреть, как он упрямо Склонив
бодливые рога, Невольно в зеркало глядится И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья, Завоет сдуру:
это я! Еще приятнее в молчанье Ему готовить честный гроб И тихо целить в
бледный лоб На благородном расстоянье;
Но отослать его к отцам Едва ль приятно
будет вам.
Что ж, если вашим пистолетом
Сражен приятель молодой, Нескромным взглядом иль ответом, Или безделицей иной
Вас оскорбивший за бутылкой, Иль даже сам в досаде пылкой Вас гордо вызвавший
на бой, Скажите, вашею душой Какое чувство овладеет, Когда недвижим, на земле,
Пред вами с смертью на челе, Он постепенно коченеет, Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв?
Пожалуй, это все, что мы можем сказать о данном вы-сказывании,
исходя из представлений о темпорально-модальной структуре текста, а также о
денотате и смыс-ле художественного высказывания. Но это далеко не вся
90
информация, которая сообщается
нам, читателям, этим высказыванием. Можно сказать, что мы извлекли стати-ческую,
или парадигматическую, информацию, но не извлекли динамической,
синтагматической информа-ции. Мы рассматривали это высказывание как целое (хо-тя
и исходили из презумпции знания его художественно-го контекста). Но мы не
рассматривали это высказыва-ние в ряду других, соседних - близких и далеких - высказываний
как звено одной нарративной цепи, то есть мы не рассматривали его как элемент
сюжета.
Сюжетность
художественного нарративного дис-курса во многом определяется его
квазиденотативной природой. Когда читателю ясно, что история выдумана, то есть
сказанное не является ни истиной, ни ложью и отгорожено от обыденной жизни
рамками особой - художественной - языковой игры, то внимание поне-воле
заостряется на том, ради чего история и рассказы-вается, - на ее субъекте, то
есть на сюжете (родствен-ные слова, происходящие от лат. subjicio, -jeci,
-jectum, -ere, то есть то, что 'простирается перед нами').
Ясно также,
что ключом рассказа, наррации, а зна-чит, и сюжета, является некое изменение.
Ведь если ни-чего не происходит или происходит нечто однообраз-ное, то на этом
нельзя построить сюжет в классическом смысле, например детективный сюжет или
сюжет коме-дии с развитой интригой. И ясно также, что изменение может
зафиксировать полноценно только цепь выска-зываний, а не одно высказывание,
хотя какой-то куль-минационный момент изменения положения вещей мо-жет быть
акцентирован и в одном высказывании. Но тогда в высказывании должно быть нечто
являющееся индикатором этого изменения, причем было бы очень важно выявить
структурные особенности этой части высказывания.
91
Такой частью
высказывания является его модальная рамка, то есть все то, что мы отсекали,
рассматривая высказывание как чистый пропозициональный радикал. Что же входит
тогда в модальную рамку?
По нашему
мнению, это шесть категорий.
1. Информация
о том, является ли содержание выска-зывания необходимым, возможным или
невозможным, то есть алетическая модальность.
2. Информация
о том, содержит ли высказывание аксиологически позитивно или негативно
окрашенные сведения, - то есть аксиологическая модальность (подробно см. [Ивин 1971]).
3. Информация
о том, содержат ли высказывания не-кую норму или ее нарушение, то есть нечто
разрешен-ное, запрещенное или должное, - деонтическая мо-дальность (подробно
см. [Вригт
]986а]).
4. Информация
о том, является ли содержание вы-сказывания известным, неизвестным или полагае-мым,
- то есть эпистемическая модальность (подроб-но см. [Hintikka 1962]).
5. Информация о том, содержит ли высказывание
сведения, касающиеся того, что описываемое в нем со-бытие происходило в
прошлом, происходит в настоя-щем или будет происходить в будущем, - то есть тем-поральная
модальность (подробно см. [Prior 1960, 1967]).
6. Информация о том, содержит ли
высказывание сведения о принадлежности его субъекта к одному акту-альному
пространству с говорящим (здесь), к разным пространствам (там) или нахождении
его за пределами пространства (нигде) - то есть пространственная мо-дальность.
Что нам может сказать в этом
плане рассматриваемое высказывание? В алетическом смысле это высказыва-
92
ние о возможном. В
аксиологическом смысле это выска-зывание о негативном. В деонтическом смысле
это вы-сказывание о разрешенном (с точки зрения дворянской этики первой
половины XIX века) и одновременно о запрещенном (с точки зрения христианской и
общече-ловеческой этики - как нарушение запрета на убийст-во). В эпистемическом
смысле это высказывание об уз-навании. В темпоральном смысле это высказывание о
прошлом и о конце, смерти (прекращении времени жиз-ни Грушницкого). В
пространственном смысле это вы-сказывание об изменении в положении Грушницкого
по отношению к рассказчику и перемещении его из пространства 'там' в
пространство 'нигде'.
Модальное богатство
характеризует, как правило, высказывания, играющие ключевую роль в сюжете. К
таковым и относится разбираемое высказывание.
Понятие повествовательных
модальностей было вве-дено Л. Долежелом [Dolezel 1976, 1979]. Долежел вклю-чал в
их число четыре категории - алетику, деонтику, эпистемику и аксиологию. Мы
добавляем еще две кате-гории: время и пространство, что наряду со знанием, не-обходимостью,
нормой и ценностью дает достаточно полную модальную картину того, что может
происхо-дить с человеком в реальности. Рассмотрим подробнее структуру каждой из
выделенных модальностей.
1. Алетическая модальность
содержит три члена: воз-можно, невозможно (не верно, что возможно) и необхо-димо
(не верно, что возможно не). Традиционно алетиче-ские модальности трактуются чисто
логически. То есть, например, необходимость понимается как априорная, ло-гическая
необходимость (2х2=4), а невозможность - как логическая невозможность (2х2=3).
Однако примени-тельно к художественному высказыванию мы считаем уместным ввести
понятие психологической необходимо-
93
ста и психологической
невозможности. Пример психоло-гически необходимого высказывания:
Человек рождается от двух людей.
Пример психологически невозможного высказывания:
Человек рождается от наговора.
Как правило, в
качестве алетическо-нарративной модальности служит нарушение психологической не-обходимости,
то есть то, что называется чудом. Чудо по своей природе имеет не логический, а
чисто психоло-гический характер. Вот что писал по этому поводу Вит-генштейн в
'Лекции об этике' 1929 года:
'...Все мы знаем, что в обычной жизни называется чудом, это, очевидно,
просто событие, подобного ко-торому мы еще никогда не видели. Теперь
представьте, что такое событие произошло. Рассмотрим случай, ког-да у одного из
вас вдруг выросла львиная голова и нача-ла рычать. Конечно, это была бы самая
странная вещь, какую я только могу вообразить. И вот, как бы то ни бы-ло, мы
должны будем оправиться от удивления, и, вероятно, вызвать врача, объяснить
этот случай с науч-ной точки зрения, и, если это не принесет потерпевшему
вреда, подвергнуть его вивисекции. И куда тогда должно будет деваться чудо? Ибо
ясно, что, когда мы смотрим на него подобным образом, все чудесное исчезает, и
то, что мы обозначаем этим словом, есть всего лишь факт, ко-торый еще не был
объяснен наукой, что опять-таки озна-чает, что мы до сих пор не преуспели в
том, чтобы сгруп-пировать этот факт с другими фактами в некую научную систему' [Витгенштейн
1989: 104-105].
94
Чудеса, описываемые в литературе
- это такого рода события, которые могут не затрагивать логической алетики:
например, Петер Шлемиль и его тень, превраще-ние царевны в лягушку и т. п. Но
чудо может носить и логически невозможный характер. Например, идея
двойничества, раздвоения, если она толкуется онтологи-чески, разрушает один из
наиболее фундаментальных законов бинарной логики - закон тождества предмета
самому себе (на этом часто построены новеллы Борхеса (см. [Левин 1981]); другое дело, что скорее всего би-нарная
логика здесь просто 'не работает').
2. Аксиологическая модальность
содержит также три члена: ценное (хорошее, позитивное), антиценное (дурное,
негативное) и нейтральное (безразличное).
Пример аксиологически позитивного
высказывания:
А женился на Б.
Конечно, с точки
зрения, например, С, влюбленного в Б, это скорее аксиологически негативное
высказывание. Подобная релятивность характерна для аксиологической модальности
в принципе. Всегда следует спрашивать:
хорошо с чьей точки зрения? для
кого? (ср. [Витген-штейн 1989] о
невозможности понятия 'хороший' в аб-солютном смысле.)
Пример аксиологически негативного высказыва-ния:
А
развелся с Б.
Для С,
влюбленного в Б, это высказывание может быть аксиологически позитивным или
аксиологически нейтральным (например, ему может быть уже к этому времени все
равно). Пример аксиологически нейтраль-ного высказывания:
95
А шел по улице.
В принципе можно
представить себе контексты, в которых и это высказывание будет выступать как по-зитивное
или как негативное. Например, если по сю-жету А угрожает Б, то появление А на
улице может быть аксиологически негативным для Б. В этом слу-чае в данном
высказывании возможно перераспреде-ление интонации (или изменение порядка слов)
(ср. соответствующие эксперименты Л. В. Щербы [Щерба 1974: 37-38]).
Или если С влюблен в А, то появление А на улице может быть с точки зрения С
аксиологически позитивным.
Ясно также, что любое
высказывание вообще явля-ется аксиологически определенным - то есть либо
позитивным, либо негативным, либо безразличным. Поэтому любая из остальных
тем-модальностей включает в себя в явном или скрытом виде аксиологию. Если бы
мы задавались целью построить непротиворечивую классификацию нарративных мо-дальностей,
то с ортодоксально-структуралистской точки зрения последняя отмеченная нами
особен-ность аксиологической модальности в типологичес-ком смысле снижала бы ее
смыслоразличительную 'фонологическую' ценность как независимого таксона (ср. [Якобсон-Фант-Халле
1962]). Однако построе-ние классификации для нас - цель
побочная. Наибо-лее важными для нас представляются выявление изо-морфизма в
структуре каждой модальности (см. ниже) и попытка выяснения механизма модальной
работы по производству сюжета.
Так, например, наиболее ясным
представляется род-ство между аксиологией и деонтикой, то есть между ценностью
и нормой (см. также [Вригт 1986а]).
96
3. Три члена деонтической
модальности - должное на одном полюсе, запрещенное на противоположном и
разрешенное в качестве среднего медиативного чле-на - накладываются на
трихотомию 'хорошее', 'дурное' и 'безразличное': должное соответствует хорошему,
запрещенное - дурному, разрешенное - безразличному. Например:
Раскольников убил старуху.
Это одновременно и
нарушение запрета (преступле-ние), и этически дурной поступок. Но убийство
(объек-тивное преступление) может быть оценено аксиологи-чески позитивно.
Так,
террористические акты народовольцев вызыва-ли порой сочувствие в русском
обществе. Здесь дейст-вует принцип аксиологического релятивизма (обуслов-ленного
прагматически).
Пример
деонтического позитивного высказывания:
Солдат выполнил приказ.
Здесь
опять-таки сопровождающая деонтику аксио-логическая позитивность может быть
прагматически релятивизована и оценена как негативная (например, если
выполнение приказа было связано с насилием). Напряжение (в смысле [Выготский
1965]) между нега-тивной
деонтикой и позитивной аксиологией (а также vice versa) является основой сюжета
'трагедии чувства и долга', парадигма которой была заложена, по-види-мому,
Софоклом в 'Антигоне'.
Пример деонтически нейтрального высказывания, в котором содержится
описание разрешенного действия:
А шел по улице
97
(см. выше о возможности
аксиологической актуализа-ции подобных высказываний).
4.
Эпистемическая модальность также содержит три члена: знание - незнание -
полагание.
Пример эпистемически позитивного
высказывания:
А узнал, что он получил состояние.
Знание всегда в
каком-то смысле позитивно, так как знание - это исчерпание энтропии. Но как
низкая энтропия может повлечь за собой дальнейшее резкое повышение уровня
энтропии [Шеннон
1963], так знание
может повлечь за собой целую цепь негативных послед-ствий. Так, например,
происходит, когда Эдип узнает, что он все-таки убил своего отца и женился на
своей ма-тери (то есть узнает, что человек, которого он убил на дороге, был
Лай, его отец, а его жена, царица Фив Иокаста, была его матерью). Поэтому
знание, узнавание в сюжете может быть окрашено ярко негативно.
Неведение также является мощным
двигателем сю-жета. В том же сюжете 'Эдипа' Эдип по неведению же-нится на
Иокасте. Мягким вариантом незнания являет-ся ложное полагание. Так, когда
Гамлет закалывает По-лония, спрятавшегося за портьерой, то он делает это,
ошибочно полагая, что за портьерой скрывается король Клавдий.
5. Временная
модальность содержит также три чле-на - прошлое, настоящее и будущее. Надо
сказать, что время становится активной нарративной модальностью лишь в XX веке
с появлением общей теории относи-тельности и связанными с ней идеями
релятивности времени-пространства. Примерно в это время стано-вится популярным
сюжет путешествия по времени, од-ним из зачинателей которого был Герберт Уэллс.
Сю-
98
жеты, связанные с путешествием по
времени, являют-ся таким образом, не чисто темпоральными, а
темпорально-алетическими, так как в них происходит нечто психологически
невозможное с точки зрения обыден-ных представлений. До этого время как
имплицитная модальность играло гораздо более пассивную роль в сюжете или могло
не играть ее вовсе, как, например, в греческом романе, одном из первых образцов
бел-летристики в современном смысле. Время было фик-тивным, практически таким,
каким оно является в фи-зике Ньютона, то есть обратимым и симметричным. Поэтому
в таких произведениях, как, например, 'Эфиопика' Гелиодора или 'Дафнис и Хлоя'
Лонга может пройти много лет, и это никак не отражается на возрасте героев -
времени фактически нет (эту осо-бенность греческого романа впервые проанали-зировал
М. М. Бахтин [Бахтин 7976]).
6. Пространство как модальность
не рассматрива-лось в модальной логике. Между тем в сюжете оно играет огромную
роль. Тернарное противопоставление 'здесь - там - нигде' подробно
рассматривается в следующих параграфах этого раздела. Забегая вперед, мы можем
сказать, что пространственная модальность в сочетании с эпистемической дает
наиболее сильный интригообразующий сюжет детективного или ситуа-тивно-комедийного
плана. Так, например, анализируя пространственное положение дел в высказывании
'Ког-да дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было', мы сказали, что герой
перешел из пространства 'там' в пространство 'нигде'. Если бы перед нами был
аван-тюрный, детективный или ситуативно-комический сю-жет, то писатель мог бы
воспользоваться тем, что зна-ние есть всегда скрытое полагание, и тогда могло
бы оказаться, что Грушницкий не погиб, а спрятался в
99
скалах, а потом стал мстить
Печорину. Вспомним, что в истории массовой литературы именно подобный случай
сыграл весьма позитивную роль в судьбе одно-го из наиболее знаменитых героев
беллетристики на-чала XX века - в судьбе Шерлока Холмса. Так, в но-велле
'Последнее дело Холмса' говорится о том, что профессор Мориарти убивает Холмса,
сбрасывая его со скалы. Этим должна была закончиться жизнь вели-кого сыщика и
оборваться серия рассказов о нем. Од-нако читатели были возмущены смертью
Шерлока Холмса. И вот в этой ситуации, являющейся тем ред-ким случаем, когда
прагматика внешняя, жизненная, и прагматика художественная встречаются лицом к
лицу (и между ними не проложить и острия бритвы), Конан Дойл решил оживить
Шерлока Холмса. Сделать это оказалось очень просто. В следующей новелле 'Пустой
дом' рассказывается о том, что Холмс лишь притворил-ся погибшим, а на самом
деле, скрывшись в скалах, ос-тался невредим.
Обобщая сказанное о нарративных
модальностях, можно отметить две особенности того понятия, которое мы называем
сюжетом. Первая особенность заключается в том, что сюжет возникает и активно
движется, когда внутри одной модальности происходит сдвиг от одного члена к
противоположному (или хотя бы к соседнему):
невозможное становится возможным
(алетический сю-жет); дурное оборачивается благом (аксиологический сюжет);
запрет нарушается (деонтический сюжет); тай-ное становится явным
(эпистемический сюжет); прош-лое становится настоящим (темпоральный сюжет);
'здесь' превращается в 'нигде' и
обратно (пространст-венный сюжет).
Вторая особенность заключается в
том, что само по-нятие сюжета может не раскрываться на феноменоло-
100
гическом уровне одного или
нескольких высказываний художественного дискурса. Для того чтобы описать или
рассказать в виде нарративного дайджеста сюжет произведения, необходимо, как
правило, воспользо-ваться такими обобщающими квазиметавысказываниями, которых
может не быть в самом дискурсе. То есть сюжет - это 'супрапропозициональное'
образование. Можно сказать, что единицей сюжета является пропози-циональная
функция (см. [Степанов 1985: 12-13]), и вспомнить В. Я. Проппа, который первым дал
разверну-тую синтагматику сказочного сюжета как совокупности пропозициональных
функций. При этом функции Проп-па безусловно носят модальный характер, хотя
автор об этом не говорил, так как в 20-е годы это понятие еще не применялось в
поэтике. Но по сути каждая из 31 функ-ций Проппа является нарративной
модальностью. Например: 'I. Один из членов семьи отлучается из до-ма, отлучка'
- это пространственная модальность. 'II. К герою обращаются с запретом, запрет.
III. Запрет нарушается, нарушение'. Эта конфигурация функций является отчетливо
деонтической. 'IV. Антагонист пы-тается произвести разведку, выведывание. V.
Антагони-сту даются сведения о его жертве, выдача'. Эта конфи-гурация носит
отчетливый эпистемический характер. И так далее [Пропп 1969: 30-31].
После
подробного анализа пространственной мо-дальности мы вернемся к систематизации
нарративных модальностей выше. Теперь же в заключении разговора о нарративных
модальностях дадим краткое описание сюжета трагедии Шекспира 'Гамлет'. Будем
при этом называть квазиметаязыковые высказывания, описываю-щие модальные
перипетии сюжета, описаниями сюжет-ных мотивов (следуя за традицией
отечественной нарратологии [Веселовский 1986]).
101
Ясно, что подобная схема будет
носить более или ме-нее субъективный характер в зависимости от того, с ка-кой
подробностью членить сюжет на мотивы и каким мотивам придавать большее или
меньшее значение. В любом случае это описание следует рассматривать лишь как
иллюстрацию.
Последовательность сюжетных
мотивов 'Гамлета' Шекспира:
1. Появление
призрака отца Гамлета - алетический мотив.
2. Призрак
открывает Гамлету тайну убийства и призывает к мщению -
эпистемическо-деонтический мотив.
3. Гамлет
притворяется сумасшедшим - эпистеми-ческий мотив.
4. Он отдаляет
от себя Офелию - аксиологический мотив.
5. По ошибке
он убивает Полония - мотив, сочета-ющий в себе пространственную,
аксиологическую, эпи-стемическую и деонтическую модальности.
6. Гамлет
устраивает Клавдию 'мышеловку', инсце-нируя при помощи бродячих актеров сцену
убийства короля, - наиболее сильный эпистемический мотив во всей трагедии:
кульминация.
7. Король
отсылает Гамлета в Англию и пытается руками Розенкранца и Гильденстерна убить
его - пространственно-эпистемически-аксиологически-деонтический мотив.
8. Гамлет
перехватывает письмо Клавдия, подменя-ет его и тем самым выпутывается из
ловушки, попутно отомстив своим друзьям-предателям, -
эпистемически-пространственно-аксиологически-деонтический мотив (зеркальное
отражение предыдущего мотива).
102
9. Офелия тем временем кончает с
собой - аксиоло-гический мотив.
10. Король вторично пытается
убить Гамлета, ис-пользуя намерение Лаэрта отомстить Гамлету за сестру, -
аксиологически-деонтический мотив.
11. Королева по ошибке выпивает
яд из кубка, пред-назначенного Гамлету, - эпистемически-аксиологический мотив.
12. Лаэрт ранит Гамлета
отравленным клинком - аксиологически-деонтический мотив.
13. Гамлет убивает короля -
аксиологически-деон-тический мотив.
14. Гамлет умирает -
аксиологический мотив.
15. Появляется
наследник Фортинбрас - простран-ственно-деонтический мотив.
Данная схема
сделана нарочито примитивной. По-ви-димому, все же сюжет не сводится к сумме
мотивов, опи-сываемых на квазиметаязыке. Сюжет живет в конкрет-ном дискурсе - в
реальных высказываниях. Сюжет не существует без стиля. Более того, он является
просто предельной реализацией и диалектической сменой сти-ля. Ср. определение
стиля и сюжета В. Б. Шкловским, которое звучит примерно так: сюжет - это
синтагма-тическое проявление стиля, а стиль - это парадигма-тическая реализация
сюжета [Шкловский
1928].
Понимание
художественного пространства как важ-нейшей типологической категории поэтики
стало об-щим местом после работ М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, В. Н. Топорова [Бахтин 1976;
Лихачев 1972; Топоров 1983, 1995a-d] и их последователей. Тот
факт, что в ху-дожественном произведении смена одного пространства на другое
является этически окрашенной, стал предме-том исследования Ю. М. Лотмана в
статьях [Лотман
1965b; 1986]. Ему же принадлежат ценные наблюдения о том, что
некоторые художественные произведения в принципе построены на передвижении по
пространст-ву. Это прежде всего тексты русского и европейского сентиментализма,
такие, как 'Сентиментальное путе-шествие' Л. Стерна, 'Письма русского
путешественни-ка' Н. М. Карамзина, 'Путешествие из Петербурга в Москву' А. Н.
Радищева [Лотман
1987].
В чем же состоит логический смысл
смены одного пространства на другое? Очевидно, в том факте, что то, что
является истинным в одном пространстве, может являться ложным в другом.
Наиболее яркий пример -
'Путешествия Гулли-вера' Дж. Свифта: в стране лилипутов Гулливер являет-ся
великаном, в стране великанов - лилипутом.
Примером другой
логико-пространственной зако-номерности является ситуация, типичная для англий-ского
детективного романа, когда ограниченное число
104
персонажей собираются в одном
месте (откуда вслед-ствие природных явлений оказывается невозможным выбраться и
куда больше никто не может попасть) и в этом месте совершается преступление. Здесь
исполь-зуется следующая логико-пространственная аксиома:
поскольку истинно, что если А
находится здесь, то не-возможно, чтобы он находился в другом месте, и по-скольку
преступление совершено здесь, то, следова-тельно, один из персонажей,
находящихся здесь, - преступник.
Невозможность выбраться из
замкнутого простран-ства (как правило, острова) является также сюжетной основой
робинзонады.
Ниже мы даем свой вариант логики
пространства (поскольку аналогичные построения нам неизвестны), ориентируясь на
деонтическую логику Г. фон Вригта, временную логику А. Н. Прайора,
аксиологическую ло-гику А. А. Ивина и эпистемическую логику Я. Хинтикки.
В качестве модальных операторов
будут использо-ваться понятия 'здесь', 'там', 'нигде' и 'везде'. Определение
первых двух понятий представляет труд-ности. На первый взгляд кажется, что
'здесь' естест-венно определить как 'в месте, находящемся в не-посредственной
близости от говорящего', а 'там' - как 'в месте, удаленном от говорящего'.
Однако нали-чие таких вполне обычных употреблений, как, с одной стороны, 'Он
здесь, в Европе' и, с другой стороны, 'Он там, за углом', противоречит подобной
ин-терпретации.
Вероятно,
бесспорным можно считать, что 'здесь' - это 'там же, где и говорящий'. Тогда
пропозиции 'Он здесь, в комнате', 'Он здесь, в Москве', 'Он здесь, в Европе'
применительно к одному человеку не будут противоречивы в том случае, когда он
одновременно
105
находится и 'здесь в комнате', и
'здесь в Москве', и 'здесь в Европе'. В этом случае понятие 'там' будет
определяться как 'не-здесь', то есть 'не там же, где и говорящий', в другой
комнате, в другом городе, в другой стране. Последнее, однако, не объясняет до
кон-ца того, почему 'там' может быть достаточно близко, а 'здесь' - достаточно
далеко. Нам кажется, что употреб-ления 'Он там, за углом' и 'Он там, в Америке'
одина-ково включают в себя семантический компонент 'за пределами сенсорного
восприятия'. Можно знать, что некто находится 'там за углом' или 'там в
Америке', но видеть и слышать этого нельзя.
Когда у Пушкина в романе Онегин
спрашивает:
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит? -
то имеется в
виду, что Онегин не узнает Татьяну не только потому, что она изменилась, но и
потому, что она стоит достаточно далеко, где-то на пороге сенсорного
восприятия, то есть он видит, что это дама в малиновом берете, но определить,
кто именно, не может. Знание о том, что происходит 'там', - это знание на
эпистеми-ческой основе; знание о том, что находится 'здесь', яв-ляется знанием
на сенсорной основе. Здесь - это 'в', а 'там' - 'за': там, за горизонтом; там,
за углом; там, за облаками; там, за далью непогоды.
Будем считать, что объект
находится 'здесь' в том случае, когда он находится в пределах сенсорной дости-жимости,
и находится 'там', когда он находится за пределами или на границе сенсорной
достижимости.
Будем считать объект сенсорно
достижимым, если он может быть воспринят как минимум двумя органами чувств:
например, зрением и осязанием ('Я его вижу и могу дотронуться до него рукой'),
или зрением и слу-
106
хом ('Я его вижу и слышу, что он
говорит'), или слухом и осязанием ('Я его не вижу, но слышу его голос и чув-ствую
рукой').
Будем считать границей сенсорной
достижимости такую ситуацию, когда объект может быть воспринят только одним
органом чувств, например его можно ви-деть, но не слышать ('Я вижу его через
окно, но что он говорит, я не слышу - он находится там, за окном') или,
наоборот, слышать, но не видеть ('Я слышу его го-лос там, за стеной, но самого
его я не могу видеть').
Мы будем в дальнейшем
разграничивать понятия 'здесь' и 'там' с маленькой буквы и 'Здесь' и 'Там' с
большой буквы.
Если мы говорим, что объект
находится 'здесь', это означает, что он находится в пределах сенсорной дости-жимости
со стороны говорящего (лежит здесь, на столе;
сидит рядом на стуле и т. д.).
Если мы говорим, что объект
находится 'там', это означает, что он находится на границе или за границей
сенсорной достижимости (он стоит там, за шкафом;
там, в углу и т.
д.).
Если мы говорим, что объект
находится 'Здесь', это означает, что он находится в одном актуальном простран-стве
с говорящим: в одной комнате, в одном доме, на од-ной улице, в одном городе и
т. д. Ясно, что если А нахо-дится 'Здесь', то А находится 'здесь' или 'там'
(Если А в городе, то он либо здесь, в комнате, либо там, за уг-лом, на соседней
улице, в кино и т. д.).
Если мы говорим, что объект
находится 'Там', это означает, что 'не верно, что он находится Здесь', то есть
он находится за пределами одного актуального пространства с говорящим.
Будем также разграничивать
понятия 'нигде' и 'Ни-где'.
107
Если мы говорим, что 'его нигде
нет', то это означа-ет, что его нет 'нигде здесь', то есть ни 'здесь, в комна-те',
ни 'там, за углом'.
Если мы говорим, что объекта нет
Нигде, это означа-ет, что его нет ни 'Здесь', ни 'Там', что равносильно тому,
что объект вообще не существует, уничтожен, умер.
При этом анализируемые нами
понятия не означают какие-то конкретные пространства, но совокупность
пространств: 'здесь' может означать и 'здесь на сто-ле', и 'здесь на стуле', и
'здесь на тумбочке', то есть в любой точке пространства, куда видит глаз
говорящего, простирается его слух и может быть протянута его рука. Поэтому мы
будем говорить о множестве возможных миров 'здесь' и в том случае, когда А
находится здесь, будем говорить, что А принадлежит множеству возмож-ных миров
'здесь'.
Теперь мы можем сформулировать
основные законы логики пространства применительно к сингулярным термам.
1. Если А
принадлежит множеству возможных миров 'здесь', то А принадлежит множеству
возмож-ных миров 'Здесь' и не принадлежит множеству воз-можных миров 'там'.
Пример. Если А находится здесь
(сидит рядом на стуле, на кровати, за столом и т. д.), то А находится Здесь, в
комнате, в доме, в городе и не находится там, под кроватью, за углом, в
подворотне.
2. Если А принадлежит множеству возможных миров 'там', то А принадлежит
множеству возможных миров 'Здесь' и не принадлежит множеству возмож-ных миров
'здесь'.
108
Пример.
Если А находится там, под кроватью, или в шкафу, или под диваном, то А
находится Здесь, в комна-те, Здесь, в доме. Здесь, в городе и не находится
здесь, на столе, на кровати, на тумбочке.
3. Если А
принадлежит множеству возможных миров 'Здесь', то А принадлежит множеству
возможных миров 'здесь' или множеству возможных миров 'там'.
Пример. Если А находится Здесь, в комнате;
Здесь, в Москве, то А находится здесь, в доме; здесь, в комнате, или там, под
кроватью, там, на Арбате. Примечание. Ис-пользование в одной пропозиции
выражений 'Здесь, в комнате' и 'здесь, в комнате' может показаться проти-воречивым.
Но это не так. В антецеденте выражение 'Здесь, в комнате' означает
принадлежность к множест-ву возможных миров 'Здесь', в консеквенте выражение
'здесь, в комнате' означает принадлежность к множест-ву возможных миров 'Здесь
в Москве'.
4. Если А
принадлежит множеству возможных миров 'Там', то А не принадлежит множеству
возмож-ных миров 'Здесь'.
Пример. Если А находится Там, в Ленинграде, то
А не находится Здесь, в Москве.
5. Если А не принадлежит
множеству возможных миров 'здесь', то А принадлежит множеству возможных миров
'там' и множеству возможных миров Здесь или А принадлежит множеству возможных
миров 'Там'.
Пример. Если А не находится здесь, на столе (на
сту-ле, совсем рядом, в комнате), то А находится там, за уг-лом, за стеной, в
соседней комнате и Здесь, в комнате, в Москве, в доме, или А находится Там, в
Ленинграде, в
109
Америке и т. д. Примечание.
Аналогично примеру к правилу 3 выражение 'здесь в комнате' в консеквенте
означает принадлежность к пространству 'здесь', а выражение 'Здесь в комнате' в
антецеденте означает принадлежность к пространству Здесь.
6.
Если А не принадлежит множеству возможных миров 'там', то А принадлежит
множеству возможных миров 'здесь' и множеству возможных миров 'Здесь' или А
принадлежит множеству возможных миров 'Там'.
Пример. Если А не находится там, за стеной (за
уг-лом, в другом доме), то А находится здесь, на столе, на кушетке, в двух
шагах от меня и находится в комнате, в доме, в Москве или А находится Там, в
другом доме, в Ленинграде, в Америке.
7.
Если А не принадлежит множеству возможных миров Здесь, то А принадлежит
множеству возможных миров Там или не находится Нигде.
Пример. Если А не находится Здесь, в комнате, в
до-ме, в Москве, то А находится там, в другой комнате, в соседнем доме, в
Москве или не находится Нигде.
8.
Если А не принадлежит множеству возможных миров 'Там', то А принадлежит
множеству возможных миров 'Здесь' или не находится Нигде.
Пример. Если А не находится Там, в другой
комнате, в соседнем доме, Ленинграде, то А находится в этой комнате, в этом
доме, в Москве или не находится Нигде.
9.
Если А не находится Нигде (= находится Нигде), то А не находится Здесь и не
находится Там.
110
Пример. Если его нет Нигде, то его нет ни
Здесь, в комнате, в доме, в Москве, ни Там, в другой комнате, в соседнем доме,
в Ленинграде.
10.
Если не верно, что А находится Нигде, то А нахо-дится Здесь или Там.
Пример. Если он не умер, то он Здесь, в Москве
или Там, в Ленинграде.
Для
универсальных термов построение логики пространства усложняется по двум
причинам. Первая заключается в том, что для пропозиций с универсалия-ми не
являются истинными аксиомы 1-10. Если дождь идет здесь, это не значит, что он
не идет там, и если он идет здесь, то он может идти и там. Вторая особен-ность,
производная от первой, заключается в необходи-мости введения нового понятия
'Везде' как конъюнк-ции понятий 'Здесь' и 'Там'.
11.
Если А принадлежит множеству возможных миров 'Везде', то А принадлежит
множеству возмож-ных миров 'здесь' и множеству возможных миров 'Там'.
Так же, как и
при анализе других модальностей, играющих важную роль в сюжете, можно
обнаружить, что пространственный сюжет начинается тогда, когда по-нятия
меняются местами: 'здесь' становится на место 'Нигде', 'Нигде' на место 'там' и
т. д. Например, А по-лагает, что В находится 'Здесь', в то время как В нахо-дится
'Там', или, наоборот, А полагает, что В находится 'Там', в то время как В
находится 'там' (за стеной или перегородкой) и подслушивает то, что о нем
говорит А. Более сильный вариант: А полагает, что В Нигде не нахо-дится, в то
время как В находится Там или Здесь.
111
Данный тип
сюжета представляет собой комбина-цию из пространственной и эпистемической
модально-стей. Наиболее архетипический протосюжет такого ти-па - муж на свадьбе
у своей жены. Ср. также сцену убийства Гамлетом Полония. Многочисленные ситуа-ции,
когда герой, незамеченный, подслушивает, подгля-дывает, приобретая ценную
информацию, движущую сюжет, также основываются на пространственно-эпи-стемической
модальности. Интересной разновиднос-тью такого сюжета является ситуация, когда
герой прит-воряется глухим, немым или слепым, создавая искусст-венную сенсорную
перегородку между собой и другими персонажами, что позволяет ему
пространственно-прагматически находиться 'там', в то время как он на-ходится
'здесь', и использовать это также для получе-ния информации.
Логический
механизм этого пространственно-эпи-стемического построения можно
эксплицировать, введя алетическо-эпистемический оператор, читающийся как 'можно
предположить, что'. Если мы возьмем формулу 5 и припишем консеквенту этот
оператор, то получим, что, если можно предположить, что А принадлежит множеству
возможных миров 'там' и множеству воз-можных миров 'Здесь' или принадлежит
множеству возможных миров 'Там', то можно предположить, что А принадлежит
множеству возможных миров 'здесь', то есть если А не находится здесь, то можно
предполо-жить, что А находится здесь.
Парадоксальность
этого вывода, по всей вероятнос-ти, объясняется самой природой понятий,
которыми мы оперируем. Понятия 'здесь' и 'там' опираются на сен-сорные данные,
понятия 'Здесь' и 'Там' - на эписте-мические данные. Но и сенсорные, и
эпистемические данные могут быть недостоверны. Человеку может ка-
112
заться, что он видит и слышит то,
что оказывается гал-люцинацией. Он может полагать, что точно знает, был он или
не был в каком-либо месте, но ведь он мог и за-быть о том, что с ним было или
не было.
Проблема пространства 'Там' в
принципе связана с проблемой недостоверности информации, преодолева-ющей
большое количество пространства. О том, что происходит 'Там', нельзя судить
непосредственно 'отсюда', информация об этом поступает из свиде-тельств,
рассказов, газет, писем, то есть через третьи руки и с значительным временным
запозданием, по-этому в ней не может не присутствовать доля недосто-верности.
Когда в конце прошлого века изобрели кино и оно стало популярным в 10-е годы XX
века то праг-матическая путаница между тем, что, как кажется зрителям,
происходит 'здесь и теперь', а на самом де-ле уже произошло 'там и тогда',
порождала у них, как описывает это Томас Манн в 'Волшебной горе', чув-ство
бессилия от невозможности контакта с этой кажу-щейся реальностью.
Изобретение телевидения с
возможностью прямого эфира из любой точки пространства отчасти решило эту
проблему, хотя логически осталась возможной лю-бая степень фальсификации
событий, транслируемых 'Оттуда', то есть возможность сюжетопорождения в широком
смысле.
Пространственный сюжет может
взаимодействовать не только с эпистемическим, но и с любым другим:
1) с
алетическим: А улетает на Марс;
2) с
деонтическим: А нелегально переходит границу;
3) с
аксиологическим: А совершает паломничество;
4) с
темпоральным: А переносится в прошлое. Все сюжетные модальности обобщим в
таблице.
113
|
+
|
-
|
0
|
|
необходимо
|
невозможно
|
возможно
|
|
должно
|
запрещено
|
разрешено
|
|
хорошо
|
плохо
|
безразлично
|
|
прошлое
|
будущее
|
настоящее
|
|
здесь
|
нигде
|
там
|
|
знание
|
полагание
|
неведение
|
Возможно,
что данная классификация не охватывает всех видов модальностей, но она
охватывает основные их виды: пространство и время, знание и необходи-мость, нормы
и ценности.
Одной из
последних была создана логика речевых актов, построенная Дж. Серлем и П.
Вандервекеном [Searle-Vanderveken 1984]. Можно сказать,
однако, что любой речевой акт включается в одну из модальных сис-тем, которые
описывает приведенная выше классифика-ция. Например, если кто-то говорит: 'Я
дарю вам это', - то перед нами аксиологический речевой акт; ког-да судья
произносит приговор: 'Приговариваю такого-то к десяти годам тюрьмы', - то это
деонтический речевой акт. Если человек молится или, наоборот, призывает не-чистую
силу, то это алетический речевой акт. Если он го-ворит: 'Я сомневаюсь в этом',
- то это эпистемический речевой акт. Иллокуция 'Я ухожу' представляет собой
пространственный речевой акт; высказывание 'Начнем через полчаса' - темпоральный
речевой акт.
Для того чтобы
сделать классификацию более подроб-ной, мы введем две пары понятий: 1) сильная
и слабая модальности; 2) позитивная и негативная модальности.
Сильным
модальным высказыванием или действием будем считать такое, которое отражается
на судьбе чело-века (персонажа) в масштабе всей его жизни (всего сю-жета).
Соответственно слабым будет считаться модаль-
114
ное действие или высказывание,
которое не влечет за со-бой серьезных последствий и детерминирует поведение
персонажа на уровне мотива. Сильные модальности бу-дут обозначаться большой
буквой, слабые - маленькой.
Позитивным модальным (речевым)
действием мы бу-дем считать то, которое будет соответствовать модально-стям,
находящимся в левом столбце таблицы, то есть все необходимое, должное, хорошее,
прошлое, известное, здешнее. Негативными будут соответственно невоз-можное,
запрещенное, плохое, будущее, несуществую-щее (нигде-не-находящееся),
неизвестное. Примечание. Прошлое и будущее рассматриваются как позитивное и
негативное в соответствии с христианской традицией:
все благое идет из прошлого
(закон, патриархи, пророки, Мессия), все дурное ожидается в будущем (возмездие
за грехи. Страшный суд, конец света).
Приведем примеры сильных
модальных типов сю-жета:
1. А1+
Воскресение Иисуса Христа, видение ангела
святому.
2. А1-
Призраки и вампиры, оживающие статуи.
3. D+
Геройский подвиг, например победа над
драконом.
4. D- Убийство,
насилие, клевета, предательство,
инцест.
5. Ах+ Любовь,
обогащение, власть.
6. Ax- Потеря
или смерть близкого человека,
разорение.
7. Ер+
Сверхзнание, прорицание, разгадка истины,
открытие.
8. Ер-
Введение в заблуждение, клевета, обман,
притворство.
9. Т+
Перемещение во времени, попадание в
прошлое.
115
10. Т-
Перемещение во времени, попадание в будущее.
11. S+
Возвращение - с войны, с поединка, из изгна-ния.
12. S- Уход -
попадание в плен, в тюрьму, в ссылку, в ад.
Ясно, что чем
большее количество сильных модаль-ностей содержит сюжет, тем более сильным
сюжетом он является. Наиболее сильным будет сюжет, использу-ющий все шесть
модальностей, например А1+, Т+, D+, Ах+, Ер+, S+. Таким сюжетом представляется
евангель-ский, где присутствует Чудо (А1+), выполнение Иису-сом воли Отца (D+),
акт Спасения (Ах+), исполнение пророчества о Мессии (Ер+), перераспределение
тече-ния времени путем снятия Первородного Греха (Т+), Вознесение (S+).
Евангельский сюжет обладает такой силой воздействия, что не перестает быть
актуальным на протяжении двух тысячелетий.
Предательство
Иуды во многом является сюжетом-ан-типодом, но оно не обладает такой модальной
силой, в нем задействовано только три модальности: Ер-, D-, Ах- (эти три
модальности составляют семантический комплекс понятия предательства; ни
алетическим, ни темпораль-ным, ни пространственным этот мотив не является).
Три модальности
также представляют собой силь-ный сюжет. На трех модальностях построены такие
сю-жеты, как 'Эдип' (Ах-, Ер-, D-: убийство отца и ин-цест с матерью по
неведенью); 'Фауст' (А1-, D-, Ах-: договор с дьяволом, ведущий к гибели души);
'Дон Жу-ан' (Ах+, D-, A1-: любовь сопровождается нарушением обета верности
умершему мужу, что ведет к появлению его призрака). Думается, что не случайно
мы приводим сюжеты, которые повторяются и воспроизводятся на протяжении многих
столетий.
116
Но можно в принципе представить
себе нечто проти-воположное, то есть сочетание модальностей слабых по силе и
нейтральных по ценности, то есть правый стол-бец таблицы: возможное,
разрешенное, безразличное, полагаемое настоящее, находящееся 'там'. Это будет
ситуация, когда 'ничего не происходит', некий сюжет-ный штиль, выраженный
древним русским летописцем фразой о том, что в лето такое-то 'тихо бысть'.
Сочетание шести типов
модальностей по четырем признакам (сильный, слабый, негативный, позитивный)
дает 4б=4096 конфигураций, которые могут реализо-ваться на уровне
целого сюжета или на уровне мотива.
Можно заметить, что в литературе
господствуют ус-тойчивые модальные конфигурации. Проще всего пока-зать это на
примере D и Ах, которые, как правило, со-путствуют друг другу. Здесь выделяются
четыре конфи-гурации:
1. D+ => Ах+ Если герой
выполняет то, что должно, его ожидает награда.
2. D- => Ах- Нарушение запрета
ведет к беде.
3. (D- => Ах+) => (Ах-
=> D-) Нарушая запрет, герой получает нечто ценное, которое оборачивается
плохой стороной, и герой получает наказание.
4. (D+ => Ах-) => Ах+
Выполняя долг, герой терпит бедствие, но благодаря этому он впоследствии
получает награду.
Конфигурации 1 и 2, как правило,
выполняют мотивную функцию. Наиболее интересны конфигурации 3 и 4. Конфигурация
3 (формула Первородного Греха) являет-ся сюжетной основой 'Анны Карениной' Л.
Н. Толсто-го: нарушая долг верности мужу (D-), героиня получает любовника
(Ах+), и она погибает, чем, по мнению ав-тора, совершается акт высшего
возмездия (D+). Вероят-но, Лев Толстой первый не согласился бы с подобной
117
трактовкой - уж слишком она
напоминает известную эпиграмму Н. А. Некрасова:
Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом, Что женщине не
следует гулять Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, Когда она жена и мать.
Как известно, Л. Н.
Толстой, отбиваясь от критиков, произнес знаменитую фразу о 'сцеплении мыслей'.
Но сцепление мыслей - фактор стиля, законы же сюжета чаще всего оказываются
достаточно жесткими и прими-тивными, объединяя совершенно не похожие во многом
другом произведения. Конфигурация 3 соответствует сюжету 'Дамы с камелиями' А.
Дюма, под влиянием которого во многом написана 'Анна Каренина' [Эйхен-баум
1967]. Может быть, во многом благодаря прозрач-ности сюжета
'Анна Каренина' была встречена крити-кой в целом благожелательно, в то время
как над 'Вой-ной и миром', когда он вышел в свет, смеялись, как над нелепым
монстром [Шкловский
1928].
На основе
конфигурации 4 построен, например, сюжет 'Капитанской дочки' А. С. Пушкина:
Гринев, сохраняя верность присяге (D+), попадает в беду (Ах-), но именно
благодаря этому все заканчивается хорошо и герой получает невесту (Ах+).
Различные конфигурации модальностей преобладают в различных жанрах. В ко-медии
основополагающим является эпистемический сю-жет ('в центре комедии
надувательство') [Фрейденберг 1973b]
- переодевания, близнецы, обман. В трагедии главную роль
играет деонтический сюжет несоблюдения запрета, при этом эпистемический сюжет
может присут-ствовать (как в 'Эдипе' Софокла), а может отсутство-вать почти вовсе
(как в 'Антигоне' Софокла, 'Прометее прикованном' Эсхила).
118
Способ
применения каждой модальности в опреде-ленных жанрах и текстах имеет свою
философскую по-доплеку. Так, в 'Войне и мире' Л. Н. Толстого разрабо-тана
достаточно сложная философия пространства, в соответствии с которой то, что
является ценным и долж-ным в одном пространстве, не является таковым в других:
то, что неуместно в салоне Анны Шерер, необ-ходимо у старого князя Болконского;
в Павлоградском полку действуют нормы, несовместимые с традицион-ными нормами,
действующими в семье Ростовых. Персонажи, подчиняющиеся нормам, действующим в
том или ином пространстве, являются второстепенны-ми. Персонажи, которые либо,
доводят исполнение нормы до предела (бессмысленное геройство Андрея Болконского
при Аустерлице), либо, наоборот, не хотят или не умеют их соблюдать (Пьер
Безухов, Наташа Рос-това) являются главными. Моменты взлета и краха происходят
на резко маркированном пространстве: Аустерлиц, Шенграбен, Бородино, горящая
Москва.
Чрезвычайно
интересна философия пространствен-но-эпистемического сюжета в новеллах Г. К.
Честерто-на, посвященных отцу Брауну, который раскрывает преступления потому,
что смотрит на мир глазами по-следовательного томиста-католика, в то время как
другие герои, как правило атеисты, не видят очевидно-го. Благодаря нескольким
устойчивым положениям отец Браун ловит преступника на его собственный крючок:
1.
Действительность кажется детерминистской, на самом деле она является
телеологической. Следует за-даваться вопросом: не почему произошло то или иное
событие, а зачем и кому понадобилось, чтобы это собы-тие выглядело таким
образом.
В новелле
'Сапфировый крест' отец Браун подбрасы-вает сыщику Валентэну следы своего
передвижения по
119
городу: разбивает стекло в
ресторане, обливает стену су-пом, рассыпает яблоки. В новелле 'Сломанная шпага'
отец Браун доказывает, что герой рассказа, генерал, зате-ял страшное нелепое
сражение ради того, чтобы скрыть под грудой трупов убитого им накануне
полковника.
2. Люди делят друг друга на высших
и низших, на са-мом деле все люди равны.
Используя эту презумпцию, отец
Браун в новелле 'Странные шаги' догадывается, что преступник, ис-пользуя тот
факт, что в клубе, в котором происходят со-бытия, лакеи и джентльмены носят
одинаковые фраки, поочередно представая перед лакеями как джентльмен, а перед
джентльменами как лакей, крадет серебро. То же в новелле 'Невидимка', где
жертва не замечает преступника, так как преступник одет в форму почталь-она,
которого вообще не принято замечать.
3. Люди склонны
принимать за реальность то, что яв-ляется фикцией.
В новелле
'Проклятая книга' секретарь профессора, увлекающегося магией, разыгрывает его;
явившись под другим именем (элемент 2 - профессор привык не за-мечать
секретаря), он говорит ему, что обнаружена таин-ственная книга, раскрыв которую
люди исчезают. На вопрос, где находится книга, он отвечает, что оставил ее в
приемной у секретаря. Когда профессор и 'неизвест-ный' врываются в приемную, то
они обнаруживают книгу раскрытой, окно распахнутым, а секретаря, конеч-но,
исчезнувшим. Потом таким же образом 'исчезают' и другие люди. Отец Браун
догадывается, что никто не исчезал, никакой проклятой книги не существует и все
подстроено (элемент 1 - детерминистское оказывается телеологическим).
4. Считается,
что случайный набор предметов невоз-можно объединить в систему, на самом деле
эти предме-
120
ты можно объединить не только в
одну, но и во множе-ство систем.
Этот тезис, замечательным образом
предваряющий методологические установки семантики возможных миров, позволяет
отцу Брауну раскрыть преступление в новелле 'Честь Израэля Гау'. В доме, где
совершено преступление, обнаружены бриллианты без оправы, мно-го табаку без
табакерок, железные пружины и колесики, восковые свечи без канделябров.
Спутники отца Брауна считают, что эти предметы невозможно никак системати-зировать.
В ответ отец Браун предлагает такую версию:
'Граф Гленгайл
помешался на французской револю-ции. Он был предан монархии и пытался
восстановить в своем доме быт последних Бурбонов. В восемнадца-том веке нюхали
табак, освещали комнаты свечами. Лю-довик Шестнадцатый любил мастерить
механизмы, бриллианты предназначались для ожерелья королевы'.
Изумленные
слушатели восклицают: неужели в этом и состоит Истина? В ответ отец Браун
предлагает со-вершенно иную версию:
'Гленгайл
нашел клад на своей земле, драгоценные камни. Колесиками он шлифовал их или
гранил, не знаю. Ему приходилось работать быстро, и он пригла-сил в подмогу
здешних пастухов. Табак - единствен-ная роскошь бедного шотландца, больше его
ничем не подкупишь. Подсвечники им были не нужны, они держали свечи в руках,
когда искали в переходах, под замком, нет ли там еще камней'.
Истинной
оказывается третья версия. Слуга Гленгайла, которому хозяин завещал все свое
золото, но ничего, кроме золота, будучи болезненно педантичным, забрал
121
золотые оправы от бриллиантов,
корпусы часов, канде-лябры и табакерки, но оставил нетронутыми сами брил-лианты,
механизмы часов, табак и свечи.
Варьировать в
зависимости от философских устано-вок эпохи могут и конкретные сюжеты. В
архаическом мифе об Эдипе, по реконструкции К. Леви-Строса, центральной
является идея 'автохтонности': человек рождается от одного или от двух (и
соответственно недо-оценка кровного родства присутствует наряду с его
переоценкой) [Леви-Строс 1983]?
В классическом ан-тичном 'Эдипе' центральной является идея предопреде-ленности
судьбы, которая настигает человека, хочет он того или нет. В 'Эдипе' XX века,
фрейдистском, ко-торый, по мнению Леви-Строса, является одним из вариантов мифа
и поэтому тоже должен быть включен в миф, главной является идея
неконтролируемости подсоз-нательных инстинктов. Таким образом, архаический Эдип
убивал отца и женился на матери, амбивалентно за-черкивая и заостряя идею
происхождения от двух людей; античный Эдип поступал так, стремясь преодолеть
рок; Эдип фрейдовский убивал отца как соперника и овладе-вал матерью как
партнером по детской сексуальности.
В заключение можно заметить, что поскольку худо-жественный мир строится
изоморфно реальному миру и часто между ними трудно провести резкую границу, то
модальная типология сюжета может быть применена и к реальной биографии
человека. Жизнь человека состоит из действий и высказываний, каждое из которых
осуще-ствляет одну из 4096 модальных конфигураций. Конеч-но, для построения
модальной типологии жизни необхо-дима гораздо более подробная градация
модальностей по силе и ценности. Вкусный обед, прогулка по морю, защита
диссертации, счастливый брак, присуждение Но-белевской премии - все это
аксиологические явления
122
различной степени позитивности.
Тем не менее даже при огрубленном подходе, применяя модальную типоло-гию, можно
видеть, каков механизм того, что две различ-ные жизни не похожи друг на друга.
Сравним биографии Л. Н. Толстого и Ф. М- Достоевского. Биография Досто-евского
в своих важнейших чертах строится по схеме D-=> Ax-, D+ => Ах+:
антиправительственная деятель-ность (D-) ведет к суровому наказанию (D+, Ах-),
прой-дя через которое человек приходит к некоему позитив-ному мировосприятию
(Ах+). В биографии Толстого конфигурация совершенно иная: (Ах => Ах-) =>
Ax, S-. Благополучная личная и творческая судьба в первой по-ловине жизни (Ах+)
парадоксальным образом приводит к переоценке ценностей и нравственному тупику
(Ах-), из которого удается окончательно выйти путем не толь-ко идеологического
разрыва, но и пространственного Ухода (S-, Ах+).
Особенностью творческого
поведения Достоевского было достаточно жесткое разграничение сфер деятель-ности:
личной, писательской и журналистской. У Тол-стого, которому в начале пути
приходилось быть од-новременно военным, помещиком, педагогом и писате-лем [Эйхенбаум 1926], все эти четыре типа
деятельности были проявлением чего-то единого. Оба автора жили так, как писали,
но у Достоевского писательство, будучи средством к существованию, не проникало
так сильно в биографию, как у Толстого, который в поздние годы оту-чал себя
писать так же, как потом отучался от курения:
как от вредной безнравственной
привычки. Достоевский оставлял свои произведения как неизбежные следы на песке
своей биографии. Толстой тщательно старался стереть следы своих произведений,
как стирают следы преступлений.
Одним
из фундаментальных свойств развитого есте-ственного языка является возможность
называть один объект различными именами и описывать его различны-ми
дескрипциями. Например, имя Иокаста может быть заменено выражениями 'мать
Эдипа', 'царица Фив' или 'жена Лая'. Все три десигнатора будут иметь одно
инвариантное значение, денотат, по терминологии Фреге [Фреге 1978], или экстенсионал [Карнап 1959].
В то же время в каждом из этих выражений есть нечто осо-бенное, то, посредством
чего значение реализуется в языке, - смысл, коннотат, или интенсионал.
Можно сказать,
что эта особенность естественного языка является лингвистической базой для
формирова-ния стиля, то есть возможности одно и то же называть или описывать
по-разному, возможности приписывать одному экстенсионалу в принципе бесконечное
множе-ство интенсионалов.
Вероятно,
наиболее полно этот принцип будет прояв-ляться в лирической поэзии (искусстве
слова), примени-тельно к которой можно сказать, что в ней любому объ-екту может
быть приписано любое имя или любая дескрипция. Данная особенность носит
семантико-прагматический, а не чисто семантический характер, так как она, по
всей видимости, прежде всего связана с неис-черпаемостью содержания основного
объекта прагмати-ки и одновременно лирики - человеческого Я (ср. также [Бенвенист
1974: 293-294]):
124
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я упование живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь, - я раб, - я червь, - я бог!
Ср. у Ахматовой
не менее известное описание неис-черпаемости предметной сферы лирической поэзии
как реализации принципа субъективности в его прагматиче-ской сфере:
ПРО СТИХИ
Это - выжимки бессонниц,
Это - свеч кривых нагар,
Это - сотен белых звонниц
Первый утренний удар...
Это - теплый подоконник
Под черниговской луной,
Это - пчелы, это - донник,
Это - пыль, и мрак, и зной.
В отличие от
поэзии проза является не искусством слова, а искусством предложения, искусством
выска-зывания. Как же реализуется данная особенность языка на пропозициональном
уровне? В двух словах можно сказать, что эта особенность реализуется в интенсио-нальных
контекстах пропозициональных установок, то есть в тех же фрегевских косвенных
контекстах, ко-торые мы рассматривали в первой главе. Для того что-бы было
ясно, о чем идет речь, вспомним пример из работы С. Крипке 'Загадка контекстов
мнения'. Некий француз, никогда не бывавший в Англии, разделяет расхожее
мнение, что Лондон - красивый город, ко-
125
торое он выражает при помощи
французского высказы-вания:
Londres est jolie.
Однако данный
герой отправляется в странствия, по-сле долгих перипетий попадает в Англию и
поселяется в одном из самых неприглядных районов Лондона. Он не отождествляет в
своем сознании этот город, в ко-тором он теперь живет по воле судьбы, с тем
городом, который он называл по-французски Londres и по поводу которого разделял
мнение, что Londres estjolie. Город, в котором он теперь живет, он называет
по-английски London и разделяет мнение (никогда не бывая в ис-торическом центре
города и все время проводя в своем грязном квартале), что -
London is not pretty. (Лондон - некрасивый город.)
Итак, в
'феноменотическом сознании' (выражение из статьи [Сааринен 1986: 131]) этого персонажа стало одним городом
больше. Эта особенность не обязатель-но проявляется в двух различных языках.
Вот пример из той же статьи, где речь идет об одном языке. Здесь некий Питер
может узнать имя 'Вишневский', обозна-чающее человека, носящего то же имя, что
и знамени-тый пианист. Очевидно, что, выучив это имя, Питер согласится с
утверждением: у Вишневского был музы-кальный талант, и мы, употребляя имя
'Вишневский' как обычно, для обозначения музыканта, можем выве-сти отсюда, что
Питер думает, что у Вишневского был
музыкальный талант.
126
'[...] Позже, в другом кругу
людей, Питер узнает, что был какой-то Вишневский, политический лидер. Питер
весьма скептически оценивает музыкальные способно-сти политических деятелей и
потому приходит к заклю-чению, что существует, вероятно, два человека, живу-щих
примерно в одно и то же время и носящих фами-лию 'Вишневский'. Употребляя слово
'Вишневский' для обозначения политического лидера, Питер соглаша-ется с тем,
что
У Вишневского не было музыкального
таланта' [Крипке 1986: 233].
Надо сказать, что тот факт, что внутри пропозици-ональных установок
возможно несоблюдение принци-па подстановки нескольких интенсионалов для одного
экстенсионала, был замечен и проанализирован еще Фреге, в частности в его
работе 'Мысль', в рассужде-ниях о 'докторе Густаве Лаубене' [Фреге 1987:
28-30]. Однако наиболее четко и терминологически перспективно
эту проблему охарактеризовал Куайн в работе 'Референция и модальность', назвав
подобные контексты 'референтно непрозрачными' [Куайн 1982].
Применительно к художественному
дискурсу выяв-ленная особенность языка дает следующий принцип:
референтная непрозрачность
индивидных термов в контекстах мнения пропозициональных установок приводит к
эффекту принятия одного индивида за другого, то есть к тому, на чем зиждется
эпистемичес-кий сюжет.
Рассмотрим следующие два высказывания, являю-щиеся
квазиметавысказываниями, описывающими сю-
127
жет 'Царя Эдипа', вернее, некоей
усредненной версии 'истории об Эдипе':
(1) Эдип знает, что он женился на Иокасте.
(2) Эдип
знает, что он женился на своей матери. (Ср. также анализ этих
высказываний в [Арутюнова 1988; Вендлер 1986].)
Первое
высказывание характеризует положение дел до развязки трагедии, и его смысл не
несет в себе ниче-го трагического. Второе высказывание характеризует по-ложение
дел после развязки и в свернутом виде со-держит сюжетное зерно трагедии.
Выражения 'Иокаста' и 'мать
Эдипа' имеют один и тот же экстенсионал, но разные интенсионалы. Соот-ветственно
высказывания (1) и (2) выражают одно и то же истинностное значение и как будто
описывают одно и то же положение дел. Схематически сюжет трагедии Эдипа можно
описать при помощи объективно проти-воречивой конъюнкции:
(3) Эдип знает, что он женился на Иокасте, и не знает, что он
женился на своей матери.
То есть не все семантико-прагматические вхождения имени Иокаста (и
прежде всего тот факт, что Иокаста является матерью Эдипа) были известны Эдипу.
С логической точки зрения все это произошло оттого, что выражения
'Иокаста' и 'мать Эдипа' употреблены в референтно непрозрачном контексте
пропозициональной установки 'Эдип знает, что'. То есть в феноменологиче-ском
сознании Эдипа Иокаста и мать Эдипа - это раз-
128
ные индивиды. Другими словами,
для Эдипа справедли-во, что:
(4) Эдип не знает, что Иокаста и его мать
- это одно лицо
или
(5) Эдип полагает, что Иокаста и мать
Эдипа - это разные лица.
В соответствии
с этим и можно утверждать, что воз-никновение эпистемического сюжета имеет
место вследствие возможности в референтно непрозрачных контекстах
пропозициональных установок приписы-вать одному и тому же суждению
противоположные значения истинности или, напротив, - возможности одно и то же
значение истинности приписывать раз-ным суждениям. Так, для Эдипа до развязки
трагедии суждения:
(6) Иокаста является женой Эдипа
(7) Иокаста является матерью Эдипа -
обладают
противоположными значениями истиннос-ти, то есть на вопрос 'Является ли Иокаста
женой Эдипа?' он должен отвечать утвердительно, а на вопрос 'Является ли
Иокаста матерью Эдипа?' - отрицательно. Обнаружение Эдипом истинности суж-дения
(7) путем установления тождества между име-нем Иокаста и дескрипцией 'мать
Эдипа' - на уров-
129
не экстенсионала - и составляет
пружину сюжета трагедии Эдипа.
Сама возможность
возникновения в языке референт-но непрозрачных контекстов (здесь мы переходим с
ло-гико-семантического уровня описания на лингвистичес-кий) обусловлена
наличием в нем не только главных предложений, но и придаточных, то есть
наличием раз-витой прагматики как возможности моделировать го-ворящим свою
речевую позицию, а также наличием со-ответствующих синтаксических ресурсов для
моде-лирования этой позиции. Ср.:
'[...]
В Языке-3 имеются все необходимые условия для того, чтобы в нем появились пропозициональные
установки. В самом деле, чтобы можно было сказать "Джон считает,
что..." (скажем, "Джон считает, что идет дождь"), нужно, чтобы
тот носитель языка, ко-торый это говорит, имел возможность выделить Джона как
объект наравне с объектом "дождь"' [Степанов 1985: 308].
Переходя вновь на язык модальной логики, можно сказать, что различие
между интенсионалами и экс-тенсионалом высказывания становится существен-ным,
актуальным для языкового сознания лишь тогда, когда язык приобретает
возможность выражать мне-ния оценки, нормы, истинность или ложность ко-торых
опосредована прагматически (или, в терминах Ю. С. Степанова, дектически), то
есть возможность выражать мнения, оценки и нормы, истинные или ва-лидные при
одном положении дел или направлении со-бытий (в одних возможных мирах) и ложные
или нева-лидные при другом положении дел, других направле-
130
ниях событий (в других возможных
мирах) [Хинтикка
1980b: 72-74].
Говоря
метафорически, возможность моделирования ошибки должна быть предоставлена
сюжету естествен-ным языком.
Рассмотрение
особенности семантики естественного языка обычно понимается как препятствие на
пути к построению языка науки (в частности, в программе ло-гического
позитивизма Венского кружка). Истина ограничена строгим числом фактов, в то время
как об-ласть фантазии, вранья, виртуальных объектов, 'инди-видных концептов'
практически безгранична.
Куайн писал по
этому поводу следующее:
'Трущобы возможных объектов - благодатная поч-ва для элементов,
склонных к беспорядку. Возьмем, к примеру, возможного толстого, человека
стоящего у той двери, или же возможного лысого человека, стоящего у той же
двери. Являются ли они одним возможным чело-веком, или это два возможных
человека? Как нам решить этот вопрос? Сколько же возможных человек стоит у
двери? И не больше ли там худых возможных людей, чем толстых? И сколько из них
похожи друг на друга? И не делает ли их это сходство одним челове-ком? Разве
нет двух возможных абсолютно одинаковых предметов? Но не то же ли это самое,
что сказать, что для двух возможных предметов невозможно быть оди-наковыми? Или
наконец дело просто в том, что понятие тождества неприменимо к недействительным
возмож-ным объектам? Но тогда какой смысл говорить о каких бы то ни было
сущностях, если о них нельзя сказать, тождественны ли они или отличаются друг
от друга' [Quine
1953: 4].
131
Но то, что является препятствием
или осознается в качестве препятствия в логике, становится необходи-мым в
беллетристике. Говоря так, мы подчеркиваем, что эпистемический сюжет
рассматривается нами как наиболее фундаментальный из всех выделенных нами типов
сюжета. Что же так выделяет эпистемический сюжет по сравнению с алетическим,
деонтическим, ак-сиологическим, темпоральным и пространственным? Прежде всего
наибольшая универсальность первого. Целые жанры нарративной прозы строятся на
эписте-мическом сюжете, не могут без него обойтись, исполь-зуя остальные виды
модальностей на второстепенных мотивных ролях. Такими жанрами являются прежде
всего комедия, детективный жанр, криминальный роман и т. п. В целом можно
отметить, что чем более массовым является беллетристический жанр, тем бо-лее
необходимой, неотъемлемой его частью является эпистемический сюжет, сюжет
ошибки, qui pro quo. Почему это так, можно попытаться выразить следую-щим
рассуждением. Основной единицей нарративной прозы является высказывание,
пропозициональной основой которого служит понятие истинности и лож-ности,
рассматриваемое в качестве денотата. В со-ответствии с тем представлением,
которое мы рас-смотрели в первой главе, нарративная проза чаще все-го лишает
свои пропозиции значений истинности, но только для того, чтобы освободить
эпистемическое пространство для интенсиональной игры в истинность и ложность.
'Изображенные', вторичные пропозиции в каком-то смысле остаются пропозициями.
Они явля-ются отображением языка и тем самым -своей языко-вой сути, которая в
экстенсиональном смысле была у них отнята беллетристическим жанром. Но поиск ис-тины,
загадка, ошибка, розыгрыш, обман, надуватель-
132
ство, хитрость, просто
откровенная ложь - все это возможно лишь на языке пропозиций. Поэтому наибо-лее
фундаментальный интерес рядового 'пользовате-ля' беллетристики - это интерес
эпистемический, а не деонтический, не аксиологический, не алетический, не
темпоральный и не пространственный. Для читате-ля прежде всего важно, что будет
дальше. Деонтичес-кие и аксиологические мотивы (хорошо ли поступил герой или
дурно? можно ли нарушать норму, или это исключено?) выступают в
беллетристическом дис-курсе лишь как мотивная аранжировка. То же самое можно
сказать и о пространстве и времени. Простран-ство, как мы показали выше, просто
является слугой эпистемического сюжета, а время - слугой алетичес-кого сюжета
научно-фантастического типа.
Говоря метафорически, когда
пользователь массовой литературы читает, что герой переходит улицу на крас-ный
свет, то здесь важнее не деонтический признак, а эпистемический: 'Он нарушил
запрет, что же из этого последует? Задавят его или не задавят? Накажут или не
накажут?'
Если переформулировать сказанное
в терминах первого раздела, то можно сказать, что потребность в переработке
нарративной информации, которая заклю-чается в исчерпании, так сказать,
'интенсиональной энтропии', прежде всего удовлетворяет именно эпи-стемический
сюжет.
Чем выше художественный жанр, тем
большую роль в нем начинают играть деонтика и аксиология. В коме-дии наказание
зла и торжество добра является профанированием подлинных аксиологических
ценностей, ибо происходит это автоматически в силу жанровых за-конов. Тот факт,
что в романе или в трагедии может по-бедить зло, высвобождает эти категории,
делает их но-
133
сителями свободного нарративного
выбора и тем самым поднимает их рейтинг в сюжете.
Разграничение выражений, имеющих разные интенсионалы, но один
экстенсионал, в контексте содержания пропозициональных установок покоится на
принципе взаимозаменяемости тождественных: 'Если дано ис-тинное утверждение
тождества, то один из его членов может быть заменен на другой в любом истинном
пред-ложении, и результат тоже будет иметь значение исти-ны' [Куайн 1982:
87].
Естественно,
что для того, чтобы было возможно осуществить ошибку в данной конструкции,
необходи-мо, чтобы сама эта конструкция была возможна в языке. Ясно, что в
реальных языках подобные конструкции были возможны отнюдь не всегда. Так, Ю. С.
Степанов в книге 'Индоевропейское предложение' отмечает, что тип предложения
'Активный субъект + глагол + актив-ный объект' ('Охотник убил оленя'), то есть
именно тот тип нропозициональности (номинативно-аккузативный), который
необходим, чтобы смоделировать пропо-зициональную установку -
А. считает, что охотник Б. убил оленя - был
в индоевропейском праязыке не распространен:
'Активный актант в позиции объекта оформляется в этих языках
принципиально иным способом [...]. Таким образом, как это ни парадоксально,
оказывается, что предложение типа IV "Человек, воин убивает врага" не
могло существовать на "этапе Уленбека" и заведомо не могло
существовать на более ранних этапах протоиндо-европейского языка, если это
этапы языка активного
134
строя, как они обоснованно реконструируются
в работе Т. В. Гамкрилидзе и В. В. Иванова' [Степанов 1989: 48].
Ср. там же:
'Итак,
напрашивается вывод, что преобразование языка активного строя, где отсутствуют
предложения типа IV "Воин убивает врага" с морфологическим
оформлением активного объекта и соответствующего предиката-глагола, в язык
номинативно-аккузативного строя, где такие предложения типичны, было сопряже-но
с определенными трудностями' [Там же: 55].
Представляется
очевидным, что в древнем архаичес-ком мышлении невозможна конструкция с чистым
аккузативным объектом, который только в такой позиции можно 'спутать' с другим
объектом, так как язык перво-бытных людей был устроен принципиально по-другому.
Современному номинативному (номинативно-аккузативному) строю предшествовало по
меньшей мере пять пропозиционально-семантических типов, где в каждом
последующем имя все более абстрагировалось от глаго-ла: инкорпорирующий,
прономинальный, посессивный, эргативный, локативный [Мещанинов 1975: Лосев 1982а, 1982b].
'В
инкорпорирующем строе предложение строится путем простого комбинирования разных
основ или корней без всякого их морфологического оформления, путем простого
нанизывания, в результате чего и образующиеся из них предложения в то же самое
время являются не чем иным, как одним словом.
Так, например, в колымском
диалекте одульского (юкагирского) языка мы имеем такую фразу asayuol-soromoh,
где asa означает "олень", yuol "видение" и soro-
135
moh "человек". Другими
словами, это есть "олень-виде-ние-человек", что в переводе на русский
язык означает "человек увидел оленя"' [Лосев 1982а: 251].
'Отсутствие
морфологии в инкорпорированном грамматическом строе свидетельствует о том, что
ин-корпорированное мышление оперирует исключительно только с бесформенными,
расплывчатыми, неанали-зируемыми чувственными пятнами.
[...]
Отсутствие частей речи в языке соответствует отсутствию логических категорий в
мышлении, а отсут-ствие логических категорий в мышлении есть отсутст-вие для
такого мышления и в самой действительности подобного же рода противопоставления
вещей и их свойств, качественных и количественных, их действий и др.
[...]
Эта идеология
и эта логика есть мифология' [Лосев 1982а: 254, 258-259].
Естественно, что в мифологическом мире нет места феномену
художественного мышления, так же как в та-ком языке не может быть конструкции с
пропозицио-нальными установками. По мере продвижения к более абстрактным
конструкциям и более абстрактному мыш-лению в предложении выделяются косвенные
падежи. Но косвенный падеж мыслит субъект только в его связи с другими
субъектами, и лишь номинатив дает чистый абстрактный субъект, тождественный
себе самому и классу таких же субъектов.
Соответственно
наррация и сюжет возникают при распаде архаического сознания, где предмет не
равен самому себе и сопричастен другим предметам [Леви-Брюль 1994], при переходе от мифа к эпосу, от
ритуала к трагедии и комедии [Фрейденберг 1936, 1973b, 1978].
136
Формированию современного типа
предложения со-ответствовало и развертывание циклического мифоло-гического
времени, размыкание мифологического круга, возникновение феномена исторического
времени и феномена события, на основе которого может строиться сюжет.
'Наиболее очевидным результатом
линейного раз-вертывания циклических текстов было появление
персонажей-двойников. От Менандра, александрийской драмы, Плавта до Сервантеса,
Шекспира и - через романтиков. Гоголя, Достоевского - до романов XX ве-ка
проходит тенденция снабдить героя спутником-двой-ником, а иногда и целым
пучком-парадигмой спутников. То, что в этих случаях перед нами развертывание
едино-го персонажа, можно продемонстрировать на примере схемы комедий Шекспира.
В 'Комедии ошибок':
|
герои
|
Антифокл_____________
|
Антифокл
|
|
|
Эфесский
|
Сиракузский
|
|
слуги
|
Дромио______________
|
Дромио
|
|
|
Эфесский
|
Сиракузский
|
Поскольку
оба Антифокла и оба Дромио близнецы, а слуги и господа переживают два варианта
единого сю-жетного развития, очевидно, что перед нами распадение единого
образа, одноименные герои представляют со-бой результат распадения единого
образа по оси синтаг-матики, а разноименные - по парадигматической оси. При
обратном переводе в циклическую систему эти образы должны 'свернуться' в одно
лицо [...]. Появле-ние персонажей-двойников - результат дробления ми-фологического
образа, в ходе чего различные имена
137
Единого становились разными
лицами - создавался сюжетный язык, средствами которого можно было рас-сказывать
о человеческих событиях и осмыслять чело-веческие поступки' [Лотман-Минц
1981: 40-41].
Но означает ли
все это, что для того, чтобы убить своего отца и жениться на своей матери, Эдип
нуждал-ся в пропозициональных установках и номинативно-аккузативном строе? Да,
в той мере, в какой это было необходимо для того, чтобы стать предметом
трагедии. Если бы Софокл писал свою трагедию на одульском или гиляцком языке,
то вместо предложения 'Эдип убил своего отца и женился на своей матери' схемой
'сюжета' было бы нечто вроде 'эдипо-отце-убивание-матери-женение', где,
во-первых, не ясно, кто кого убивает и кто на ком женится, и, во-вторых,
невозмож-на постановка эпистемического оператора 'думает', 'полагает',
'считает'.
Другой вопрос, как воспринимают
такие тексты но-сители современных инкорпорирующих языков, то есть каким
образом трагедию Эдипа можно перевести на одульский или гиляцкий языки.
Возможно, что носите-ли этих языков воспримут соответствующие тексты со-вершенно
по-своему. А. Р. Лурия, вспоминая о своих по-левых исследованиях, рассказывает,
как одному старику (крестьянину Рахмату) предложили такой вопрос: 'Вот
различные вещи: рубанок, клещи, молоток, гвозди, пи-ла и мальчик. Что здесь
лишнее?' Старик ответил, что здесь ничего лишнего, все это нужные вещи. 'А как
же мальчик?' - спросили его исследователи. 'Мальчик тоже нужен, - ответил
старик. - Он будет помогать приносить инструменты' [Лурия 1982: 132].
Возвращаясь к Эдипу, можно сказать,
что в свете современных реконструкций первобытного мышления
138
совершенно не очевидно, что факт
убийства отца и же-нитьбы на матери должен был восприниматься как не-что
ужасное. Кажется, что, напротив, осознание прес-тупности или греховности этих
поступков - продукт позднейшего неархаического понимания реальности.
Убийство отца и тем более
отца-царя, как показал еще Дж. Фрэзер, - вещь вполне закономерная в перво-бытном
обществе [Фрэзер
1980]. В. Я. Пропп прямо связывает сюжет об Эдипе и сходные
сюжеты с риту-альным убийством царя [Пропп 1976с],
а также с вол-шебной сказкой, восходящей к обряду инициации [Пропп 1986].
Сюжет боя отца с сыном - один из
распространен-ных в фольклоре. По-видимому, убийство ближайшего родственника
могло осознаваться не как нечто ужас-ное, а наоборот, как нечто закономерное
вследствие то-го, что понимание личности, ее субъективности и ис-ключительности
не было развито в архаическом созна-нии, так же как не было в нем, по-видимому,
понимания смерти как чего-то трагического, невосполнимого, не-обратимого.
Молодой царь убивал старого царя подоб-но тому, как мы обламываем отсохшие
ветви у дерева. Характерно, что на Сардинии было принято громко смеяться при
ритуальном убийстве стариков, откуда по-шло выражение 'сардонический смех' [Пропп 1976а].
То же самое можно сказать и в
отношении архаичес-кого понимания убийства сына отцом. Книга Бытия опи-сывает
жертвоприношение Авраама во многом постархаически, драматизируя этот поступок,
в то время как жертва первого сына, по определению принадлежащего Богу, была
делом совершенно закономерным и позитив-ным [Пропп 1986; Элиаде 1987].
Вообще жертва всегда связана с насилием, которое оценивается позитивно [Топоров 1988].
139
Примерно то же самое можно
сказать и о сексуаль-ной связи Эдипа с матерью. Запрет на инцест- безус-ловно
достаточно позднее явление. В архаическом ко-смогоническом мифотворчестве
инцест был вообще необходимой предпосылкой для возникновения чело-вечества, так
как первые люди естественным образом (поскольку, кроме них, никого не было)
вступали в инцестуальные связи [Левинтон 1982].
Кроме того, как показал С. С.
Аверинцев в специаль-ном исследовании об Эдипе, кровосмешение героя с ма-терью
в архаическом мышлении истолковывалось пози-тивно как овладение
матерью-родиной, то есть как суб-ституция царской власти, что мы наблюдаем в
трагедии Софокла. По свидетельству Светония, Цезарю накануне нереализованного
переворота приснилось, что он наси-лует свою мать, и это было истолковано как
доброе предзнаменование [Аверинцев 1972].
Фундаментальная
противоположность между нарра-тивно-художественным и ритуально-мифологическим
мышлением состоит в том, что в последнем модальный оператор не только не
изменяется на противополож-ный, а наоборот, утверждается до последней степени:
делается только то, что должно;
говорится только то, что известно; отдается предпочтение только тому, что
является благом.
Архаическое мышление
ориентировано на норму и на позитивность, аномальное и негативное не входит в
кол-лективную память. В нарративном мышлении, напротив, имеет место
направленность на аномалию, на эксцесс. То, что нормально и позитивно, и так
все знают, поэтому об этом нечего и рассказывать.
Если в волшебной сказке герой,
уходя из дома в лес, нарушает запрет, то в соответствующем моменте обряда то же
действие - уход из дома в священный лес - яв-
140
ляется,
наоборот, выполнением предписания, диктуемо-го обрядом.
Если в 'Махабхарате' изгнание Пандавов во главе с царем Юдхиштхирой
является результатом невезения (проигрыша в кости), то в соответствующем
ритуале оно является фактом инициального испытания, которое дол-жен пройти царь
для того, чтобы в дальнейшем полу-чить трон [Невелева, 1988].
Если в трагедии Софокла ослепление Эдипа оцени-валось как наказание за
совершенное преступление, то ритуальное толкование этого мотива является
опять-та-ки позитивным: разочаровавшись в оче-видном зрении, Эдип выкалывает
себе глаза, чтобы погрузиться во внутреннее зрение, подобно Тиресию, знавшему
истину с самого начала, несмотря на свою слепоту [Голосовкер 1987]. Ср.
легенду о Демокрите, который ослепил себя для того, чтобы лучше видеть [Аверинцев
1972].
Толкуя миф об Эдипе, Леви-Строс обращает внимание на этимологию имени
Эдипа ('толстоногий') и Лая ('левша'): в обоих случаях имеет место
затрудненность владения конечностями. Леви-Строс связывает это с проблемой
автохтонности: рождаясь из земли, Эдип повреждает одну из конечностей [Леви-Строс
1983], что, с одной
стороны, парадоксальным образом прелом-ляет мотив кровосмешения: выходит, что
никакого кровосмешения не могло быть, так как идея рождения от двух людей чужда
архаическому сознанию [Пропп 1976с],
и, с другой стороны, подключает еще алетичес-кий мотив чудесного рождения. В
ритуально-мифологи-ческом мире бог или герой с необходимостью должен был
родиться не от двух людей, а каким бы то ни было иным образом: так, Кухулин
рождается от того, что его мать выпила воду с насекомым, Афина - из головы Зев-са,
Чингисхан - от наговора [Пропп 1976с].
141
То, что мы
воспринимаем как систему модальностей, в архаическом сознании скорее всего
представляло со-бой одну супермодальность. Эпистемическое, аксиоло-гическое,
деонтическое, алетическое, пространственное и временное начала сливались в
одно: то, что известно, то и хорошо, то и должно, то и необходимо, и находит-ся
здесь и в прошлом (откуда черпается предание); то, что неведомо, - то дурно,
запретно, невозможно, нахо-дится 'там' и поэтому не существует вовсе (как не су-ществует
линейного будущего в архаическом сознании). Возникновение сюжета связано с
распадом этого мо-дального синкретизма, что становится возможным с по-явлением
абстрактного номинативно-аккузативного предложения, где четко
противопоставляются субъект и объект, знак и денотат, текст и реальность.
Вряд ли имеет
смысл доказывать, что именно собы-тие есть то, о чем сообщают нарративные
дискурсы, что событие есть центральное содержание сюжета.
Ниже мы
рассмотрим категорию события в свете критики противопоставления фабулы сюжету.
Соответ-ственно наше понимание события будет отличаться от тех его пониманий,
которые приняты в современной ло-гико-лингвистической традиции [Арутюнова
1988; Ни-колаева 1980; Davidson 1967; Hacker 1982; Reichenbach 1948].
Мы будем
считать, что произошло событие, если вы-полняются три условия:
(1) это происходит с кем-то, кто обязательно должен обладать
антропоморфным сознанием (когда событие происходит с Каштанкой или Холстомером,
то они на-деляются способностью к анализу, оценке и описа-нию);
(2) для того чтобы происходящее могло стать собы-тием, оно должно стать
для личности - носителя со-знания чем-то из ряда вон выходящим, более или менее
значительно меняющим его поведение в масштабе ли-бо всей жизни, либо какой-то
ее части. Событие всегда окрашено модально, то есть изменяет отношение со-знания
к миру. Если событие непосредственно затраги-
143
вает сферу ценностей, то плохое
состояние сознания оно должно превратить в хорошее или наоборот. Собы-тие
меняет модальный оператор у высказывания, ко-торое описывало положение дел в
мире до того, как оно произошло. Событие влечет за собой другие события, так
что если модальный оператор вначале сменился с негативного на позитивный, он
может вновь смениться на негативный вместе со следующим событием;
(3) событие только тогда может стать событием, ког-да оно описано как
событие. Если человека убило мол-нией в лесу, а потом лес сгорел и этого
человека никто не хватился, то никакого события не произошло. В сущ-ности
событие - это в значительной степени то же са-мое, что и рассказ о событии, не
имеющий ничего об-щего с физическим действием. В рассказе 'После бала'
слушатели узнают от Ивана Васильевича, что однажды с ним произошло событие,
резко изменившее его жизнь:
то, как он после бала наблюдал за
наказанием солдат. Что именно было событие - то, что наказывали солдат, то, что
герой наблюдал за этим, или то, что он рассказал это слушателям?
Пока он не
рассказал того, что с ним произошло, об этом мог так никто и не узнать, и о его
душевном перевороте наблюдали бы только извне. Событие остава-лось бы
внутренним душевным событием Ивана Василь-евича, не выведенным из его 'личного
языка' (private language - термин Л. Витгенштейна [Витгенштейн 1994]) в нормальную языковую игру с
окружающими. Только описание придает событию цельность, закончен-ность и
определенность. Ведь для полковника, команду-ющего экзекуцией, никакого события
не происходит, происходящее располагается для него в ряду повседнев-ной жизни,
так же как и бал.
144
Для события, понимаемого таким
образом, последо-вательность физических процессов в необратимом ли-нейном
времени может не играть роли, так как физиче-ские процессы могут протекать
своим чередом, а собы-тие может произойти для одного человека и не произойти
для другого (и то же самое физическое дей-ствие может стать событием, но совсем
другим, для третьего человека).
Начиная с 20-х годов XX века в теории литературы господствует доктрина
о разграничении сюжета и фабу-лы, где фабула - это 'правильная'
последовательность событий, как они протекают в физическом мире, а сю-жет - эта
та искусственная последовательность собы-тий, в которой располагает их автор
для художествен-ных целей и которая может не совпадать с правильной
хронологической последовательностью.
'Если взять
житейское событие в его хронологичес-кой последовательности, мы можем условно
обозначить его развертывание в виде прямой линии, где каждый по-следующий
момент сменяет предыдущий и в свою очередь сменяется дальнейшим.
[...] для чего художник, не довольствуясь простой хронологической
последовательностью событий, отсту-пает от прямолинейного развертывания
рассказа и пред-почитает описывать кривую линию, вместо того чтобы продвигаться
по крайчайшему расстоянию между двумя точками вперед.
[...] события в рассказе развиваются не по прямой линии, как это имело
бы место в житейском случае, а развертываются скачками. Рассказ прыгает то
назад, то
145
вперед, соединяя и сопоставляя
самые отдаленные точ-ки повествования, переходя часто от одной точки к другой,
совершенно неожиданной' [Выготский 1965:
194,
195, 199] (ср. также
[Петровский
1979; Томашевский 7927]).
Исходя
из сказанного, мы будем стремиться показать, что разграничение сюжета и фабулы
ошибочно в том смысле, что понятию фабулы ничто не соответствует ни в
реальности, ни в языке, описывающем реальность, что 'простой хронологической
последовательности собы-тий' просто не существует, хотя, может быть, имеет
смысл говорит о том, что существует хронологическая последовательность
физических необратимых (термо-динамических) процессов, но, вероятно, и она
вовсе не такая простая (ср. [Пригожин-Стенгерс 1994]).
Начнем с того,
что далеко не каждый сюжет может быть сведен к фабуле в смысле формалистов и
Выгот-ского.
Рассмотрим
сюжет новеллы Акутагавы 'В чаще'. В лесу находят мертвое тело самурая.
Подозрение падает на разбойника. Разбойник признается в убийстве и рас-сказывает
на следствии следующее. Привлеченный красотой жены самурая, он заманил обоих в
чащу, привя-зал самурая к дереву и овладел женой самурая на его гла-зах. После
этого он предложил женщине уйти с ним, на что та ответила, что один из мужчин
должен умереть. Разбойник отвязал самурая и в честном поединке убил его, а
женщина тем временем убежала.
Затем следует
исповедь вдовы самурая. По ее сло-вам, после того как разбойник овладел ею, он
убежал. Женщина поймала на себе презрительный взгляд мужа, и тогда она решила, что
они оба должны умереть. Она закалывает мужа с намерением после этого заколоть
146
себя, но падает в обморок, а
придя в себя, пугается и убегает.
Последнюю версию мы слышим из уст
духа умершего самурая. После того как разбойник овладел женщиной и стал уговаривать
ее уйти с ним, она пой-мала на себе презрительный взгляд мужа и сказала раз-бойнику:
'Убейте его'. При виде такой вероломности разбойник ударил женщину ногой,
освободил самурая, женщина тем временем убежала, а самурай покончил с собой.
Ясно, что этот сюжет нельзя
свести к фабуле. Со-бытие, которое здесь описывается, - это, безусловно, одно и
то же событие - насильственная смерть са-мурая, - где выполнены все три
условия, а именно:
что это произошло с кем-то
антропоморфным, что оно имеет ярко выраженный модальный характер и что оно
описано, и притом не один раз. Но при этом в за-висимости от условия (3), т. е.
от того, кем и в каком контексте оно рассказано, меняется условие (2) - мо-дальность.
При этом ясно, что автор не хочет
сказать, что одно описание противоречит другому, напротив, смысл но-веллы
состоит в том, что все три свидетельства скорее всего являются истинными:
разбойник действительно убил самурая на поединке, жена действительно заколо-ла
самурая кинжалом, и самурай действительно покон-чил с собой. Во всяком случае,
сюжет рассказа Акутага-вы нельзя свести к 'простой хронологической последо-вательности':
Вначале
разбойник заманил супругов в чащу и изна-силовал жену, потом происходило
неизвестно что, по-том разбойника поймали, на исповеди он рассказал, как он
изнасиловал жену и т. д.
147
Выражение 'неизвестно что' лежит
совершенно в другой плоскости, чем выражение 'изнасиловал жену'. Идея фабулы
состоит в том, что все в принципе известно с самого начала. И при описании
фабулы нельзя ссылать-ся на то, что рассказывали вдова или дух самурая, так как
фабула фиксирует только то, что происходило на самом деле, а не то, что об этом
рассказывали. Но то, что про-исходило в чаще, нельзя свести к одной версии,
которую можно было бы уложить в линейную последователь-ность времени, а
оставаясь в пределах обычной логики, нельзя представить себе, как самурай
одновременно по-гибает на поединке с разбойником, жена закалывает его кинжалом
и он тем же кинжалом закалывает себя сам.
При этом нельзя сказать, чтобы
сюжет новеллы Акутагавы был чем-то исключительным. Скорее он является
заострением той философии события, которую отражает искусство XX века.
Рассмотрим рассказ Борхеса 'Три
версии предатель-ства Иуды'. По первой версии, Иуда предал Иисуса 'да-бы
вынудить его объявить о своей божественности и разжечь восстание против Рима'.
В соответствии со второй - предательство Иуды было актом радикальной духовной
аскезы; в соответствии с третьей, вытекаю-щей из второй, Иуда и был воплощением
Бога, пожелав-шего воплотиться в наиболее низком человеческом об-личье, и тогда
предательство Иуды-мессии было актом вуалирования тайны истинного спасителя.
Здесь акцент делается не на третьем условии события (описании), так как по всем
трем версиям человек по имени Иуда предал человека по имени Иисус, а на втором
(модаль-ности). В первом случае это стремление к дезавуированию, во втором - к
взятию на себя наибольшего воз-можного греха, в третьем - наоборот, к
вуалированию истинного положения вещей. Правда, во всех трех слу-
148
чаях Иуда у Борхеса бескорыстен,
что полемически (ересиологически) заострено по отношению к канони-ческой версии
этого события.
Ясно, что и
здесь простой последовательности собы-тий нет места. Ведь слова 'Иуда предал
Иисуса' сами по себе не имеют значения, когда они рассматриваются изолированно
от контекста их употребления. И выраже-ние 'Предатель Иуда предал Спасителя
Иисуса' в онто-логии Борхеса не является фабулой, так как оно не опи-сывает
инвариантного положения вещей, о которых идет речь.
Но в этих
случаях можно возразить, что и рассказ Акутагавы, и рассказ Борхеса весьма
необычны, акцентуированны в своей внутренней логике и онтологии.
Рассмотрим
поэтому пример с более простым и впол-не житейским сюжетом - фильм К. Шаброля
'Су-пружеская жизнь'. Здесь изображается жизнь молодых супругов, но в первой
части - глазами мужа, а во второй - глазами жены. События описываются как буд-то
одни и те же, но их понимание мужем и женой на-столько различно, что
получается, что это совсем разные события. В интерпретации мужа жена -
непоследова-тельная, ленивая, легкомысленная и истеричная особа. На приеме, в
провинции, где служит герой, она, напив-шись, устраивает скандал, стреляет из
ружья, в результа-те чего героя увольняют и он должен уехать из города. В
интерпретации жены герой является слабым, инертным и ничтожным человеком,
которого она всеми силами стремится продвигать по службе. Стрельбу же она
устроила специально для того, чтобы вынудить мужа ос-тавить провинциальный
город и ехать в Париж, от чего он по инертности отказывался.
Эти две
интерпретации несводимы к одной последо-вательности событий. Ведь фабула - не
перечисление
149
физических действий, таких, как
выстрел из ружья, но 'простая хронологическая последовательность собы-тий',
поэтому даже фабула призвана отражать связь между событиями. Но в интерпретации
мужа эта связь причинно-следственная (жена потому устроила скан-дал, что
напилась), в интерпретации жены она телеоло-гическая (она для того устроила
скандал, чтобы спрово-цировать мужа уехать в Париж). Чтобы описать собы-тие,
недостаточно указать на то, что жена стреляла из ружья на приеме, необходимо
понять, какое это имело значение. В противном случае мы описываем не собы-тия,
а физические процессы, которые не имеют отноше-ния к жизни человеческого
сознания. Если мы знаем обе интерпретации события и не знаем точно, какое из
них истинное, мы должны включить обе интерпретации в описание события.
Событие,
понимаемое таким образом, подразумевает принципиальную неодномерность времени,
в котором оно происходит. В духе теории Дж. У. Данна можно ска-зать по крайней
мере, что есть время того, кто наблюда-ет, и время того, за кем наблюдают. Для
наблюдающего наблюдаемое время пространственноподобно, он может передвигаться
по нему и в прошлое, и в будущее. (См. наш анализ новеллы Борхеса 'Другой' в
первом разде-ле). Здесь одно и то же событие - встреча молодого и старого
Борхеса - происходит дважды из-за наличия замкнутой причинной цепи (если
рассматривать это со-бытие в одномерном времени). Никакой простой после-довательности
событий тут нельзя построить в принци-пе, так как понятие фабулы не
предполагает замкнутых причинных цепей или многомерного времени.
Но даже если
многомерное время или замкнутые причинные цепи эксплицитно не формулируются, то
в определенных случаях несводимость к фабуле настоль-
150
ко сильна психологически, что
этого оказывается доста-точно, чтобы увидеть ее неадекватность. Так обстоит
дело в 'Звуке и ярости' Фолкнера, реконструкция фабу-лы которого занимает целое
исследование (проведенное Э. Уолпи), но выглядит крайне невзрачно, совершенно
не отражая и сотой доли того, что заложено в сюжете. Как остроумно заметил
Сартр, 'когда читатель поддает-ся искушению восстановить для себя хронологию
собы-тий (У Джейсона и Кэролайн Компсон было трое сыно-вей и дочь. Дочь Кэдди
сошлась с Долтоном Эймсом, за-беременела от него и была срочно вынуждена искать
мужа...), он немедленно замечает, что рассказывает со-вершенно другую историю' [Фолкнер 1985:
584-585].
Но важнее
показать, что и в классической литературе XIX века в плане выделения фабулы
имеются значитель-ные трудности. Например, в 'Войне и мире' Л. Н. Тол-стого
часто бывает так, что вначале описывается одно событие, а после него другое,
происходившее в то же са-мое время,что и первое.
'В то время как
у Ростовых танцевали в зале шестой англез
под звуки от усталости фальшививших музыкан-тов и усталые официанты и повара
готовили ужин, с графом Безуховым сделался шестой удар'.
Здесь никак
нельзя выстроить простой хронологиче-ской последовательности событий, так как в
виде по-следовательности описывается то, что происходило од-новременно и что,
стало быть, последовательно описать нельзя.
Конечно, можно сделать схему
сюжета нелинейной, то есть нарисовать несколько ответвлений по количест-ву
одновременно протекающих мировых линий описы-ваемых событий, и тогда придется
признать, что в рома-
151
не много фабул, но в этом случае
остается непонятным, что взять за основу - персонажа или пространство, где он
находится, так как персонажу свойственно перехо-дить из одного пространства в
другое, из одной фабулы в другую. Пьер Безухов с бала едет к умирающему отцу и
становится частью совершающегося события. Проти-воречия не возникнет, если
соблюдать условия (1)-(3). Если человек приходит домой с бала и узнает о смерти
отца, то для него, конечно, важно, что отец умер в то время, когда он танцевал
мазурку, но реально событие смерти отца произойдет для него лишь в тот момент,
когда он узнает об этом событии, так как именно в этот момент выполнились все
три условия: что это событие смерти отца произошло с ним, с сыном, что оно для
не-го имеет какое-то значение (другой вопрос - какое именно) и что ему кто-то
сказал об этом. Но когда он танцевал на балу, для него отец еще был жив.
Поэтому нельзя сказать, что для него событие бала и событие смерти отца
произошли одновременно.
По-видимому, вообще нельзя
сказать, что два события произошли одновременно, так как для этого нужно было
бы, чтобы одно сознание в один и тот же момент наблю-дало за двумя процессами
или действиями, одновремен-но давало бы им определенную оценку и одновременно
их описывало. Это невозможно, поэтому одновремен-ность событий такая же фикция,
как и хронологическая их последовательность.
События случаются в том порядке,
в котором они опи-сываются, воспринимаются и оцениваются. Таким образом, бал и
умирание Безухова происходили не од-новременно, а так, как они описываются в
'Войне и мире', то есть сначала бал, а потом умирание старика Безухова.
Одновременно могли происходить физичес-кие действия, соответствующие балу и
умиранию (но и
152
в физике одновременными считаются
только те факты, которые принципиально не могут быть связаны ин-формационно -
так называемая относительность од-новременности, доказанная в теореме Робба [Рейхенбах 1962:
62]).
Проблема
события связана как с одновременностью и неоднородностью времени, так и с
недостоверностью и неполнотой знания. Знание о любом событии непол-но, т. к.
одно и то же событие может иметь разные, вплоть до противоположных, значения в
зависимости от того, кем воспринимается это событие. Убийство по-разному
воспринимается убийцей, сообщниками, родственника-ми жертвы, прокурором и
защитником. Если бы знание о событии было полным, то это не было бы событием и
не было бы знанием. Человеческое знание предполагает принципиальную неполноту знания.
Только Бог знает всю правду, да не скоро скажет. Как и в романе Фолк-нера, в
Евангелиях четыре раза рассказывается почти одно и то же. Достаточно странно
(если исходить из то-го, что исходным и наиболее простым должно быть
прямолинейное фабульное изложение событий), что ка-нонизированы были все четыре
Евангелия, а не сведены к единому, и в то же время какие-то другие были от-вергнуты.
Можно ли свести жизнь Иисуса Христа к единой фабульной биографии? Когда Л. Н.
Толстой по-пытался это сделать, его отлучили от церкви. Вероятно, наличие
нескольких свидетелей важнее для христиан-ской традиции, чем единый
деперсонализированный взгляд на вещи. Видимо, представление о том, что со-бытие
становится событием, когда о нем имеются сви-детельства (пусть даже одно
несколько противоречит другому), и что их не надо нивелировать, а, наоборот,
следует подчеркнуть, придумано гораздо раньше Фолк-нера и Джойса. Мелкие
несоответствия в деталях
153
(например, некоторые расхождения
в описании истории отречения Петра у синоптиков и Иоанна: сколько раз пропел
петух; раб или рабыня задавали Петру сакраментальные вопросы) должны придавать
рассказу большую достоверность, так как ясно, что каждый че-ловек может
ошибиться в деталях. На фоне несовпаде-ния деталей еще более явственно видится
главное. (Борхес на закате христианства показал, что возможны несовпадения и в
главном.)
Фабульное мышление предполагает,
что существует порядок событий, подобный натуральному ряду чисел:
1, 2, 3, 4, .... - начиная с
рождения человека и кончая его смертью. Но ни рождение, ни смерть не являются
событиями в жизни того, кто рождается и умирает. О своем рождении ребенок
узнает достаточно поздно и чаще всего не верит, что было время, когда он не
суще-ствовал. Представление о том, что биография - это прямая линия, на которую
нанизаны факты: рождение, крещение, учеба, служба, женитьба и т. д., - такой же
частный случай (а не общее правило), как геометрия Ев-клида и физика Ньютона по
отношению к геометрии Римана и к физике Эйнштейна.
Человек живет и воспринимает свою
жизнь с помо-щью памяти, чувственных данных и ожидания. Но па-мять может
обмануть, ожидания - не сбыться, а чувст-венные данные тоже часто подводят.
Человек современного нам
мышления, если его попросят, действительно склонен написать биографию, начиная
с рождения, учения, армии и т. д. Но это только служебная биография. Биография
цезарей в книге Светония строится по другому принципу. Рождение и смерть там
служат только рамкой, внутри же она строится по си-стемно-этическому принципу,
то есть все типы пристрас-тий, добродетелей и пороков тщательно рубрицируются
154
для того, чтобы легче было
сравнить одного императора с другим [Гаспаров 1991: 351].
Представить
себе, чтобы в служебной анкете после сообщения о рождении, учебе и т. д. была
графа 'Ос-новные добродетели' и 'Основные пороки', очень трудно не потому, что
это противоестественно и неуме-стно, а лишь потому, что так не принято.
В архаическом
сознании идея биографии, видимо, вообще не могла возникнуть, так как в нем нет
места из ряда вон выходящему. Порядок ритуальной жизни, с од-ной стороны,
строго фиксирован, но в нашем смысле он не подлежит описанию. Высказывание 'А
потом он прошел обряд инициации' звучит более чем нелепо в устах представителей
той культуры, где проходят обряд инициации. Поэтому обряд инициации не является
со-бытием. Он не фиксируется описанием и модально не конвертируется, не
подлежит свободной этической оценке (то есть не соблюдаются условия 2 и 3).
Харак-терно, что в волшебных сказках Проппа невозможно разделение сюжета и фабулы,
потому что в них нет опи-сания события в том смысле, в котором оно есть в ли-тературе;
в сказке невозможны ни Vorgeschichte, ни Nachgeschichte, ни забегание вперед,
ни заглядывание назад. В сказке есть лишь начатки событийности - об-ман,
подмена, хитрость, но они еще тесно связаны с архаическим ритуальным
(антисобытийным) сознанием (ср. [Фрейденберг 1936, 1973, 1978, 1988]).
На вопрос,
почему именно хронологический порядок описания событий стал основным в
христианской куль-туре, можно ответить, сославшись на авторитет Авгус-тина,
сформировавшего линейную эсхатологическую философию истории (см. главу первую).
Но история-Драма, завязкой которой является грехопадение, кульми-нацией -
Страсти Христовы, а развязкой - Второе
155
Пришествие и Страшный суд,
является неповторимой лишь на макроуровне. Мифологический канал остался.
Внесение
мифологического канала в линейную эсха-тологическую модель времени и создало
возможность для психологического восприятия происшедшего как события, для
которого характерно сочетание непо-вторимости и предрешенности. В качестве непо-вторимых
события описываются сознанием, в качестве предрешенных 'записаны' в Книге
Судьбы, подобной той, которая фигурирует в конце знаменитого романа Маркеса.
Понимаемое таким образом, событие проис-ходит дважды, на двух временных осях -
циклической и линейной.
Жизнь
человеческого сознания, представленная в ви-де событий, есть не
последовательность событий, а си-стема событий.
Принадлежность человека двум
разным системам ценностей приводит к тому, что он может (пусть даже вследствие
курьеза) приобрести две биографии. Так, в Большой советской энциклопедии
существует две ста-тьи об одном и том же человеке, который в первом слу-чае
назван Роберт Блейк, а во втором - Блэйк. В силу того, что этот человек, живший
в XVIII веке, прославил-ся на двух поприщах, по военному ведомству он прохо-дил
как адмирал, а по дипломатическому как политик. (Пример рассказан автору
настоящего исследования А. С. Крыловым, по словам которого впервые это на-блюдение
было сделано В. А. Успенским.) События жиз-ни Р. Блейка (Блэйка), рассказанные
в его двух биографи-ях, не так сильно отличаются друг от друга, но в полити-ческой
биографии его заслуги как военного служат лишь фоном, а в военной, наоборот,
подчеркиваются, в стороне же остается политическая деятельность.
156
Биография
человека не прямая линия. Ее моделью служит нелинейная память. Попробуйте
вспомнить свою жизнь последовательно день за днем пусть даже только на
протяжении последних двух месяцев.
Наиболее
'реалистическое' представление челове-ческой биографии - это не хронологическая
таблица, приложенная к книге из серии 'Жизнь замечательных людей', а фильм
Тарковского 'Зеркало'. Хронологиче-ская таблица не выступает по отношению к
нелинейной памяти как нечто инвариантное.
Инвариантность
предполагает синхронность.
Нельзя
определить инвариантный способ, как до-браться на метро от станции
'Краснопресненская' до метро 'Рижская', в то время как схема метро безусловно
представляет собой инвариант, содержащий в себе все возможности проехать на
метро куда бы то ни было. Мо-жет быть даже инвариантный кусок схемы, но не
может быть инварианта, как добраться. Путь по кольцевой через 'Проспект Мира'
ничем не лучше пути через 'Китай-город'. В обоих случаях придется делать
пересадку.
Человек на
самом деле не знает всей своей био-графии.
Я могу знать очень много о своей
жизни, то есть по-мнить себя с трех-четырех лет и уметь выстроить некое подобие
последовательности фактов своей жизни, если меня попросят написать
автобиографию перед поступ-лением на работу. И ясно, что я не могу эту автобио-графию
начать словами: 'Самым важным событием в моей жизни я считаю встречу со своей
будущей женой'. И ясно также, что такое начало не годится не потому, что оно
неправильно и неуместно в абсолютном смыс-ле, просто оно не подходит именно к
данной языковой игре. Но представьте, что вы знаменитость и вас просят
157
рассказать о себе. Если вы в этом
случае начнете го-ворить: 'Я родился в таком-то году в таком-то городе,
закончил такую-то школу', то это будет гораздо более нелепо, чем если вы
станете рассказывать о встрече с женой или о том, как вы в детстве испугались
собаки - смотря по тому, в какой системе событий вы хотите, чтобы вас
представили. Вы можете вообще не рассказы-вать никаких фактов своей биографии,
а рассказать о тех идеях, которые приходили вам в голову и которые-то и были
настоящими событиями вашей жизни.
Но даже если
речь идет о простом заполнении анке-ты, гораздо правдивее было бы написать так:
'Первое мое воспоминание в жизни было таким-то и таким-то. Потом, когда мне
было три (или четыре) года, я научил-ся отвечать на вопрос: "Сколько тебе
лет?" И лишь спус-тя несколько лет, да и то с трудом, я смог понять, в чем
состоит суть вопроса: "В каком году ты родился?" Я мо-гу более или
менее точно сказать, что в школе я учился раньше, чем в университете. Но я не
уверен, что эта по-следовательность носит временной, а не логический характер.
С точки зрения хронологии нет ничего нелепо-го в том, чтобы сначала учиться в
университете, а потом в школе. Эта последовательность не нарушает законов
термодинамики. Нелепость здесь чисто логического порядка. А стало быть, между
учебой в школе и учебой в университете не причинная, а логическая связь (если
человек получил аттестат зрелости, то он имеет право поступать в университет).
То есть временной порядок здесь лишь видимый, и в этом смысле последователь-ность
(или скорее квазипоследовательность) школа - университет может выступать в
качестве инварианта. Но этот инвариант будет чем-то вроде обычая или правовой
нормы, ничего общего не имеющей с системой событий жизни человеческого
сознания.
158
Я мог бы в результате болезни
забыть какие-то важ-ные события своей жизни. А мои родители или близ-кие -
потом дать о них по той или иной причине не-верные представления. Так, я могу
прожить много лет с людьми, думая, что это мои настоящие родители (как думал
Эдип). Потом тайна моего рождения раскрывает-ся, но я все равно уже не смогу
прожить тот кусок мо-ей жизни, когда я думал, что они - мои настоящие родители,
- по-другому. Я могу себе представить тот ход событий, как если бы мне это было
известно, но это просто означало бы, что этот отрезок своей жизни я прожил бы в
другой системе событий.
О жизни другого я узнаю из его
рассказа или из рас-сказов кого-либо еще. И тогда он или другие рассказы-вают
историю его жизни так, как они ее себе представ-ляют. Ясно, что никакой
рассказчик не может знать все-го - ни о жизни другого, ни о своей собственной.
Тот, о ком рассказывают (будь это он сам или другой), станет аксиологическим
центром рассказа, его главным героем. Рассказ имеет смысл, когда есть главные и
второстепен-ные персонажи. Это и есть сюжет. Фабула же предпола-гает
бесстрастную фиксацию 'фактов', тем самым предполагая равенство всех
персонажей. Фабула Еванге-лия должна была бы с одинаковой подробностью расска-зать
не только историю Иисуса, но и Пилата, и Лазаря, и разбойника Варравы.
Но ясно, что если я являюсь
естественным главным героем перед лицом своей жизни, то все остальные лю-ди
становятся более или менее второстепенными. Поло-жение вещей, при котором все
являются главными героями, ничем не отличается от того положения вещей, когда
все - второстепенные, так как в этом случае о героях вообще не может идти речи.
И более того, о речи в таком случае тоже не может идти речи, так как речь
159
предполагает хотя бы разделение
главных и второсте-пенных членов предложения. Здесь же речь обернется просто
звучанием, бульканьем, возможно, именно тем, что имели в виду Шекспир и
Фолкнер, говоря о жизни как об истории, рассказанной идиотом, в которой много
звуков и ярости, но нет никакого смысла. Отчасти эта идея и воплощена в первой
части фолкнеровского рома-на, где сознание Бенджи только регистрирует факты, но
практически не описывает их. Но даже будучи лишена причинных и логических
связей, система событий оста-ется, так как она не лишена своего регистрирующего
центра, который может быть не только сознанием идио-та, но даже 'сознанием'
робота или просто кинока-меры. И в этом случае описание будет зависеть от того,
в какой точке закреплено регистрирующее устройство или по какой траектории оно
перемещается.
Правильный порядок событий, фабула, предполага-ет, что возможно такое
положение вещей, когда все се-мантические вхождения терминов, все дескрипции мо-гут
быть даны одновременно (проблема, по сути сводя-щаяся к демону Лапласа).
Для формалистов
идея инварианта была очень важ-на, так как они все-таки были почти
структуралистами. Идея инварианта с успехом была применена ими в сти-ховедении.
Вероятно, фабула для них должна была быть чем-то вроде метра в стихосложении,
ритмического ин-варианта, включающего в себя все варианты. Но метр - это
синхронное правило. Когда Пропп построил схему сюжета волшебной сказки, он не
разграничивал фабулу и сюжет. Тот факт, что одна функция не может в сюже-те
выступить раньше другой, носит у него такой же ло-гический характер, как в
ситуации со школой и уни-
160
верситетом, а не хронологический,
потому что в сказке вообще нет термодинамического времени (испив живой воды или
прыгнув в кипяток, герой может стать моло-дым и прекрасным) и время обрядовое
совсем не совпа-дает с временем нашей обыденной жизни.
Когда мы
говорим: 'Петя Иванов вышел из дома та-кого-то и пошел по улице такой-то в
школу номер та-кую-то', - можно ли здесь выявить фабулу, 'ато-марный факт'?
Будет ли просто
факт 'движения ребенка по улице' инвариантным описываемому событию? Притом что
в пресуппозицию этого события могут входить ссора с родителями, двойка по
русскому языку, полученная вчера, и тому подобное.
Мы можем
разграничивать глубинную и поверхност-ную структуры при анализе предложения, и
глубинная структура будет инвариантна по отношению к поверхно-стной.
Мальчик съел мороженое - активная трансформация
Мороженое съедено мальчиком - пассивная
трансформация
Мальчик не съел мороженого негативная
трансформация
Мороженое не съедено мальчиком пассивно-негативная
трансформация
Является ли
глубинная структура (мальчик, мороже-ное, съедать) фабулой сюжета о мальчике и
мороже-ном? Нет. В том смысле, что глубинная структура го-ворит о тех синтаксических
возможностях, которые мо-
161
гут возникнуть при описании
события поедания маль-чиком мороженого, но она не призвана дать простую
последовательность действий мальчика. Неверно будет считать, что 'Мальчик съел
мороженое' - это фабула, а 'Мороженое не съедено мальчиком' - сюжет на том
только основании, что последнее предложение синтак-сически маркировано.
И является ли предложение
'Мальчик не хочет есть мороженое' трансформом глубинной структуры (маль-чик,
мороженое, съедать)? Оно безусловно является ее семантическим трансформом
(дериватом). Тогда транс-формом этой глубинной структуры будет и предложение
'Мальчику не разрешают есть мороженое', и 'Мальчик тайком от родителей съел
мороженое', и все семантиче-ские трансформации должны будут включать в себя вы-сказывание
'Мальчик съел мороженое', если его рас-сматривать диахронизированно как фабулу,
и все термы, связанные с мальчиком и мороженым, его мамой, ко-торая не
разрешает ему есть мороженое из-за его склон-ности к простуде, и папой, у
которого он унаследовал эту склонность, и легкомысленной теткой, сестрой отца,
которая, несмотря на протесты брата и невестки, все-та-ки нет-нет да и побалует
мальчика. Также включено сю-да будет все то, что связано с мороженщиком и его
семь-ей. И весь мир будет сосредоточен в этом незамыслова-том высказывании о
том, что мальчик съел мороженое.
Представим себе - в духе позднего
Витгенштейна - некое племя, в котором события жизни человека приня-то
рассказывать в обратном порядке по отношению к на-шему. То есть в начале там
говорят о том, как человек умер и сколько жертв было сожжено по поводу его
смерти, потом рассказывают о том, сколько медведей он убил (и при этом рассказ
может сопровождаться соответ-ствующим охотничьим ритуалом), потом рассказывают
162
о том, какие у него храбрые
сыновья и красивые дочери, а после этого - как он взял в жены дочь вождя
соседне-го племени, после этого - как его подростком ужалила змея (предположим,
что это считается признаком избранничества), и только в конце - как он родился
и какие знамения этому предшествовали.
Можно усложнить дело, представив,
что на жизнен-ное поле человека накладывается некая мифологичес-кая сетка. И в
такой системе сначала фиксируются до-стижения человека на охоте, потом брак
независимо от того, что чему предшествовало 'на самом деле', затем то, каким
человек был в молодости, потом - как он принял смерть и так далее (между
прочим, у Светония и Диогена Лаэрция во многом имеет место вышеопи-санный
случай: изложение жизни подчинено не хроно-логии, а той системе, которую избрал
себе автор).
Событие становится событием в
системе событий. Хронология лишь частный способ изложения системы событий.
Система событий в целом задается господст-вующей в культуре моделью
исторического времени и каждый раз тем, кто описывает конкретную систему со-бытий.
Событие - форма речевого акта
('Объявляю заседа-ние открытым'), и как любой речевой акт оно прежде всего акт
говорения, рассказ о событии, так как то, что произошло и никому не стало
известно, на феноменаль-ном уровне не произошло вовсе. То, что рассказано в
виде события, при том что оно может быть симулирова-но, имеет шанс остаться
событием порой даже на значи-тельное время, а может быть, и навсегда.
Просто 'факт' - упавший с горы
камень, - если он не задавил никого и не встревожил, не только не являет-ся
событием, но даже не является фактом, если некому сказать, что он имел место.
163
1.
Когда говорят о сюжете, то, как правило, подразу-мевают нечто, что содержится в
самом произведении. Так, сюжет 'Пиковой дамы' - это нечто органически присущее
повести 'Пиковая дама'. Здесь я собираюсь рассмотреть такое понимание сюжета,
при котором сю-жет не принадлежит самому произведению, а является определенной
языковой игрой, которая играется вокруг произведения.
2. В самом деле,
можно ли определить, в чем состоит сюжет 'Пиковой дамы' в том, например,
смысле, в каком можно определить, скажем, стихотворный размер 'Оне-гина' или
поэмы 'Двенадцать'. В случае 'Онегина' это будет сделать очень просто, в случае
'Двенадцати' Бло-ка достаточно сложно, но возможно в принципе. В лю-бом случае
если могут возникнуть разногласия по пово-ду стихотворного размера того или
иного произведения, то это происходит только в маргинальных случаях, таких,
например, как стихотворения Тютчева 'Последняя лю-бовь' и 'Silentium'. Но что
же в таком случае составля-ет сюжет 'Пиковой дамы'? Его нельзя свести к единой
формуле. Даже формализованную Проппом волшебную сказку, пользуясь методикой
Проппа, как правило, чрез-вычайно трудно привести к единой сюжетной формуле, не
прибегая к концептуальному насилию.
3. Другое дело
- утверждение, что у каждого нарра-тивного художественного произведения есть
сюжет, в
164
каком-то смысле сходно с
утверждением, что у каждого стихотворения есть стихотворный размер той или иной
степени сложности. Тогда в маргинальных случаях, ког-да стихотворный размер
определить в рамках имеющей-ся парадигмы практически невозможно (как, например,
в стихах А. Введенского), мы можем сказать, что такие случаи манифестируют
нечто подобное невозможности определить, есть ли сюжет в таких текстах, как,
напри-мер, тексты французского 'нового романа'.
4. То есть как
у 'Евгения Онегина' есть размер, так и у 'Пиковой дамы' есть сюжет. Но в
отличие от сти-хотворного размера 'Онегина' мы не можем сказать, в чем состоит
сюжет 'Пиковой дамы'. Точно так же как мы не можем сказать, чем сюжет 'Пиковой
дамы' отличается от сюжета 'Капитанской дочки', мы мо-жем сказать, чем
стихотворный размер 'Евгения Оне-гина' отличается от стихотворного размера
'Бориса Годунова'.
5. И в том ли
дело, что размер - понятие формаль-ное, а сюжет - неформальное? Тогда сравним
два не-формальных понятия - сюжет и стиль. Можем ли мы сказать, что стиль есть
у каждого произведения? Можем ли мы сказать, что стиль неотъемлемо присущ
произве-дению? Стиль - неформальное понятие. Но так же как и формальное понятие
'стихотворный размер', нефор-мальное понятие 'стиль' парадигматично, его можно
описать, по крайней мере если говорить о таких произ-ведениях, где стиль
эксплицитно кодифицирован. То есть в тех случаях, например, когда можно
сказать, что произведение написано 'высоким' или 'низким' сти-лем. Можно в
каком-то достаточно объективном смысле сказать, что 'Улисс', 'В поисках
утраченного времени' и 'Звук и ярость' роднит то, что они написаны стилем 'поток
сознания'. Конечно, при этом стиль Джойса
165
очень не похож на стиль Фолкнера.
Но ведь и 4-стопный ямб Ломоносова совершенно не похож на 4-стопный ямб
Державина по чисто формальным критериям.
6. Сюжет
'Пиковой дамы' невозможно описать так, чтобы он был неотличим от сюжета
'Капитанской доч-ки'. Сюжет можно только рассказать.
7. Сюжет не
принадлежит структуре художественно-го произведения. Разве можно сказать: то, о
чем расска-зывается в этом произведении, принадлежит его струк-туре? Я думаю,
что нет.
8. Ну хорошо,
а можно ли сказать, чем стиль 'Пико-вой дамы' отличается от стиля 'Капитанской
дочки'? Можно. В 'Капитанской дочке' рассказ ведется от пер-вого лица и весь
стилистический рисунок пародирует литературный облик XVIII века. Стиль 'Пиковой
да-мы' - это, так сказать, канонический стиль Пушкина (хотя и в этом
произведении есть фрагменты, ориенти-рованные на литературу XVIII века).
9. Самое
главное: говоря о стиле, сравнивая стили, мы остаемся в пределах литературы.
Говоря о сюжете, мы непременно должны задаться вопросом: о чем это? Если
уподобить композицию синтаксису, то сюжет мож-но сравнить с семантикой и
прагмасемантикой, у кото-рой в общем нет структуры даже в языке (за исключени-ем
таких простых случаев, как термины родства). Се-мантика тем и хороша, что она
выводит за пределы языка - в референцию.
10. Можно,
конечно, рассуждать так. Есть устойчи-вые мотивы вроде 'муж на свадьбе своей
жены' или 'о близнецах'; и что из мотивов складываются сюжеты. Но как они
складываются? Из каких мотивов складыва-ется сюжет 'Пиковой дамы'? Я хочу
сказать: можно ли описать сюжет 'Пиковой дамы', не прибегая к семанти-ке, чисто
синтаксически? Если нет - а я склонен ду-
166
мать, что нет, - то сюжет не
принадлежит структуре художественного произведения.
11. Откуда же
берется сюжет? По моему мнению, из потребности пересказать произведение. Но
разве можно эту потребность считать столь же фундаментальной, как потребность в
чтении произведения? Я никогда не читал целиком 'Дон Кихота', но могу сказать,
что в об-щем знаю его сюжет из многочисленных пересказов. Таким образом, сюжет
представляется мне в той же ме-ре функцией пересказа произведения, в какой
понятие сновидения, по мнению Нормана Малкольма, производно не от самих
сновидений, а от рассказов о сновидени-ях [Малкольм 1993].
12. Поэтому
характерно, что сюжет присутствует именно в пересказе прозаической
беллетристики. Сти-хотворение пересказывать абсурдно. Понятие 'лириче-ский
сюжет' - всего лишь неудачная метафора.
13.
Студент-филолог, который не хочет читать длинное скучное произведение, но
которому надо иметь представление о его содержании для сдачи эк-замена, может
попросить своего товарища переска-зать ему сюжет. Причем если это хороший
студент, он прочтет хотя бы несколько страниц этого произведе-ния, чтобы понять
то, чего нельзя пересказать, то, что является частью структуры произведения -
его стиль.
14. Все
попытки формализовать сюжет были попыт-ками представить его синтаксически - как
глубинный синтаксис: вот агенс, вот предикат и его актанты. Мож-но сосчитать
количество персонажей, можно устано-вить отношения между ними - все это
формализуемо. Но формализовать саму историю (в смысле story) чисто
синтаксически - это все равно, что описывать семан-тику, не прибегая к понятию
значения.
167
15. Можно ли сказать, что сюжет-
это последователь-ность событий? Или же это все-таки система событий?
16. И все-таки сюжет делает
специфическим художе-ственное произведение в прозе.
17. Но если мы скажем, что сюжет
рассказа Достоев-ского 'Господин Прохарчин' заключается в том, что ни-щий
запуганный чиновник после смерти оказался бога-чом, то разве это многое нам
расскажет о содержании этого произведения?
18. Сюжет - это просто
развертывание стиля, и эта мысль несомненно принадлежит Шкловскому. Сюжет и
стиль суть разные ипостаси одного и того же. 'Сюжет' 'Господина Прохарчина' -
это просто оживление его стиля, способ его существования.
19. Высказывание 'Господин
Прохарчин - богач, принимаемый за бедняка' носит стилистический харак-тер в
смысле моего понимания стиля как возможности одного десигнатора описываться
различными вплоть до противоположных (как в данном случае) именами и де-скрипциями.
Сама повесть интересна прежде всего разворачиванием и варьированием этой
стилистической конструкции. То, что называют сюжетом, вычитано До-стоевским из
газеты. Стиль - номинация, сюжет - предикация. 'Господина Прохарчина все
принимают за бедняка, а он на самом деле тайно скопил много денег'. Это
метавысказывание мы и называем в начале этой главы сюжетом как возможностью
приписывать инди-виду ошибочную дескрипцию. Так вот я полагаю, что даже
понимаемый таким образом сюжет не принадле-жит структуре произведения. Скорее
он принадлежит его пересказу в широком смысле как разговорной, фи-лологической
или философской рефлексии над ним.
20. Стиль 'Господина Прохарчина'
- это чисто язы-ковая возможность одновременно назвать одного персо-
168
нажа бедняком или богачом. Сюжет
- это ошибочная речевая развертка этой языковой возможности. Но фено-менологически
в произведении находится только стиль. Ведь там в сущности есть только слова.
Сюжет -это на-ша интенционализация слов: мы домысливаем сюжет, вносим его в
произведение из нашего опыта. Мы не раз видели, как кто-то выходил из комнаты,
поэтому сюжетно, диегетически, так сказать, воспринимаем чисто сти-листическое
высказывание: 'М. вышел из комнаты'.
21. То есть
стиль - это не то, как барышня была оде-та, а сюжет - это не то, что с ней
случилось на балу. Есть некая взаимосвязь между тем, как она была одета, и тем,
что с ней случилось на балу. Вот этот сюжет-стиль, стиль, чреватый сюжетом,
определяет самое суть художественного дискурса.
22.
Возможность быть хорошо одетой и возможность быть плохо одетой влечет за собой
то, что может с тобой произойти.
23. Прекрасная
незнакомка может быть и графиней, и проституткой. Так построен 'Невский
проспект' Го-голя. Сюжет не может быть сам по себе. Как не может быть сам по
себе человек - ни одетый, ни голый, ни красивый, ни уродливый. Он всегда
какой-то. И это все-гда предопределяет его поступки.
24. Вообще мне
кажется, что представление о сюжете как о некоем дайджесте содержания
произведения могло возникнуть лишь в постфольклорную эпоху. Переска-зать можно
лишь сюжет литературного произведения. Трудно себе представить в художественной
практике уст-ного народного творчества просьбу вкратце пересказать сюжет былины
или сказки. Такая просьба абсурдна. Можно лишь рассказать (исполнить) саму
былину. В фольклоре сюжет слит с содержанием, его не пересказы-вают. Поэтому
еще каким-то образом применительно
169
именно к фольклору возможна некая
более или менее конструктивная теория сюжета (В. Я. Пропп).
25. Хотя,
конечно, нет ничего невозможного в том, чтобы представить некий сюжетный
дайджест сказки или былины. Вопрос в другом: почему когда появилась литература,
одновременно появилась потребность в не-полной, редуцированной передаче текста?
26. Для чего
пересказывают сюжеты? Мне кажется, не только потому, что иногда прочитать
произведение целиком кому-то не представляется возможным.
27. У Тынянова
есть прекрасная статья, которая назы-вается 'Сюжет "Горя от ума"' и
не имеет ничего общего с рефлексией над структурой сюжета этого произведе-ния.
Зато она содержит чрезвычайно много интересней-ших гипотез о судьбе Петра
Яковлевича Чаадаева, про-тотипа Чацкого.
28. Вообще не
вполне понятно, зачем что-то переска-зывают заведомо неаутентичное. Возможно,
это имеет определенное отношение к природе сплетен, слухов и тому подобного.
29. Если
действительно нужно было бы написать статью о сюжете 'Горя от ума', как я
предлагаю здесь понимать сюжет, то нужно скорее писать о тех фольк-лорных по
своей сути восприятиях этого произведения. То есть нужно собрать пересказы
сюжета 'Горя от ума' у разных слоев общества. Это и будет изучением сюже-та
произведения.
30. Что такое
сюжет применительно к жизни? Напри-мер, в том смысле, в каком это слово
употребляется в журналистике. То есть это не сами события, а рассказ об этих
событиях. Было или не было само событие, при этом установить уже невозможно.
Повествование более фундаментально, чем происшествие. ('Произошло ли то, что
произошло?')
170
31. Про 'Анну
Каренину' нельзя сказать, что она, может быть, была написана, а может быть, не
была.
32. В чем
состоит сюжет 'Анны Карениной'? В ком-бинации повествований о некоторых
квазисобытиях. Никто не сомневается в том, что то, о чем рассказывает-ся,
никогда не происходило.
33. Можно
сомневаться, действительно ли Толстой жил в Ясной Поляне. Но нельзя
сомневаться, что суще-ствует роман 'Анна Каренина' пусть даже с такой чудо-вищной
поправкой, что ее на самом деле написал не Толстой, а, скажем, Лесков или
Бестужев-Марлинский.
34. О. М.
Фрейденберг писала о том, что наррация начиналась как наррация-лирика. К этому
же пришли и в XX веке, когда классическая сюжетная форма романа (то есть та
форма, когда сюжет можно пересказать) ис-черпала себя. Не оттого ли трудно
пересказать сюжет 'Анны Карениной', что она находится у истоков этой новой
традиции (прежде всего я имею в виду, конечно, монолог на пути в Обираловку -
явный предшествен-ник стиля 'поток сознания').
35. Невозможно
пересказать 'сюжет' 'Школы для дураков'.
36. Можно ли
сказать (в духе Потебни), что сюжет - это предикация, а стиль - номинация? Но в
предложе-нии предикация может существовать без номинации, а номинация без
предикации не может. Предложение 'Ше-пот, робкое дыханье, трели соловья...' -
это связочное предложение, где означенные слова суть именные части связочного
сказуемого (во всяком случае, в соответствии с синтаксической концепцией Б. М.
Гаспарова).
37. Нельзя
сказать, что в инструментальном музы-кальном произведении есть сюжет. Ибо в нем
нет дено-тативной семантики, его семантика дейктична (опять-таки концепция Б.
М. Гаспарова).
171
38. Очень легко пересказать сюжет
оперы Вагнера. Но какое отношение он имеет к опере Вагнера?
39. И неужели в Пятой симфонии Бетховена
ни в ка-ком смысле нет сюжета? А в Девятой? Нельзя переска-зать музыкальное
произведение, потому что пересказы-вать нечего. Для того чтобы было что
пересказывать, нужны квазисобытия, мнимый диегезис.
40. Между прочим, в архитектуре
нет сюжета, и по-этому она больше похожа на музыку, чем на скульптуру (мысль Р.
Ингардена).
41. Когда мы говорим, что вон там
три колонны сле-ва и справа, то мы говорим о стиле, т. е. о композиции.
42. Но изменится ли что-либо,
если то, что получает-ся на пересечении сюжета и стиля, то есть динамичес-кой
пропозициональной развертки статической номина-тивной возможности ошибки qui
pro quo, назовем ком-позицией?
43. Мне кажется, что многое
изменится. Компози-цию можно формализовать. То есть в принципе можно сказать, в
чем композиция 'Капитанской дочки' отли-чается от композиции 'Пиковой дамы'. В
чем же? Прежде всего я бы сказал о сходстве их композиций, на-чиная с заглавия.
Кроме того, в обоих случаях перед каждой главой имеются эпиграфы, которые не
только предваряют действие, но и ретардируют его, будучи яр-ко стилистически
нагруженными. Эти эпиграфы суть элементы композиции, элементы формы. Главное же
от-личие композиции 'Капитанской дочки' от композиции 'Пиковой дамы' состоит в
том, что в первой есть рас-сказчик. 'Капитанская дочка' поэтому - произведение
более композиционно сложное.
44. Наличие рассказчика само по
себе актуализирует вопрос о достоверности или недостоверности того, о чем
рассказывается. Рассказчик снимает напряжение,
172
он работает против интриги.
Повествователь, работаю-щий на интригу, делает рассказ более занимательным, но
более плоским. Рассказчик делает историю менее ув-лекательной, но более
сложной. Ср., например, 'Вол-шебную гору' с повествователем и 'Доктора
Фаустуса' с рассказчиком.
45. Итак, можно сказать, что
композиция 'Пиковой дамы' (произведения с повествователем) отличается от
композиции 'Капитанской дочки' (произведения с рас-сказчиком) тем, что в
'Пиковой даме' композиционная интрига имеет самодовлеющий характер - то есть
важ-но, чем кончится история, и больше ничего. В 'Капи-танской дочке' важно не
только, чем кончится, но и не-что нравственно внеположное тексту ('Береги честь
смолоду'). Безнравственность Германна носит чисто композиционный (то есть
формальный) характер; нрав-ственность Гринева трансгредиентна той истории, кото-рая
им рассказана о самом себе, она носит содержатель-ный характер. 'Пиковая дама'
- повесть-анекдот; 'Ка-питанская дочка' - повесть-притча.
46. Если мы редуцируем сюжет к
композиции, то тем самым дехронологизируем повествование (в духе пре-дыдущего
раздела). Развертывание сюжета - кажущее-ся развертывание. Когда мы читаем
книгу, конец уже дописан.
47. Сюжет- функция причинности:
почему так про-изошло; композиция - функция телеологии: зачем так сделано.
48. Стало быть. сюжет -- атрибут
реальности, ком-позиция - атрибут текста.
До
сих пор мы молчаливо исходили из допущения, что мы по крайней мере знаем, что
такое реальность. Это было, конечно, лишь оперативное допущение, без кото-рого
мы не могли бы исследовать противоположное ре-альности понятие, чтобы
сомневаться в чем-то, нечто должно оставаться несомненным, 'чтобы двери враща-лись,
петли должны быть неподвижны' [Витгенштейн 1984: 147\). Теперь имеет
смысл после пройденного пу-ти снова вернуться к понятию реальности и подверг-нуть
его сомнению, или, как говорят сейчас, деконструкции, осуществляя тем самым
другой фундаменталь-ный принцип первого раздела и всего исследования, для того,
чтобы объект был описан наиболее адекватно, он должен быть описан в двух
дополнительных систе-мах описания. В самом начале работы мы постулирова-ли, что
разграничение текста и реальности является для нас не абсолютным, а
прагматическим, то есть 'ре-альность' и 'текст' - это точки зрения на объекты,
а не свойства самих объектов (ср. [Пятигорский 1973]).
Для того чтобы в конце этого раздела попытаться раз-венчать
одну из самых главных и болезненных иллю-зий теории художественного дискурса -
иллюзию ху-дожественного реализма, - мы теперь рассмотрим по-нятие реальности,
как оно употребляется в обыденном языке, предпринимая нечто вроде
аналитико-философского исследования слова 'реальность'.
174
Разложим для этого слово
'реальность' на семан-тические составляющие, как это делали тридцать лет назад
Дж. Кац и Дж. Фодор [Katz 7972] (хотя эта ме-тодика много раз
критиковалась - см., например [Weinreich 1974],
- если не ставить перед собой слишком глобальных
теоретических задач, она вполне может быть использована как рабочая). Итак,
реаль-ность - это:
(1)
совокупность всего, что существует;
(1.1)
совокупность всего, что существует независимо от человеческого сознания;
(1.2)
совокупность всего материального.
Прежде всего
реальность, таким образом, противо-положна вымыслу, всему тому, что мы изучали
до этого. Эту противоположность мы и попытаемся подвергнуть деконструкции.
Чрезвычайно большие сложности
связаны с поняти-ем существования. Сложности эти можно в двух словах описать
так.
Глагол 'существовать' существует
одновременно в двух функциях - как предикат и как квантор, а имен-но квантор
существования. Когда мы говорим, что, на-пример, 'существует много интересных
вещей', то мы используем это понятие в его кванторном значении, как бы
приписывая его всему высказыванию и забывая о его предикативном значении. Но
тот факт, что выска-зывание:
Не существует многих интересных вещей, -
то есть
отрицание этого предыдущего высказывания - делает предложение бессмысленным,
позволяет заду-
175
маться о том, является ли вообще
существование обыч-ным предикатом. Об этом написано подробное иссле-дование Дж.
Э. Мура ('Является ли существование предикатом?' [Moore 1959]), а Б. Рассел предложил ос-троумное
решение этого вопроса: считать, что 'суще-ствование' - это свойство не
высказывания, а пропо-зициональной функции [Russell 1980].
Но тогда
остается еще такой парадокс (подробно см. [Lambert 1969, Целищев 1976]): например, когда мы го-ворим:
Ведьм не существует, то мы
высказываем нечто вроде:
Существуют такие ведьмы ('существовать' как
квантор), которые не cyщecmвyют
('существовать' как предикат).
Этот парадокс
можно разрешить при помощи раз-личных логических процедур, например при помощи
расселовской теории дескрипций. Но он продолжает су-ществовать психологически в
виде максимы: 'Как же это не существует, если про него можно сказать, что оно
не существует. Если бы оно не существовало вовсе, то не о чем было бы вообще
говорить'. Стало быть, оно как-то существует в моем сознании и в сознании окру-жающих,
в воображении, в некоем 'третьем мире' [Поппер 1983\.
Мы говорим, что Шерлок Холмс
никогда не сущест-вовал, но это значит, что любое высказывание о нем не должно
иметь смысла. Однако мы интуитивно прекрас-но чувствуем, что высказывание:
'Шерлок Холмс жил на Бейкер-стрит' в каком-то смысле истинно, а фраза 'Шерлок
Холмс был женат' или 'Шерлок Холмс пре-
176
красно играл на виолончели' в
каком-то смысле ложно. Они истинны и ложны в возможном мире рассказов Ко-нан
Доила и разговоров вокруг этих рассказов [Woods 1974]. Но раз возможны эти
разговоры вокруг несуще-ствующих рассказов, значит, в каком-то смысле, говоря,
что Шерлок Холмс не существует, мы каким-то образом производим насилие над
нашим языком, 'злоупотребля-ем' (misuse) им.
Таким же парадоксопорождающим
является слово 'всё'. Когда мы говорим, что реальность - это 'всё
существующее', то мы тем самым косвенным образом вообще даем понять, что
'не-существующее' - это 'не-всё'. 'Всё, что существует, реально. Всё, что не су-ществует,
не реально'. Мы уже показали парадоксаль-ность второй фразы, которая может
означать только следующее: 'Для каждого индивида истинным являет-ся то, что он
является не существующим, и это и есть нереальное'.
Итак, разграничить реальное и
вымышленное по при-знаку существования оказывается очень трудно. И здесь можно
говорить скорее о некоем 'совокупном опыте' восприятия реального и вымышленного
[Castaneda
1979].
Второй признак
- независимость реальности от со-знания. Здесь тоже все очень непросто. На
протяжении тысячелетий конкурируют две противоположные фи-лософские традиции -
объективно-материалистичес-кая и субъективно-идеалистическая. Первая придержи-вается
тезиса о независимости реальности от сознания;
согласно второй, только сознание
реально - или, на-оборот, реальной является реальность, к которой не-применимо
понятие существования или несуществова-ния и которая противопоставлена
эмпирическому опы-ту [Bradley 1969].
177
Феноменологическому сознанию
человека конца XX века трудно представить, что нечто может сущест-вовать помимо
чьего-либо сознания (тогда кто же за-свидетельствует, что это нечто
существует?).
Но с другой стороны, и про
вымысел нельзя сказать, что он полностью зависит от человеческого сознания и в
этом фундаментально отличается от реальности. Мы не знаем, кто и когда написал
'Слово о полку Игореве', и долгое время это произведение существовало помимо нашего
сознания. Когда мы погибнем, оно останется, как останутся лес, природа, птицы и
т. д. Можно возра-зить, что для того чтобы сказать, что 'Слово о полку...'
вообще как-то может существовать, оно должно быть семиотически осмыслено, то
есть нужно обладать ка-ким-то кодом, чтобы прочитать этот памятник, иначе он
прагматически превратится в просто вещь. Да, но и лес становится лесом, когда
он получает имя 'лес'. Лес становится частью природы, когда ему соответствует
определенное слово и когда есть более общее семанти-ческое понятие природы. В
этом смысле и вещи в рав-ной мере являются предпосылками знаков, как и зна-ки -
предпосылками вещей [Пятигорский 1973].
Третье свойство реальности - это
ее материаль-ность. Представляется, что здесь все обстоит так же сложно, как и
с независимостью от сознания. Думается, что невозможно представить себе как
неоформленную незнаковую материю (так сказать, просто материю в чи-стом виде),
так и нематериализованный каким-либо об-разом знак (план выражения для
функционирования знака не менее важен, чем план содержания [Ельмслев I960]).
Феноменологически противоречиво говорить, что 'этот камень лежал на земле
тысячи лет' и, стало быть, есть материя. Но, возможно, тогда не было слова
'камень'? Можем ли мы себе представить, что нечто
178
неназванное лежит (но тогда ведь
могло не быть и слова, лежит'!), просто каким-то образом субзистирует на нена-званной
земле? Можно сказать, что идея о том, что кам-ни существовали тысячи или
миллионы лет, принадле-жит каким-то определенным языковым играм (например,
археологии), но отнюдь не всем играм. В философской языковой игре конца XX века
очень трудно представить себе нечто материальное само по себе и само для себя,
не связанное со своим семиотическим субстратом.
И опять-таки нельзя сказать, что
вымышленное - это всегда нематериальное. Шерлок Холмс не сущест-вует, пишет
Барри Миллер, потому что он 'онтологи-чески неопределен, мы не знаем, сколько у
него было волос на голове и что он ел на завтрак' [Miller 1985]. Но я могу на это возразить, что не знаю
количества во-лос на голове Барри Миллера и тоже никогда с ним не завтракал.
Но Шерлока Холмса в принципе, с
необходимостью нельзя пригласить на завтрак, а Билла Клинтона теоре-тически
можно.
Но если детям приглашают на
Рождество или на Но-вый год Деда Мороза и Снегурочку, разве можно после этого
говорить, что Дед Мороз и Снегурочка не принад-лежат каким-то образом
реальности?
Человек, которому внушили, что
Шерлок Холмс - реальное лицо, вполне мог бы пригласить Шерлока Холмса на обед.
И Шерлок Холмс мог бы прийти к не-му на обед не менее реальный, чем Дед Мороз
или Санта-Клаус, например в виде одетого Шерлоком Холмсом актера.
Мне кажется, полагать, что нечто
существует реаль-но, равносильно тому, чтобы полагать, что некто пола-гает, что
нечто существует. Поэтому бессмысленно го-ворить, что ведьм не существует и
средневековая куль-
179
тура коренным образом
заблуждалась относительно их существования. Быть может, пройдет несколько тысяч
лет, и люди сочтут разумным сомневаться в существова-нии холодильников, а
существование ведьм станет со-вершенно очевидным.
Можно сказать, что для людей
почему-то важно, что-бы что-то считалось вымышленным, а что-то остава-лось
реальным. Вероятно, потому, что вымышленное - это более просто организованное,
им легче манипули-ровать. Вымысел - это упрощенная, 'креолизованная'
реальность.
Мне представляется, что реальность есть не что иное, как знаковая система,
состоящая из множества знаковых систем разного порядка, то есть настолько
сложная знаковая система, что ее средние пользовате-ли воспринимают ее как
незнаковую. Но реальность не может быть незнаковой, так как мы не
можем восприни-мать реальность, не пользуясь системой знаков. Поэтому нельзя
сказать, что система дорожной сигнализации - это знаковая система, а система водоснабжения
- не-знаковая. И та и другая одновременно могут быть рас-смотрены и как системы
вещей, и как системы знаков.
По нашему мнению, специфика
понятия реальнос-ти как раз состоит в том, что в ней огромное количест-во
различных знаковых систем и языковых игр разных порядков и что они так сложно
переплетены, что в со-вокупности все это (реальность) кажется незнаковым. При
этом для человеческого сознания настолько важно все делить на два класса (это
обусловлено психофизи-ологически: см., например, [Иванов 1978; Деглин-Балонов-Долинина
1983]) - на вещи и
знаки, на действи-тельное и выдуманное, - что ему (сознанию) пред-ставляется,
что это деление имеет абсолютный онтологический характер.
180
Но мы не хотим
сказать, что понимание реальности как семиотической системы подразумевает, что
реаль-ность - это нечто кажущееся, 'нереальное'. Утверж-дать это значило бы
просто повторять идеалистическую философию. Что же нового дает такой подход, в
соот-ветствии с которым реальность понимается как знако-вая система? Прежде
всего такое понимание подразуме-вает правомерность подхода к реальности как к
другим знаковым системам - естественному языку и 'вторич-ным моделирующим
системам'. То есть применительно к такому пониманию можно говорить о морфологии ре-альности. В соответствии с общими
задачами и общим ходом нашего исследования можно предположить, что эта
морфология будет носить характер модальной мор-фологии.
Но прежде
хотелось бы отметить два подхода, кото-рые в принципе уже давно изучали
реальность как се-миотическую систему. Это прежде всего структуралист-ский
подход, для нашего исследования представленный в наибольшей степени работами Ю.
М. Лотмана, посвя-щенными интерпретации культуры XVIII-XIX веков. Когда
реальность уходит в прошлое, она психологичес-ки гораздо легче воспринимается
как знаковое образо-вание. Прошлое мы воспринимаем через систему сви-детельств,
которые носят эксплицитно семиотический характер (так, еще 20-30 лет назад
устная речь не вос-принималась как объект семиотического исследования;
ее рассматривали не как
самостоятельную систему, но как систему отклонений от письменной речи). Докумен-ты
прошлого явственно показывают, насколько семиотизированной была реальность. И
нам кажется, что она была гораздо более семиотизированной, чем наша (абер-рация
дальности, по Л. Н. Гумилеву [Гумилев 1990]). Вспоминая
средневековье, мы вспоминаем прежде всего
181
рыцарские турниры, куртуазную
любовь, богословские споры и тому подобное (деконструкция такого повсед-невного
понимания была успешно совершена Умберто Эко в его романе 'Имя розы').
Ю. М. Лотман
показал семиотизированность доста-точно близкой эпохи. Его замечательные работы
о ба-лах, картах, дуэлях, парадах и т. п. [Лотман 1971, 1975а, 1975Ь, 1977а, 1980,
1994] были чрезвычайно важным шагом (наряду с исследованиями
французской школы Р. Барта и М. Фуко [Barth 1970; Foucault 1961, 1966, 7976])
в понимании семиотической природы по-нятия реальности. Но все же Ю. М. Лотман
изучал до-кументы, и его предметом была культура. Думается, что он не
разделил бы мнение, в соответствии с которым ре-альность - это в принципе
семиотическая система, как слишком экстремистское.
Преимуществом
лотмановского подхода было то, что он был застрахован от того, чтобы исказить
свой мате-риал, хотя он мог интерпретировать его как угодно. Но он не мог
исправить лживых мемуаров Д. И. Завалишина [Лотман 79756] и не мог
изменить ни строки в за-писных книжках П. А. Вяземского. В этом было и пре-имущество,
и ограниченность его подхода.
Второе, не
менее продуктивное направление объяс-няет реальность с точки зрения мифологии.
Это и юнгианский подход, и тот, который называется неомифологи-ческим.
При таком
подходе обыкновенное яблоко сразу ста-новится полифункциональным символом, и мы
будем все время вспоминать всемирный закон тяготения, Ада-ма и Еву, а также
Елену Троянскую. Наиболее последо-вательно этот подход проведен в замечательном
памят-нике отечественной гуманитарной науки 60-80-х го-дов - в энциклопедии
'Мифы народов мира'.
182
Мы хотим представить, как можно
изучать повседнев-ную реальность, находясь внутри нее (сознавая всю опасность
субъективизма, которая неизбежна даже при самой осторожной интроспекции).
Представим себе поездку в поезде.
Слышится стук колес, пассажир думает о чем-то своем или читает ка-кую-то книгу,
в соседнем купе плачет ребенок, слышит-ся разговор соседей, но речь их
непонятна (они говорят, кажется, по-эстонски), по радио передают популярную
мелодию; пассажир видит в зеркале свое отражение, другие соседи едят, кто-то
храпит, за окном сменяются пейзажи. Вот примерно такова наша модель реальнос-ти.
Это принципиально многоканальное сообщение, многое из которого воспринимающему
совершенно не нужно, и поэтому он не обращает внимания на семи-отичность
львиной доли сигналов, а воспринимает их как нечто незнаковое, как помехи.
Другой пример. Человеку,
находящемуся в депрессии или в состоянии психоза преследования, мир вокруг пред-ставляется
ужасным. Такова его реальность. Психотик-параноик идет по улице, и отовсюду ему
угрожает смер-тельная опасность. Проходящий человек как-то странно посмотрел
(следят!), из-за угла вынырнула машина (ведь все подстроено, надо быть
начеку!), дорожки специально не посыпаны песком (ясно, ведь все сговорились!).
Эта 'прогулка по психотической улице' взята нами из иссле-дования современного
психотерапевта [Волков 1993]. Для
подобного сознания реальность такова, какой она ему кажется. Стабильность
улицы, по которой идет такой человек, будет заключаться не в ее материальных
качест-вах, которые как раз будут меняться, а в семиотических, в том, что это
улица Качалова или Сивцев Вражек.
Рассмотрим теперь еще более
простую ситуацию - поездку в трамвае. Ясно, что при этом что-то можно де-
183
дать, а чего-то нельзя, а что-то
обязательно нужно. На-пример, обязательным считается брать билет, можно сидеть
или стоять, но нельзя, скажем, лежать. Вот мы описали поездку в трамвае с точки
зрения деонтичес-кой модальности. Можно также представить себе удач-ную и
неудачную поездку в трамвае (здесь будет задей-ствована аксиологическая
модальность). С точки зре-ния эпистемики, чтобы поехать на трамвае, нужно знать
номер маршрута, направление и пункт конечной остановки. Неведение или неполное
знание может при-вести к ошибочным действиям. С точки зрения темпо-ральной
ясно, что нужно более или менее знать распи-сание (хотя бы тот факт, что ночью
трамваи не ходят). С точки зрения пространства важно, откуда, куда и с ка-кой
скоростью едет трамвай. Наконец с точки зрения алетики понятно, что на трамвае
невозможно пересечь Ла-Манш. Актуализировав нарративные модальности применительно
к такому небольшому отрезку повсед-невной реальности, как поездка на трамвае,
можно вы-строить нечто вроде модального нарративного дискур-са, но уже не
вымышленного, а повседневно-реального. Вот конфигурация Ах+, D+, Ер+, А1+, Т+,
S+, которую можно охарактеризовать как 'удачная поездка': пасса-жир вошел с
задней двери, уступил место старушке (деонтика), народу было мало, пассажиры не
толкались и не переругивались (аксиология), трамвай шел быстро и ни разу в
дороге не сломался (пространство), пасса-жир, о котором идет речь, сел на свой
маршрут и до-ехал благополучно до своей остановки (эпистемика), трамвай не
опаздывал (время), и никаких чудес не слу-чилось, трамвай не превратился в
'заблудившийся трамвай' (алетика) (ср. [Тименчик 7957]).
А вот неудачная в модальном плане
поездка: пасса-жир ждал трамвая полчаса, вагон был битком набит
184
людьми, поэтому билет взять не
удалось, тем не менее вскоре появился контролер, и пассажиру пришлось за-платить
штраф, всю дорогу он ехал стоя, трамвай два раза сходил с рельс, водитель не
объявлял остановок вовсе или объявлял так, что ничего нельзя было понять, и
поэтому пассажир понял, что едет в совершенно не-известном ему направлении,
когда было уже поздно.
Так средний
человек проживает практически всю свою жизнь, не замечая, что он существует в
повышен-но и напряженно семиотизированном континууме:
'девочка станет
взрослой и станет жить взрослой жиз-нью; выйдет замуж, будет читать серьезные
книги, спе-шить и опаздывать на работу, покупать мебель, часами говорить по телефону,
стирать чулки, готовить есть се-бе и другим, ходить в гости и пьянеть от вина,
завидо-вать соседям и птицам, следить за метеосводками, вы-тирать пыль, считать
копейки, ждать ребенка, ходить к зубному, отдавать туфли в ремонт, нравиться
мужчи-нам, смотреть в окно на проезжающие автомобили, по-сещать концерты и
музеи, смеяться, когда не смешно, краснеть, когда стыдно, плакать, когда
плачется, посте-пенно седеть, красить ресницы и волосы, мыть руки перед обедом,
а ноги перед сном, платить пени, распи-сываться в получении переводов, листать
журналы, встречать на улице старых знакомых, выступать на со-брании, хоронить
родственников, греметь посудой на кухне, пробовать курить, пересказывать сюжеты
филь-мов, дерзить начальству, жаловаться, что опять миг-рень, выезжать за город
и собирать грибы, изменять мужу, бегать по магазинам, смотреть салюты, любить
Шопена, мечтать о поездке за границу, думать о само-убийстве, ругать
неисправные лифты, копить на чер-ный день, петь романсы, ждать ребенка, хранить
дав-
185
ние фотографии, визжать от ужаса,
осуждающе качать головой, сетовать на бесконечные дожди, сожалеть об
утраченном, слушать последние известия по радио, [...] одеваться по моде,
ругать правительство, жить по инер-ции, пить корвалол, проклинать мужа, сидеть
на диете, уходить и возвращаться, красить губы, не желать ниче-го больше,
навещать родителей, считать, что все конче-но, сидеть на бюллетене, лгать
подругам и родственни-кам, забывать обо всем на свете, занимать деньги, жить,
как живут все'.
Рассмотрим
наиболее характерные определения ху-дожественного реализма.
(1) Реализм - это художественное направление, 'имеющее целью возможно
ближе передавать действи-тельность, стремящееся к максимальному правдоподо-бию.
Реалистическими мы объявляем те произведения, которые представляются нам близко
передающими дей-ствительность' [Якобсон 1976: 66]. Это определение дал
Р. О. Якобсон в статье 'О художественном реализ-ме' в качестве наиболее
расхожего, вульгарно-социоло-гического понимания.
(2) Реализм -
это художественное направление, изо-бражающее личность, действия которой
детерминиро-ваны окружающей ее социальной средой. Это определе-ние профессора
Г. А. Гуковского [Гуковский 1967].
(3) Реализм -
это такое направление в искусстве, ко-торое в отличие от предшествующих ему
классицизма и романтизма, где точка зрения автора находилась соответ-ственно
внутри и вне текста, осуществляет в своих текс-тах системную множественность
точек зрения автора на текст. Это определение Ю. М. Лотмана [Лотман 1966\.
Сам Р. Якобсон стремился определить художествен-ный реализм
функционалистски, на стыке двух его прагматических пониманий:
187
1. [...] Под
реалистическим произведением понима-ется произведение, задуманное данным
автором как правдоподобное (значение А).
2. Реалистическим
произведением называется такое произведение, которое я, имеющий о нем суждение,
воспринимаю как правдоподобное' [Якобсон 1976: 67].
Далее Якобсон
говорит, что в качестве реалистичес-кой может быть рассмотрена как тенденция к
деформа-ции художественных канонов, так и консервативная тенденция к сохранению
канонов [Якобсон
1976: 70].
Рассмотрим последовательно
приведенные выше три определения художественного реализма.
Прежде всего определение (1)
неадекватно тем, что оно не является определением эстетического явления, оно не
затрагивает его художественной сути. 'Возмож-но ближе следовать
действительность' может не столько искусство, сколько любой обыденный, истори-ческий
или научный дискурс. Все зависит от того, что понимать под действительностью. В
каком-то смысле определение (1) является наиболее формальным и в этом смысле
верным, если его понять в духе идей, из-ложенных в главе первой, с поправкой на
идеи Якобсо-на. Если под эквивалентом 'возможно более близкого следования
действительности' мы будем понимать возможно более близкое воспроизведение
средних норм письменной речи, тогда наиболее реалистичес-ким будет то
произведение, которое будет в наимень-шей степени от этих средних норм
отклоняться. Но тогда под действительностью надо понимать совокуп-ность
семантически правильно построенных высказы-ваний языка (то есть понимать
действительность ре-альность как знаковую систему), а под правдоподоби-ем -
экстенсионально адекватную передачу этих
188
высказываний. Грубо говоря,
реалистическим тогда будет высказывание типа:
М. вышел из комнаты, а
нереалистическим - высказывание типа:
М., он, медленно оглядываясь, - и из комнаты - стремительно.
Второе
высказывание не является в этом смысле ре-алистическим потому, что оно не
отражает средних норм письменной речи. В предложении отсутствует стандартное
сказуемое; оно эллиптично и синтактически изломанно. В этом смысле оно
действительно иска-женно, 'неправдоподобно' передает языковую реаль-ность.
Будем в дальнейшем называть такие высказыва-ния модернистскими (см. также [Руднев 1990b]).
Однако ясно,
что определение (1) имеет в виду не-сколько иное правдоподобие несколько иной
реальнос-ти, такой, какой мы ее рассматривали выше, то есть не-зависимой от
нашего опыта, 'данной нам в ощущени-ях', противоположной вымыслу. Однако здесь
сразу возникает противоречие. Направление художественного вымысла определяется
через понятие реальности, кото-рое противопоставлено вымыслу. Ясно, что каждая
культура воспринимает свои продукты как адекватно отражающие реальность данной
культуры. Так, если в средневековье задумали бы создавать художественное
направление, называемое реализмом, то наиболее прав-доподобными персонажами там
были бы ведьмы, сук-кубы, дьявол и т. д. А в античности это были бы олим-пийские
боги.
Таким же
функционально зависимым от культуры является критерий правдоподобия. А. Греймас
пишет,
189
что в одном традициональном
племени правдоподобны-ми (веридиктивными) считались дискурсы, в опреде-ленном
смысле эквивалентные нашим волшебным сказ-кам, а неправдоподобными - истории,
которые эквива-лентны нашим историческим преданиям [Греймас 1986]. Р. Ингарден писал, что в искусстве
правдоподоб-но то, что уместно в данном жанре [Ингарден 1962].
Чрезвычайно трудно опираться на
критерий правдо-подобия, когда само понятие истины переживает не лучшие времена
после пароксизма правдоподобия в неопозитивизме. Карл Поппер уже в 30-е годы
выдви-нул принцип фальсификационизма, в соответствии с ко-торым научная теория
считается истинной, если ее можно опровергнуть, то есть если ее опровержение не
будет бессмысленно [Поппер 1983].
Но самое
главное, что если мы возьмем ряд высказы-ваний из какого-либо дискурса, который
считается заве-домо реалистическим, например из повести Тургенева, то там
окажется слишком много чрезвычайно неправдо-подобных, сугубо условных,
конвенциональных черт. Например, рассмотрим обычное высказывание реалисти-ческой
прозы, когда приводится прямая речь героя и за-тем добавляется: 'подумал
такой-то'. Если использовать критерий правдоподобия, то такое высказывание
являет-ся совершенно не реалистическим. Мы не можем знать о том, что подумал
кто-то, пока он сам не скажет нам об этом. В этом смысле такое высказывание,
строго говоря, не может считаться с точки зрения обыденного языка правильно
построенным. Самое главное, что вне художе-ственного сугубо 'реалистического'
дискурса подобные высказывания и не встречаются. Их можно пометить значком *.
Например, странно будет услышать в свиде-тельском показании на суде следующее
высказывание:
190
* После этого М. подумал, что лучше всего
в данной ситуации скрыться.
Высказывания с
'подумал' могут встречаться только в модальном контексте либо в контексте
эксплицитной пропозициональной установки:
Я полагаю, что он подумал, что лучше всего в этой ситуации
скрыться,
либо в
модализированном контексте простого предло-жения:
Вероятно, он подумал, что лучше всего в
этой ситу-ации скрыться.
В каком-то
смысле более правдоподобной является литература 'потока сознания', так как она,
не претендуя на онтологическое правдоподобное отражение действи-тельности,
достаточно правдоподобно отражает нормы неписьменной речи, то есть некие
обобщенные пред-ставления о внутренней речи как об эллиптичной, свер-нутой,
слипшейся, агглютинированной, сугубо предика-тивной, как понимал ее Выготский [Выготский
1934].
Таким образом, реализм - такое же
условное искус-ство, как и классицизм.
Концепция
Гуковского, конечно, является более при-влекательной по сравнению с официозной.
Но это опре-деление реализма также не есть определение эстетичес-кой сути
художественного дискурса, а лишь его идеоло-гической направленности. Гуковский
хотел сказать, что в период развития литературы XIX века была популяр-на
формула детерминированности индивидуального по-
191
ведения общественной средой и что
художественная ли-тература эту формулу каким-то образом отразила. На-пример,
начала зарождаться буржуазия - и тут же по-явился стяжатель Чичиков, покупающий
мертвые души, или Германн, думающий прежде всего об обогащении. Конечно, сейчас
к такому пониманию художественного направления трудно относиться серьезно, хотя
оно яв-ляется менее грубым приближением к сути вещей по сравнению с официозным
определением реализма.
Наиболее
привлекательным является определение Ю. М. Лотмана. Оно определяет реализм не
только как эстетическое явление, но в ряду других эстетических явлений,
системно. Но успешность этого определения в том, что оно экстенсионально не
очерчивает тех текс-тов, которые традиционно принято считать реалистиче-скими.
Определение Лотмана очень хорошо подходит к Пушкину, Лермонтову, Гоголю,
Достоевскому и Толсто-му, но совершенно не подходит к Тургеневу, Гончарову,
Островскому, Лескову, Глебу Успенскому. Эти писатели вряд ли рассматривали
действительность стереоскопи-чески, как это дано в определении реализма
Лотманом. И самое главное, что это определение слишком хорошо подходит к
текстам начала XX века, к 'Петербургу' Бе-лого, 'Мелкому бесу' Сологуба, да и
ко всей литерату-ре европейского модернизма - Джойсу, Фолкнеру, То-масу Манну.
Вот где на самом деле господствует стерео-скопичность точек зрения.
Реализм по Лотману совпадает с
модернизмом. Концепция Р. О. Якобсона является наиболее функ-ционально-динамической.
Каждое направление сменяет какое-то другое и именно себя объявляет реалистичес-ким.
Якобсон только не поставил точку в своих рассуж-дениях. А именно: что понятие
художественного реа-лизма является противоречивым, оно не описывает ни-
192
какую специфическую область
художественного опыта, и лучше всего от него отказаться. Эту точку приходится
поставить нам.
Прежде чем перейти непосредственно к описанию фактов русской литературы
XIX века sub specie realistiсае, рассмотрим семантику самого понятия 'реализм'
и 'реалистический'. В какие семантические оппозиции входит это слово?
1. Реализм -
номинализм. Это наиболее старая фи-лософская оппозиция, где реализм означает
такое на-правление в схоластической мысли, которое допускает реальное
существование общих родов, универсальных понятий. Здесь важно отметить, что
слово 'реализм' выступает в значении, скорее противоположном совре-менному, а
многозначность термина уже сама по себе может вызвать сомнение в его
валидности.
2. Реализм -
идеализм. Эта вторая пара понятий примерно соответствует более привычному для
русского языка противопоставлению 'материализм - идеализм'. Со времени
Витгенштейна, показавшего в 'Логико-фи-лософском трактате', что реалистическая
и идеалисти-ческая точки зрения на объект - лишь дополнительные языки описания
объекта, и они совпадают, если строго продуманы [Витгенштейн 1958], эту оппозицию можно считать
устаревшей. Однако идеологизированная теория литературы во многом накладывала
именно эту оппози-цию на эстетическое противопоставление художествен-ного
реализма художественному не-реализму, например романтизму или модернизму.
Писателю-реалисту при-стало быть материалистом, а романтик - это почти си-ноним
идеалиста.
3.
Реалистическое сознание - нереалистическое (аутистическое) сознание. Эта
психологическая оппозиция,
193
представленная в трудах Э.
Блейлера [Блейлер
1927], Э. Кречмера [Кречмер 1930,
Kretshmer 1956] и разраба-тываемая современным психологом М.
Е. Бурно [Бурно
1991], в каком-то
смысле представляется наиболее су-щественной и актуальной. Реалистическое (или
синтонное) сознание - такое, которое мыслит себя как часть природы, оно
гармонично внешнему миру. Аутистическое (шизоидное) сознание - это такое
сознание, кото-рое погружено в самое себя, в свой собственный бога-тый и порой
фантастический внутренний мир. В какой-то мере можно сказать, что реалист в
психологическом смысле - это, как правило, материалист в философ-ском смысле, а
аутист - это идеалист в философском смысле. В эстетическом плане этот феномен
также на-кладывается на пару 'реализм - не-реализм' (модер-низм, романтизм).
Реалистический психологический склад характера склоняет личность к бытовому
воспри-ятию и отражению реальности, к средней языковой нор-ме, то есть к тому
реализму средней руки, о котором во-обще имеет смысл говорить применительно к
художест-венной практике. Аутист - это почти всегда модернист или романтик.
Четвертого противопоставления не
существует, од-нако оно должно было бы существовать по логике ве-щей, если
линию художественного реализма проводить последовательно и честно. Если мы
будем говорить, что реализм - это такое направление в искусстве, которое тем
или иным образом стремится отразить реальность, то поскольку с семиотической
точки зрения реальность противопоставлена тексту (этому посвящена первая глава
настоящего исследования), то противоположное реализму направление должно
называться 'текстизм'. Абсурдность этого термина 'от обратного' высвечивает
абсурдность термина 'реализм'.
194
Итак,
попробуем описать движение русской литера-туры XIX века, не пользуясь термином
'реализм' или активно критикуя применение его к ней (ср. альтерна-тивные
концепции русской литературы XIX века в кни-гах [Вайль - Генис 1991; Смирнов 1994], в которых сам термин 'реализм' не
подвергается рефлексии).
Первым
классическим произведением русского реа-лизма считается роман в стихах Пушкина
'Евгений Онегин'. Уже сам факт, что русский реализм начался в твердой
14-строчной строфической форме 4-стопного ямба, позволяет изумиться, как могло
прийти в голову В. Г. Белинскому наиболее искусственное, изощренное формальное
построение именовать в эстетическом смысле реалистическим. Единственное
оправдание это-му - то, что стихотворный роман Пушкина писался в годы кризиса
романтизма и в определенном смысле это был роман о кризисе романтического
мышления, роман о том, как пишут и воспринимают романы (см. [Гуковский
1967; Лотман 1966; 7976]). С другой стороны, уже одна эта
металитературность 'Онегина' - тот факт, что герои мыслят образами из романов,
пишут стихи и весь роман буквально 'прострочен' аллюзиями из пре-дыдущей
литературы [Лотман 1980], -
говорит о том, что ни в каком смысле, кроме лотмановского, это произ-ведение к
реалистическим отнесено быть не может; а лотмановское понимание, как было
показано, не разгра-ничивает, а скорее наоборот, отождествляет реализм с
модернизмом (так же как и якобсоновское понимание [Якобсон 1976]).
'Онегин' с типологической точки зре-ния - безусловно произведение
модернистское, с рез-кой игрой на внутренней и внешней прагмасемантике текста,
с разговорами между автором и читателем, с от-ступлениями в духе Стерна и
цитатной техникой, пред-варяющей цитатную технику русского символизма и ак-
195
меизма, равно как и европейского
неомифологизма. То же самое относится к другим произведениям Пушкина последнего
периода: 'Повестям Белкина ('новым узо-рам по старой канве'); к 'Капитанской
дочке', пароди-рующей поэтику XVIII века и вводящей образ прагмати-чески
активного рассказчика; к 'Пиковой даме', одному из сложнейших произведений
мировой литературы, с числовой символикой и изощренной философией судь-бы; к
'Медному всаднику' с его библейскими ассоциа-циями в первой части и дантовскими
- во второй (см. [Немировский 1988]). Знаменитый 'путь
Пушкина к ре-ализму' был на самом деле путем к модернизму. Пуш-кин встал на
этот путь одним из первых и поэтому в ев-ропейской традиции остался
незамеченным; там родона-чальником модернизма считают Достоевского, который был
учеником Пушкина.
Сложнейшая
композиционная структура основного прозаического произведения Лермонтова,
'Героя наше-го времени', - его рефлексивная медиативность и цитатность,
жанровая поливалентность (путевой очерк, светская повесть, экзотическая
новелла, дневник и фи-лософский рассказ в одном произведении) - все это го-ворит
само за себя. Безусловно, это скорее произведе-ние 'текстизма'. Характерно,
кстати, что главный ге-рой - один из ярчайших образов аутиста-шизоида в мировой
культуре [Бурно
1991].
Творчество
Гоголя было уже отчасти оценено через призму романтизма в прозорливой статье Б.
М. Эйхен-баума 'Как сделана "Шинель" Гоголя' [Эйхенбаум 1969].
Трехчленная композиционная структура 'Мерт-вых душ', отсылающая к трехчленности
'Божествен-ной комедии' Данте - первая и вторая (написанные) части в точности
соответствуют 'Аду' и 'Чистилищу', третья (ненаписанная) - 'Раю', также
позволяет смело
196
отнести это произведение к
предмодернистским. Сама глубоко религиозно-аутическая личность Гоголя делает в
общем-то кощунственной (как и было кощунственным пресловутое 'Письмо Белинского
Гоголю') идею, что Гоголь - писатель-реалист.
Незаконченная
талантливая книга Г. А. Гуковского о Гоголе в этом смысле несет в своем
названии - 'Реа-лизм Гоголя' [Гуковский 1959] -
идею литературовед-ческого 'иллокутивного самоубийства' [Вендлер 1985].
Литература натуральной школы,
просуществовав-шая активно и не слишком ярко около десяти лет, стре-милась к
очерковости и сюжетной редуцированности;
это была действительно литература
реалистов в психо-логическом смысле. Но поскольку философским лозун-гом этой
литературы был первый позитивизм, новое модное направление мысли, то эта
литературная школа скорее воспринималась не как реалистическая (в глазах
современников 'реализмом', то есть литературой сред-ней языковой нормы, была
светская повесть), а как авангардистская. Безусловно авангардистским выступ-лением
следует считать и роман Н. Г. Чернышевского 'Что делать?', если понимать
авангард как искусство активной прагматической ориентированности [Шапир 1990а], - расхожее определение данной книги
как 'учебника жизни' говорит об этом. Сама активная включенность романа 'Что
делать?' в революционно-нигилистический контекст позволяет сделать правомер-ным
сравнение его с бунтарскими стихами и выступле-ниями русских футуристов начала
XX века.
Пожалуй,
наиболее реалистическим в художествен-ном смысле следует считать И. С.
Тургенева, так как его произведения в наибольшей степени были произведени-ями
средней языковой нормы; это вообще был великий писатель средней нормы. В этом
смысле можно сказать,
197
что оставить термин 'реализм'
можно только примени-тельно к такой литературе, то есть к массовой или грани-чащей
с массовой. Если противопоставить таким обра-зом реализм модернизму, то это будет
противопоставле-ние пассивного, паразитического отношения к языку творческому и
созидающему отношению.
Нормальная речь ритмически
нейтральна. Соответ-ственно ритмически нейтральна массовая проза.
Нормальная средняя литературная
речь почти не ис-пользует экзотической лексики. Так же поступает 'реа-лизм'.
Модернизм - это царство неологизмов и лекси-ческой периферии - варваризмов,
экзотизмов, просто-речия и т. п.
Нормальная речь (и с нею средняя
проза) канонизи-рует законченное высказывание. Модернизм может раз-рывать
предложения на части, 'агглютинизировать' вы-сказывания, подражая внутренней
речи, оставлять вы-сказывания незаконченными, имитируя речь устную.
В нормальной прозе, так же как и
в нормальной ре-чевой деятельности, обязательным является принцип семантико-синтаксической
связности двух смежных высказываний (это основной принцип лингвистической
теории текста). Модернистский дискурс может делать соседние высказывания
нарочито несвязанными.
Нормальная речевая деятельность
письменного пла-на нейтральна в сфере прагматики; модернизм прагмасемантически
активен, он нагромождает цепь рассказ-чиков, строя прагматически
полифункциональные кон-струкции.
В этом смысле проза Тургенева
действительно ближе всего к 'лингвистическому реализму'. Но таковой была и основная
эстетико-социальная установка писателя (иначе он был бы обыкновенным
третьестепенным бел-летристом): показать это среднее сознание во всей его
198
полноте. Можно сказать, что любой
писатель начиная с конца XIX века и до наших дней, которого мы психоло-гически
можем назвать реалистом, будет обладать 'ни-каким стилем', и это будет
тургеневский стиль. Такова парадоксальная роль в русской словесности этого заме-чательного
писателя, сумевшего сделать из посредст-венности совершенство.
Начиная со
второй половины 1970-х годов, после публикации знаменитых работ В. Н. Топорова
о 'Пре-ступлении и наказании' и 'Господине Прохарчине' [То-поров 1995а, 1995с], в которых он увидел произведения
Достоевского под влиянием М. М. Бахтина совершенно в новом свете: как отголоски
древнейших архаических представлений, - исследователи русской литературы XIX
века фактически отбросили миф о реализме и ста-ли рассматривать произведения
XIX века под углом зре-ния культуры XX века. Возможно, здесь уместно возра-жение,
что исследователи построили новый миф вместо мифа о реализме, но в этом нет
ничего удивительного, так как вся история науки, особенно гуманитарной, в
каком-то смысле есть процесс мифотворчества, назовем ли мы эти мифы
'паттернами' или 'парадигмами'. Тог-да в известном 'школьном' стихотворении Н.
А. Некра-сова 'Железная дорога' увидели бы не только угнете-ние народа, а
чрезвычайно последовательно проведен-ную мифологическую идею строительной
жертвы [Сапогов
1988], в
гончаровском Обломове - не просто обленившегося русского барина, но воплощение
Ильи Муромца, сидящего на печи тридцать лет и три года, а в затертом школьной
программой рассказе Толстого 'По-сле бала' - черты архаического обряда
инициации [Жолковский
1990].
Даже в таких
произведениях русской литературы XIX века, которые, казалось, навсегда были
похоронены
199
бездарной советской школьной
программой и бездарным идеологизированным литературоведением, можно найти
черты, совершенно не укладывающиеся в рамки литера-туры средней руки. В
качестве примера можно привести 'Грозу' А. Н. Островского (см. [Руднев 1995а]).
По иронии судьбы новаторскую суть
творчества Л. Н. Толстого на примере ранних 'Севастопольских рассказов'
подчеркнул уже Н, Г. Чернышевский, гово-ривший в этой связи о 'диалектике
души', являющейся не чем иным, как изображением внутренней речи и вну-тренней
душевной жизни героя. И именно Лев Толстой впервые дал образец 'потока
сознания' в романе 'Ан-на Каренина' в сцене, когда Анна едет домой, а потом на
станцию:
'Всем нам хочется сладкого, вкусного. Нет конфет, то грязного
мороженого. И Кити также: не Вронский, то Левин. И она завидует мне. И
ненавидит меня. И все мы ненавидим друг друга. Я Кити, Кити меня. Вот это
правда. Тютькин, coiffeur... Je me fais coiffeur par Тютькин... Я это скажу
ему, когда он приедет [...] "Да, о чем я последнем так хорошо думала? -
старалась вспом-нить она. Тютькин, coiffeur? Нет, не то"'.
Вряд ли может
считаться реалистическим произве-дением 'Война и мир', построенная на
фальсификации русской истории и воспринимавшаяся современниками, не принявшими
толстовские предмодернистские огром-ные синтактические периоды и самый огромный
размер произведения воспринимавшими как нечто несообраз-ное, неправильно
построенное, как нелепый монстр [Шкловский 1928].
Говорить о реализме Достоевского после
работ М. М. Бахтина и В. Н. Топорова [Бахтин 1963; Топоров
200
1995а],
а также книги А. Л. Бема [Бем 1936],
в которой показана цитатная техника романов Достоевского, во-обще не
приходится.
Интереснее подчеркнуть, что и те
одиозные произве-дения русской, а затем советской литературы начала XX века,
которые составили корпус так называемого социа-листического реализма, во многом
строились на отраба-тывавшейся в 'фундаментальной', современной им ли-тературе
модернизма неомифологической схеме. Так, в центре горьковского романа 'Мать' -
несомненно евангельский миф о Богочеловеке, Спасителе, и Богома-тери. В таком,
казалось бы, насквозь советском произве-дении. как 'Железный поток'
Серафимовича, явствен-но проглядывают черты библейской мифологии - со-бытия вывода
Таманской армии из окружения под предводительством сильного вождя Кожуха
накладыва-ются на события исхода иудеев из египетского плена под
предводительством Моисея.
Реализм - скорее всего не
реальное обозначение ли-тературного направления, а некий социально-идеологи-ческий
ярлык, за которым не стоит никаких фактов.
Как же в таком случае можно
описать этот период русской литературы, пользуясь общепринятой термино-логией?
Думается, можно сказать, что это была литера-тура позднего романтизма. Ведь
именно так обстояло дело в других искусствах, наиболее бесспорно в музы-ке,
которой, впрочем, в советское время также приклеи-вали 'реалистический' ярлык.
В пользу последнего решения
говорит следующее рассуждение. В свое время Дмитрий Чижевский пост-роил
универсальную схему чередования художествен-ных направлений в Европе, так
называемую 'парадиг-му Чижевского' [Czyzewsky 1952] (см. также [Чернов 1976]).
Согласно этой схеме, начиная с XIV века евро-
201
пейское искусство развивалось по
принципу чередова-ния двух противоположных направлений. Одно из них было
обращено вовне, в мир, и содержание в нем гла-венствовало над формой. Первым
таким направлением был Ренессанс. Когда такой тип искусства исчерпывал свои
возможности, на смену ему приходил противопо-ложный, тексты которого были
направлены внутрь себя, интровертированы, а форма главенствовала над содер-жанием.
Первым типом такого искусства было барокко. Потом цикл возобновляется - вновь
появлялось 'ис-кусство верха', которое закономерно сменялось 'искус-ством низа'.
В классическом виде парадигма Чижевско-го представляется в виде следующей
кривой:

Реализм находил
здесь закономерное место в одном 'подъеме' с Ренессансом и классицизмом. Но при
этом во второй половине данной схемы явно обнаруживается аберрация близости:
первые три направления длятся по 100-150 лет каждое, занимая в среднем 4
столетия - с XIV по XVIII век. Что же происходит дальше?
Романтизм
развивается активно на протяжении мак-симум 50 лет (первая половина XIX
столетия); так назы-ваемый реализм - тоже около 50 лет (вторая половина XIX
века), столько же - классический модернизм: до второй мировой войны
(послевоенная литература, начи-ная с 'нового романа', является чем-то новым,
предвес-тием современного постмодернизма).
202
Не проще и не логичней ли полагать,
что с начала XIX века и до середины XX столетия длилось какое-то одно большое
направление, которое можно назвать Ро-мантизмом с большой буквы и граница
окончания кото-рого приходится на середину нашего века. И тогда это направление
закономерно впишется в 'стандартный' формат 150 лет. Такие же понятия, как
сентиментализм, романтизм с маленькой буквы, натурализм, реализм, символизм,
футуризм, акмеизм и т. д. в этом случае бу-дут обозначением течений внутри
этого большого на-правления.
Если так, то термин 'реализм'
закономерно изыма-ется из истории культуры, оставаясь реликтом истории
культурологии.
Если ночные сны выполняют ту же функцию, что и
дневные фантазии, то они также служат тому, чтобы подготовить людей к любой
возможности (в том числе и к наихудшей).
[Л.
Витгенштейн]
Люди сидят на
террасе и пьют чай. Мы смотрим на них и понимаем, что это происходит на самом
деле, это настоящая жизнь. А вот то же самое, но только мы си-дим в зрительном
зале, а на сцене декорации в виде тер-расы, на которой сидят загримированные
актеры и тоже пьют чай. Но мы понимаем, что это - не жизнь, это 'по-нарошку'.
Будем называть первую ситуацию
реальностью, а вто-рую - текстом. Реальность как будто бы существует са-ма по
себе, она никого не 'трогает' и ничего не значит. Если чай выпит, то его уже
обратно в чайник не выльешь, а если блюдце разбилось на мелкие кусочки, то
можно утешиться только тем, что это к счастью. В тексте все на-оборот. Он не
существует сам по себе, а только показыва-ет себя кому-то, и он обязательно
должен 'трогать' и значить. И если чай выпит и блюдце разбилось на пре-мьере,
то на втором спектакле те же актеры будут пить 'тот же' чай и будет разбиваться
'то же' блюдце. Так различаются текст и реальность. Но все не так просто.
Текст и реальность могут
переходить друг в друга, то есть обладают свойством нейтрализации. Причем нейт-204
рализация эта может проходить как
по тексту, так и по реальности.
Нейтрализацией по реальности мы
называем такой случай, когда происходящее в тексте (например, на сце-не)
воспринимается так, как будто оно происходит в ре-альности. Г. Рейхенбах в
книге 'Направление времени' приводит следующий пример.
'В кинематографической версии "Ромео и Джульет-ты" была
показана драматическая сцена. В склепе ле-жит безжизненная Джульетта, а Ромео,
который счита-ет, что она умерла, поднимает кубок с ядом. В этот мо-мент из
публики раздается голос: "Остановись!". Мы смеемся над тем, кто,
увлекшись субъективными пере-живаниями, забыл, что время в кино нереально и
явля-ется только развертыванием изображений, отпечатан-ных на киноленте' [Рейхенбах
1962: 25].
Нейтрализацией
по тексту мы называем ситуацию, когда происходящее в реальности воспринимается
че-ловеком как текст, как игра. Так, в 'Герое нашего време-ни' Грушницкий затевает
шутовскую дуэль, чтобы по-ставить в унизительное положение Печорина. Но Печо-рин
узнает о готовящемся розыгрыше, и в ловушку попадает сам Грушницкий. Думая, что
участвует в ра-зыгранной дуэли, он ведет себя беспечно, но дуэль ока-зывается
настоящей, и Грушницкий погибает.
Мы получим те же два типа
нейтрализации, если вместо текста подставим сновидение. Сновидение и ре-альность
также могут нейтрализоваться. Человек во сне склонен думать, что все
происходящее происходит на-яву, на самом деле, но потом оказывается, что он
просто спал и видел это во сне. Это нейтрализация по сновиде-нию. Нейтрализация
по реальности, напротив, предпо-
205
лагает, что человеку кажется, что
он спит, в то время как все происходит в реальности. Так, у Достоевского в по-вести
'Дядюшкин сон' престарелый князь вначале на-яву делает предложение молодой
героине, но затем все убеждают его, что это ему только приснилось.
В этом смысле сон отличается от
текста тем, что для восприятия художественного произведения нейтрализа-ция
является все же крайностью, в то время как для сно-видения это скорее норма.
Спящему более свойственно полностью 'верить' в реальность того, что с ним про-исходит
во сне, сколь бы фантастичными ни были эти события, чем видеть сон и знать, что
это сон.
Но у сновидения есть еще одна
особенность, которая отличает его и от текста, и от реальности и которая ставит
его в особые условия, в условия 'третьей реальности'.
Так же, как и в художественном
произведении, в сно-видении отсутствуют значения истинности: и там и здесь то,
что происходит, не происходит на самом деле. Но в художественном вымысле
вымышленные объекты закреплены вполне материальными сущностями - зна-ками:
словами и предложениями в литературе, красками в живописи, живыми актерами и
реквизитом в театре, изображением на пленке в кино.
В сновидении этих знаков нет. Во
всяком случае, нам неизвестна и непонятна их природа. Сновидение семи-отически
неопределенно. Из каких субстанций ткется его канва? Из наших мыслей, фантазий,
образов. Но это не знаки. Мы не можем определить частоту мысли, скорость
фантазии или весомость образа в физических единицах измерения. В то же время мы
всегда можем сказать, сколь-ко минут длится фильм и какие актеры заняты в
главных ролях, мы знаем, сколько страниц в романе, каким разме-ром написан
'Евгений Онегин' и при желании можем даже сосчитать количество букв в 'Войне и
мире'.
206
Сновидение -
не разновидность текста, оно нахо-дится на границе между текстом и реальностью.
Мы можем
выделить в рассказанном сновидении но-веллу, ее сюжет, композицию, мотивы и их
различное проведение в тексте, мифологические архетипы, но при этом мы не
должны забывать, что сновидение - это особый вид творчества, направленный на
обмен инфор-мацией между сознанием и бессознательным. Выявить механизм этого обмена
и характер этой информации - одна из важных задач психокибернетического исследо-вания
сновидений.
Сон
метафорически связан со смертью: умерший - это тот, кто 'спит вечным сном' или
'как убитый'; зна-чение 'покой' связано как со сном (почивать), так и со
смертью (почить). Сон метонимически связан с любо-вью: для сна и для любви
отведено одно и то же место и время; любовь - это 'сладостный сон'. Тема любви
и смерти не может, таким образом, не играть главенст-вующей роли в сновидении,
поскольку само сновидение является метафорой смерти и метонимией любви.
В свою очередь
связь мифологем любви и смерти (эроса и танатоса) тоже очевидна. Мы коснемся
лишь тех аспектов этой связи, которые имеют отношение к моделированию
пространства.
Пространство
является наиболее маркированной ха-рактеристикой сновидения. Когда мы говорим о
моде-лировании сновидения, то необходимо помнить, что спящий прежде всего лежит
неподвижно с закрытыми глазами, как мертвец или как человек после coitus'a.
Пространство, как мне кажется, потому играет в снови-дении столь решающую роль,
что это пространство любви и смерти. Что же это за пространство? Прежде всего
это пространство 'материально-телесного низа' [Бахтин 1965], узкий 'коридор' [Моуди 1991]
(vulva), в
207
который проталкивается умерший
(penis). Ощущение тесноты, узости и необходимости проникнуть в это уз-кое
тесное пространство, чтобы 'овладеть' им, есть не-обходимое условие
осуществления мифологических ак-тов любви и смерти (Лев Толстой не читал трудов
док-тора Моуди, однако и у него в 'Смерти Ивана Ильича' это проталкивание,
протискивание имеет место: 'Он хотел сказать: 'Прости', но сказал: 'Пропусти').
Лю-бовь и смерть тесно связаны своей онтологической ам-бивалентностью.
Материально-телесный низ, vulva и anus, символизируют землю и языческую
преиспод-нюю, функция которой - сперва умерщвление, а потом воскресение (ср. в
Евангелии о зерне, которое, если не умрет, останется одно, а если умрет, то
принесет много плода). То же самое в акте coitus'a, овладении землей. Попрание,
истаптывание, погружение в лоно земли, ри-туальное умирание приводит в принципе
к рождению новой жизни.
Это нелегко дающееся,
по-видимому, человеческо-му сознанию мифологическое тождество любви и смерти
реализуется в сновидении. В фильме Кокто 'Орфей' смерть в образе влюбленной в
героя прекрас-ной женщины приходит к нему по ночам и смотрит на него спящего.
Я попытаюсь конкретизировать эти
замечания на при-мере цикла снов Ю. К. (см. Приложение на с. 219-224), присланных
по почте в Институт сновидений и вирту-альных реальностей. Надеюсь, что
интересный матери-ал перевесит некоторую неизбежную тривиальность то-го, что
было сказано выше.
Доминантой любого сновидения мы
считаем его пространственную характеристику, которая, по нашему мнению,
является картиной пространства любви и смерти. Картина первого 'кадра'
сновидения 1 пред-
208
ставляется в
этом плане весьма богатой и интересной. 'Героиня' стоит на лестнице. Наверху
библиотека име-ни Ленина, внизу снуют машины. Прежде всего посмо-трим на то,
как пространство верха соотносится с про-странством низа.
|
Верх
|
Низ
|
|
библиотека
|
машины
|
|
неподвижное
|
движущееся
|
|
единое
|
множественное
|
|
каменное
|
металлическое
|
|
духовность
|
бездуховность
|
|
знание
|
сила,агрессия
|
При этом верх и низ
нейтрализуются по признаку 'живое / мертвое', противопоставляясь как единый
член с признаком 'мертвое' мечущейся между ними живой героине.
Итак, наверху величественный храм
знаний, увенчан-ный именем вождя (Ю. К. - профессиональный библи-отечный
работник, скорее всего ГБЛ - одно из мест ее службы); этот храм - убежище,
правда с некоторым ук-лоном в мертвую духовность по-советски. Внизу агрес-сивные
механические объекты, контакт с которыми страшен, но, по-видимому, неизбежен,
во всяком случае, если нужно перейти через дорогу - не век же торчать на
лестнице. Фрейд однозначно связывает лестницу с половым актом [Фрейд 1991], В. Н. Топоров - более гибко - с
экзистенциальным моментом выбора, перехо-да из одного пространства в другое [Топоров 1983].
Что же делает Ю. К.? Похоже, она
готова основатель-но застрять на лестнице, на которой, как ей кажется, она в
безопасности - 'не могут же они меня достать'. Но они, оказывается, могут.
209
Одна машина отделяется от других,
въезжает на лест-ницу, проглатывает героиню и перемалывает ее своими лопастями.
Последняя реплика этого абзаца: 'Понимаю:
смерть, темнота'. Но это,
конечно, не только смерть, но и половой акт, показанный инверсивно. Машина
безус-ловно имеет агрессивно-фаллический характер, однако она же символизирует
и вульву с разверстой пастью, ку-да погружается тело героини и в которой оно
затем деструктурируется. Тот факт, что здесь имеет место несо-мненный половой
акт, помимо фрейдовских ассоциаций мотивно поддерживается другими снами этого
цикла.
Так, в сне 2, который мы потом
рассмотрим подроб-нее, 'большое блестящее оружие' и 'рога' на касках солдат
(тоже механическое, металлическое и агрессив-ное) имеют безусловно сексуальный
характер, тем более, что затем следует договор о совокуплении с солдатом как
плате за жизнь. Распадение на части в результате полово-го акта (перемалывания
машиной) прямо манифестиро-вано в последнем сне: 'Это так сильно, что, кончая,
я рассыпаюсь на атомы, молекулы, песчинки'.
Связь машины с половым актом
неожиданно вновь вызывает ассоциацию со Львом Толстым, на сей раз с 'Анной
Карениной': когда паровоз давит героиню (как машина в сне Ю. К.), это мотивно
редуплицирует мо-мент знакомства Анны с Вронским на железной дороге, когда
поездом давит какого-то человека. Машина снит-ся Анне и Вронскому в образе
'железа', над которым говорит французские слова мужик.
Машина в русской культуре - это
дьявольское, ан-тихристово изобретение (для Толстого дьявол и плот-ская любовь
- просто разные названия одного и того же). Так, в 'Грозе' Островского
привыкшие к отсутст-вию движения горожане воспринимают паровоз как ипостась
черта.
210
Наконец,
машина просто связана со смертью, унич-тожением, превращением в ничто в
философии техники XX века [Хайдеггер 1987].
Итак, ясно,
что поглощение и расчленение маши-ной - это смерть и половой акт. Но это не
просто смерть и не просто половой акт. Это ритуальная смерть и ритуальный
половой акт. Это обряд инициации. Пожи-рание, поглощение и пребывание в чреве
тотема - один из элементов инициации. Так пророк Иона пребывал в чреве кита. В
волшебной сказке при переправе в царст-во мертвых герой либо превращается в
своего тотема, либо зашивается в его шкуру, то есть символически по-глощается
им [Пропп
1986]. Так он переправляется в царство мертвых для
последующего воскресения и пре-ображения.
Инициальной
мифологической смерти также соот-ветствует расчленение тела на части, о чем
любил пи-сать Бахтин [Бахтин 1965]. Ср. в сне 9: героиня
превра-щается в дым, чтобы уйти от преследования. Вообще изменение агрегатного
состояния или структуры в сто-рону упрощения характерно для мифопоэтического мо-делирования
смерти, впрочем, как и для научного: в со-ответствии со вторым началом
термодинамики вместе со смертью, если рассматривать ее как сугубо естест-венно-научный
феномен, резко увеличивается количе-ство энтропии и тем самым понижается степень
слож-ности объекта до тех пор, пока он не превращается окончательно в
равновероятное соединение со средой.
Подобно
смерти, половой акт в сновидениях Ю. К. также мыслится как распадение и
упрощение. Он пред-ставляется чем-то механическим в принципе, отсюда и
символика машины и огнестрельного оружия. Такое мо-делирование интимных
отношений прослеживается и в других снах цикла.
211
В сне 3
любовная игра прерывается хлопушкой, ока-зывается, что это снимают фильм. В сне
5 подчеркива-ется внутренняя пустота и мертвенность его персона-жей, занятых
любовными отношениями. В сне 13 на ло-же рядом с возлюбленным героини лежит
женщина - ее двойник - со следами мертвенности и разложения. Итак, плотская
любовь явно представляется Ю. К. в ее снах как нечто пустое, мертвенное и
механическое, рав-нозначное, скажем так, смерти души. И наоборот, лю-бовь
платоническая для нее наиболее высокое и силь-ное эмоциональное наслаждение -
сон 7, в котором она смотрит на спящего отрока, и сон 12, в котором она смотрит
на спящего возлюбленного. Физическая бли-зость кажется ей обманом и
предательством по отноше-нию к высокой духовности (к тому, символом чего явля-ется
библиотека). Сновидение путем пространственной инициации выявляет ее
представления, безусловно раз-венчивает их и в каком-то смысле обучает ее
адекватной оценке себя и своих представлений о мире.
Посмотрим, что происходит дальше.
Второй кадр: темнота сменяется светом. Реализуется классическая схема из книги
Моуди: из темного и тесного пространст-ва любви - смерти она выходит на широкий
'реанима-ционный' простор. При этом мизансцена почти повторя-ет мизансцену
первого кадра. Только вместо библиоте-ки - холм-чистилище, а вместо машин -
подни-мающиеся по холму души умерших. Чистилище во мно-гом служит аналогом
библиотеки - своеобразной усы-пальницы идей (ср. аналогичную философию библиоте-ки
у Эко и Борхеса). Люди одеты в серую мешковину, как будто это монахи. Но если
вспомнить Фрейда, то, конеч-но, это никакие не монахи. Смысл этого
мизансценического повторения, как мне кажется, в следующем. Сексу-альные
испытания, через которые Ю. К. должна пройти,
212
хоть она и не хочет этого,
простираются и на этот пери-од после смерти. Два человека с фаллическими
свечами отделяются от толпы (как раньше от машин отделяется одна машина - повторяется
именно этот глагол 'отде-ляется') и подходят к ней. Сексуальное начало
'сансарически' преследует ее и после инициационной смерти. Двое со свечами
зовут ее вновь приобщиться к смерти-очищению через секс. Но она отвергает этот
путь, кото-рый кажется ей слишком механическим и недостойным, разрушительным.
Она ссылается на деструкцию своего тела, как будто говоря: 'Посмотрите, к чему
это приво-дит!' И тут, как мне кажется, выявлено самое главное в этом
сновидении. Она слишком привязана к своему телу, она отождествляет свое тело со
своей сущностью - по-этому она говорит: 'Меня нет - я поломанные кости и
грязное тряпье'. Деструкция (дефлорация?) пугает ее. И поэтому от толпы идущих
в чистилище душ ее отделяет невидимый барьер, как будто она заколдована, оскверне-на
и поэтому, как ей кажется, не может следовать за все-ми в чистилище. Это и
приводит ее к фрустрации - 'опять одна и ничья часть', - которой и
заканчивается сновидение.
Итак, сон
пытается скорректировать ее сознание, но она слишком привязана к своему телу и
своей ментальности. Последним фактором обусловлено то, что она все время
высказывает некие эпистемически окрашен-ные суждения, которые сон тут же
опровергает. Она ду-мает о машинах: 'Не могут же они меня достать', - и тут же
одна из машин въезжает на лестницу и поглоща-ет ее. Она говорит после этого:
'Понимаю: смерть, тем-нота', - и тут же появляется свет. В финале сна она го-ворит:
'Неужели это проклятье одиночества и здесь, опять одна и ничья часть'.
Следующий сон опроверга-ет и это суждение. В этом втором сне, с одной стороны,
213
ситуация во многом повторяется,
во всяком случае, по-вторяются ее отдельные узлы: толпа обреченных на смерть,
механическое сексуальное начало в образе сол-дат в касках с рогами и большим
блестящим оружием, которые ведут толпу, очевидно, на расстрел (рога здесь
помимо сексуального смысла имеют еще метафоричес-кое значение: враги,
'животные' с рогами, ведут 'ста-до' людей - достаточно утонченная, хотя и
типичная для сновидения инверсия). Но, с другой стороны, по сравнению с первым
сном здесь все наоборот. Если в первом сне Ю. К. не может приобщиться к толпе,
к ду-ховной, так сказать, смерти, то здесь, напротив, она стремится спастись от
смерти (и тем самым вырваться из толпы) любой ценой. Сновидение как будто
говорит ей: ты ненавидишь или презираешь секс и считаешь, что не можешь
очиститься. Так вот тебе, пожалуйста, выбирай. И она действительно предпочитает
грязное совокупление с вражеским солдатом в каске с рогами - только бы избежать
смерти. Сновидение будит в ней здоровую эгоистическую реакцию, и не напрасно.
Сол-дат режет колючую проволоку садовыми ножницами (вновь символическая
деструкция - дефлорация), и они через темную 'моудианско'-'фрейдистскую' тру-бу-коридор
попадают в грязную зловонную землянку бахтинского материально-телесного низа.
Здесь снови-дение перескакивает на десяток часов вперед, и мы ви-дим, как она
пытается отмыться под рукомойником и за-тем, посулив солдату нечто
раблезианское, устремляет-ся вверх по трубе, к свету. Но не тут-то было,
наверху ее поджидают солдаты, чтобы 'добить' - и кажется, что все вновь может
повториться сансарически. 'Уж давно бы отмучилась', - сетует Ю. К., но опять
она оказыва-ется неправа. Главное испытание впереди. Она вдруг вспоминает о
детях, что надо спасать детей. И тут она
214
делает то, чему, как кажется, и
хочет научить ее снови-дение. Она бросает свое тело. Она перестает отожде-ствлять
себя со своим телом. Теперь она практически неуязвима. Надо только спасти
детей. Дети оказывают-ся яйцом, лейтмотивной вариацией той невидимой обо-лочки,
которая не пропускала ее к душам умерших в первом сне. Теперь она сама стала
душой, и оболочка-яйцо осязаема и тяжела. Ее надо отнести куда-то, к дру-гим
душам, спасти.
Итак, вместо деструкции тела -
оставление тела. Теперь последнее испытание - черный ажурный мост, через
который надо пройти и пронести детей. Это, ко-нечно, вариант лестницы между
библиотекой и маши-нами, но это лестница без ступеней, ибо сексуальное
испытание позади, сапоги солдат топают где-то за спи-ной, но догнать уже не
могут; она добегает до толпы, и толпа, сомкнувшись, принимает ее. Черный мост -
пе-реправа в загробный мир. Но по мифологической логи-ке сновидения выполнение
задачи, прохождение испы-тания путем жертвы невинностью и чистотой, осозна-нием
неважности телесного, что является результатом этого испытания, возвращает ей
вместе с приобщением к толпе, то есть вместе со смертью, ощущение своей
личности и целостности, то есть возрождает ее: 'Про-клятье кончилось, мне не
нужно быть ничьей частью, не нужно ни к кому лепиться. Я сама целое'.
Здесь вспоминается знаменитый
фильм Золтана Фа-бри 'Пятая печать', в котором фашисты, чтобы сло-мить личность
и унизить раз и навсегда достоинство героев, заставляют их давать пощечину
висящему пе-ред ними израненному и замученному партизану (функционально -
распятому Христу), после этого обещая отпустить, поскольку сломленные им не
страш-ны. Герои, слишком привязанные к жизни, к телу и сво-
215
им нравственным установкам,
отказываются делать это, и их убивают. Лишь один главный герой пересиливает
себя и дает пощечину мученику, чтобы спастись самому и тем самым спасти детей,
которых он прячет и которые погибнут без него. Надо сказать, что, судя по
другим снам Ю. К., кинематографические аналогии здесь в прин-ципе вполне
оправданны. Так, весь третий сон - с хло-пушкой - построен по модели фильма
Вайды 'Все на продажу', в котором тоже на самом интересном месте щелкает
хлопушка: оказывается, что все происходит 'не на самом деле'. В сне 4 возможна
аналогия с фильмом Бергмана 'Земляничная поляна'. В сне Ю. К. большие круглые
часы в витрине позволяют вспомнить часы без стрелок в 'Земляничной поляне'
(первое предложение сна: 'Пустой европейский город, наверное Швеция'). Ча-сы
без стрелок, символ отсутствия времени, не случайны в сновидении, где время
практически отсутствует. Харак-терно, что в сне 12 часы показывают половину
третьего и в начале сна, и в конце, хотя за это время героине при-ходится
преодолеть большое пространство.
Итак, вся обучающая процедура сна
проходит в рез-ко маркированном пространстве: на лестнице, между библиотекой и
машинами, на холме перед чистилищем, в толпе, темной трубе и зловонной
землянке, на черном ажурном мосту и опять в толпе. И это пространство яв-ляется
пространством смерти, понимаемой позитивно-ритуально, будучи проведенным через
пространство плотской любви. Таким образом, сон - в числе проче-го - это
процесс обучения смерти, своеобразный танатологический аутотренинг. Как и миф,
сон учит, что каждый раз, когда человек погружается в женское лоно (и наоборот),
- это безусловно нечто весьма родствен-ное смерти и именно как к смерти
(символической смерти) к этому надо относиться. Но как погружение в
216
лоно чревато новым рождением, так
и за смертью после-дует возрождение. Не следует только придавать слиш-ком большого
значения своему телесному 'я' и слиш-ком чопорно относиться к проявлениям
грубой сексу-альности. Также он учит здоровому эгоизму, который оборачивается
истинной жертвенностью, и предостере-гает от излишней этической
избирательности, которая ведет к ложному отождествлению себя со своим телом и
тем самым к духовному омертвлению.
Утверждение о
мифологическом характере сновиде-ния, взятое за аксиому, достаточно
тривиальную, тем не менее влечет за собой гораздо более нетривиальный во-прос.
Когда мифологическое мышление распадается и перетекает в словесную форму, то
рождаются лирика и эпос. Аналогией этому распадению мифа является перетекание
самого сновидения в рассказ о нем, который представляет собой обыкновенный
текст, хотя и с явны-ми следами своего необыкновенного прошлого. Спраши-вается:
что такое рассказ о сновидении - лирика или эпос? Однозначно ответить на этот
вопрос невозможно. Формально это проза, но только формально. Каждый жанр прозы
обладает своим функциональным обеспече-нием: речь на суде должна обвинять или
оправдывать, донос - приносить вред, анекдот - смешить, сплет-ня -
заинтересовать, страшная история - пугать. Наи-более утонченный вид прозы -
художественная проза - обладает эстетической функцией, - рассказывая о несу-ществующих
объектах, она рассказывает о богатстве и возможностях человеческого языка. Но
можно ли ска-зать, что сновидение рассказывает о несуществующих событиях? В том
смысле, в каком это делает художест-венная проза, нет. Прозаику ничего не стоит
ввести ка-кие-то вымышленные собственные имена и сплести во-круг них пучок
дескрипций, сделать все, чтобы выдуман-
217
ные имена ожили, и действительно
в определенном смысле оживляя их. Гамлет, Дон-Кихот, Дон-Жуан, д'Ар-таньян,
Шерлок Холмс функционируют в культуре почти так же, как Сократ, Фридрих
Барбаросса, Робеспьер или Пушкин. В сновидении этого нет, оно очень осторожно
оперирует с собственными именами. Практически оно не вводит пустых собственных
имен: если речь идет о ком-то незнакомом, оно описывает его через дескрипции. Когда
в романе говорится 'Он вышел из дома', ясно, что не имеется в виду событие из
реальной жизни, наличие которого можно верифицировать. Проза не является про-токолом,
описывающим какой бы то ни было опыт. Она этот опыт придумывает. Сновидение
описывает некий опыт, хотя и очень странный и с естественно-научной точки
зрения кажущийся вырожденным. В этом смысле сновидение гораздо ближе поэзии,
которая тоже, как пра-вило, не 'врет', описывая виртуальный опыт сознания как
виртуальный опыт сознания. Но близость к поэзии у сновидения, конечно, скорее
идеологическая. На фор-мальном уровне в сновидении событийная сфера играет
гораздо большую роль, чем в поэзии, и гораздо меньше места в сновидении
занимает ритмический канал, без ко-торого поэзия невозможна.
Выход такой. Само сновидение,
конечно, просто не-знаково, как и миф. Когда миф рассказывается или запи-сывается,
он перестает быть мифом и становится в луч-шем случае памятью о нем. Так же и
сны рассказывают для того, чтобы сохранить память о настоящих снах, ко-торые
рассказать адекватно невозможно. Но мнемони-ческая функция предполагает
важность того, что запо-минается. Тот факт, что миф представляет собой некие
коллективные инструкции, не вызывает сомнений. Воз-можно, что обучающая функция
снов также сама пред-полагает установку на их запоминание.
218
1. Стою на лестнице, ведущей к библиотеке Ленина. Лестница высокая, и я
наверху, как на острове, вокруг несутся машины, страшно, но думаю: 'Не могут же
они меня достать. Я наверху, а они внизу', и вдруг одна из них отделяется,
заезжает на лестницу, накрывает меня и, коверкая какими-то железными лопастями,
съезжает вниз. Понимаю: смерть, темнота.
Становится
светло, источника света нет, свет мягкий, как в сумерках. Внизу холм, покрытый
густой рыжей травой, наверху идет бесконечная вереница людей, в ру-ке по
свечке. В чистилище идут. Они одеты в серые меш-ковины, а я лежу грудой рваных
костей и кровавого тря-пья. Тени-люди смотрят на меня с осуждением. Хочу
сказать: 'Как же мне пойти за вами, меня нет - я поло-манные кости и грязное
тряпье'. Но от вереницы отде-ляются двое, подходят, протягивают горящие свечи,
и встаю и иду, пытаюсь встать с ними, к ним в эту очередь, а она окружена
чем-то невидимым и это не пробить, сквозь это не пройти. Иду какое-то время
рядом, но встать с ними не могу и думаю: 'Неужели это проклятье одиночества и
здесь, опять одна и ничья часть'.
2. Лето,
жаркий, желтый день. Огромную толпу го-лых людей гонят по дороге военные в
касках с рогами. У них сытые породистые лица, они высокие, хорошо, чисто
одетые, у них большое блестящее оружие. Они гонят нас убивать. Один из солдат
дает мне понять, что могу спастись, и понимаю, какой ценой. 'Лучше быть
грязной, но живой, чем чистой, но мертвой', как потом разобраться со своей совестью,
знаю. Отмоюсь, отмо-лю. Киваю солдату. Он достает садовые ножницы и ре-жет
колючую проволоку, тянущуюся вдоль дороги, и мы
219
уходим. По трубе попадаем в
землянку. В липкую грязь с цыганским грязным тряпьем на лежанке.
Такой грязи и нищеты не бывает,
но мы там. Наутро моюсь под дачным рукомойником, собираю тряпье, что-бы
прикрыться, а эта сытая рожа смотрит брезгливо и что-то думает про себя. 'Что
смотришь? - говорю. - Хотела бы видеть, как бы ты обосрался, если бы тебя ве-ли
умирать'. А, что тут. Свободна, повернулась и пошла наверх. Вылезаю из трубы, а
там ослепительный белый свет и вокруг дыры стоят эти в касках с рогами. Вот, ду-маю,
сделки с совестью как проходят. Сейчас бы уже от-мучилась со всеми, а теперь
они будут меня одну лениво добивать. Вдруг вспоминаю, что дома у меня остались
дети. Оставляю им тело и несусь домой, нужно спешить, они скоро поймут, что
тело без души, догонят и отберут детей. Влетаю в дом, а двое детей, огромное,
длинное яй-цо, заворачиваю в тряпку и тащу. Это страшная тяжесть, но я тащу и
тащу, обрывая руки, слышу за собой топот сапог, и вдруг невиданной красоты
черный ажурный мост, не через что, через серый воздух, бегу по нему на-верх, он
без ступеней, горбатый, они тоже уже на мосту, но множество людей искрой
высыпают и заполняют мост, их сжимают, а меня пропускают. Они со своим ору-жием
беспомощны, а я свободна, спасена. Толпа приняла меня. Проклятие кончилось, мне
не нужно быть ничьей частью, не нужно ни к кому лепиться, я сама - целое.
3. Комната.
Пусто. На огромной низкой тахте без оде-яла лежит обнаженная пара. Они спят.
Медленно просы-паются, легко касаясь друг друга. Игра становится рит-мичной,
активной. Вот уже, вот скоро, вот сейчас. Вдруг выходит женщина с киношной
хлопушкой: 'Все, все, все сначала, дубль 2!'
4. Пустой
европейский город, наверное Швеция. Ран-нее утро. Зима. Большие круглые часы в
витрине. Впере-
220
ди идут трое в черных длинных,
дорогих пальто. Вернее, двое идут по бокам, а третьего, подперев плечами, та-щат,
но идет как-то странно. Не успев об этом подумать, как двое, что-то почуяв, то
есть почуяв, что она за ними наблюдает, бросают среднего, и он падает спиной
навз-ничь, головой сухо и надтреснуто стукаясь об асфальт. Он мертв. Зима, идет
снег, он покрывает все. Но это не снег - это седые волосы.
5. Северный европейский город.
Моря не видно, но оно чувствуется везде и ветром, и запахом. Я иду с дру-гом и
говорю ему: 'Все говорят "жизнь", "жизнь" - слово одно, а
каждый вкладывает только свое'.
Дом с верандой, с большими
окнами, сад, свет на ве-ранде. За столом сидят четверо - двое мужчин и две
женщины, рядом лежит рыжий сеттер. Двое из сидящих муж и жена. Они очень молоды
и так сосредоточенно любят друг друга, что даже дети им не нужны. Им не ну-жен
никто. Но так не принято жить, и за столом сидят он и она, его друг и ее
подруга. Эта маленькая компания держится их любовью, а она тем сильней, чем
сильнее предчувствие смерти. Умирает она, легко и быстро, ни от чего истаяла.
Тогда ее подруга, которой так нравилась эта жизнь двоих, решает занять ее место.
Подруга борет-ся за него, он сопротивляется, но не как живой человек, а как
манекен, у которого руки и ноги гнутся не в тех ме-стах. Он мертв и пуст, но
женщина честолюбива и актив-на, и она женит его на себе. Снова веранда, четверо
за столом. Он, она, ее теперь подруга и его друг. Рыжий сеттер развалился
рядом.
Но это уже другая жизнь.
6. Прихожу в
магазин, трогаю шубы, примеряю сапо-ги. Продавщица что-то лениво и хамовато
что-то гово-рит мне. Смотрю на нее и думаю: 'Не ведаешь, что тво-ришь'. Примеряю
сапоги, а она хамит в открытую. Я
221
поднимаюсь в воздух, вся кровь
шотландских королей во мне взбурлила, поднимаюсь в воздух, и начинается погром.
Рвутся с треском ткани, разбрасывается белье, какие-то тряпки, летят в пролет
пузырьки и банки, брынькает стекло окна, обваливаясь вниз. Я улетаю, я - ведьма.
7. Вхожу в
комнату, темно, тихо. Это спальня. Попе-рек кровати что-то белеет. Подхожу
ближе, в длинной белой рубахе чуть ниже колен лежит отрок, он спит, ему лет 11.
Он хрупок, худ, длинноног. Я стою над ним и долго на него смотрю. Ничего
острей, тоньше и больней я не чувствовала никогда ни во сне, ни наяву.
8. Учу сына
летать. Забираемся на крутой, высокий берег реки. Видно с него далеко, небо
чистое. Лето. Оде-ваю его, чтоб чувствовал полет, в длинную хламиду без
рукавов, она падает складками к ногам. Говорю ему:
'Со-о-обрались, по-о-одумали,
по-о-облетали'. Отрыва-емся, держась за руки, летим, отпускаем руки, несемся
поодиночке. За Сашкой распускается длинный хвост хламиды. Устали, нужно
садиться. Ах ты, Господи, зале-тели, не заметили как, в город. А там... стоят
люди вни-зу и целятся в нас из ружей. Страшно, не могу быстро ничего придумать,
просыпаюсь.
9. В квартире
одна, что-то делаю. Звонят в дверь, по-нимаю - за мной, пришли они, забирать,
увозить. Ки-даюсь к окну - высоко, мечусь, не знаю, куда прятать-ся, и вдруг
вижу вентиляционную решетку. Превраща-юсь в дым и уплываю струйкой между
клеточек. Последнее, что думаю: 'Отсюда уйти можно только ды-мом, только
дымом'.
10. Пустая
полутемная квартира. Одна. Вдруг откры-вается дверь, медленно, бесшумно,
цепенею, боюсь по-шевелиться, потом встаю, медленно подхожу к двери,
заглядываю, замираю, а за дверью пустота.
222
11. Мне
кажется, что проснулась, подхожу к окну своей комнаты на 10-м этаже, а там две
птицы, похожие на грифов, полуобщипанные какие-то. Редкие перья торчат
откуда-то из шеи, из их противного тела. Они подлетают к стеклу, стучат по
стеклу клювами и гово-рят: 'Мы пришли будить твою совесть'.
12. Кажется,
что просыпаюсь. Вижу свою комнату. На стене старинные часы с маятником.
Половина третьего. Проснулась от того, что хочется летать. Вскакиваю с кровати,
легко-легко взмываю на подоконник, прохожу голая боком сквозь стекло и
оказываюсь на карнизе. Взмываю вверх и знаю, куда я лечу. Подо мной город да-леко
внизу еле виден, как найду дорогу? Но ныряю вниз и точно приземляюсь на карниз
знакомого окна, прохо-жу сквозь стекла, тело легкое, маленькое, спрыгиваю и
оказываюсь в комнате, хорошо мне знакомой, спит на кровати, заложив руку за
голову, любимый, в комнате очень чисто, прохладно, открыта форточка. Хожу по
комнате, она кажется огромной, наверно я уменьшилась. Что-то трогаю, заглядываю
в книги, в записки. Пора уле-тать. Прохожу сквозь стекла, проделываю тот же
путь, возвращаюсь домой, приземляюсь на карниз, подошвы чувствуют холод. Зима.
Прохожу в комнату, как и рань-ше, сквозь стекло, смотрю на часы. Половина
третьего.
13. Прихожу к
любимому. Вокруг него прохладное чистое поле, он им окутан. Говорю ему: 'Я
ухожу от те-бя, мне трудно с тобой'. Его цвета - голубой, серый, белый, они
сгущаются, и под лицом появляется могу-чий лик. Это вряд ли человек.
Я стою перед
ним в темном, тяжелом платье, он каса-ется его рукой, оно слетает и падает к
ногам. Я стою пе-ред ним голая. Мы ложимся рядом на какое-то ложе, и со мной
рядом оказывается женщина, она голая, ей лет 45-48. Когда-то складное и
красивое тело уже покрыто па-
223
тиной, оно пусто. Я трогаю рукой
шею под волосами, трогаю грудь. Кожа сухая, мертвая, мне неприятно. Тог-да
любимый поворачивает меня к себе, и мы любим друг друга. Он говорит: 'Я только
начал въезжать в на-ши отношения. А ты только со мной стала женщиной - сострадательной,
мягкой и беспомощной'. Мы любим друг друга, вокруг ходят какие-то люди,
по-моему, они не видят нас. Мы любим друг друга. Это так сильно, что, кончая, я
рассыпаюсь на атомы, молекулы, песчинки. Когда возвращается способность видеть
и слышать, он обращается ко мне и спрашивает: 'Ну что? Поняла, кто здесь
хозяин?'
Слово, имя, мысль, интеллигенция на этой
стадии есть животный крик - крик неизвестно кого неизвестно о чем.
А. Ф. Лосев, 'Философия имени'
Если реальность
не такова, какой мы ее себе привык-ли представлять, то резонно предположить,
что и язык, который призван отражать реальность, устроен совер-шенно
по-другому, чем мы привыкли думать.
Собственные
имена не обладают значением в том смысле, что их денотаты не входят в классы
предметов, обладающих инвариантным значением. То есть класс носителей одного и
того же имени собственного (в том смысле, в каком здесь можно говорить вообще о
клас-сах, и до той степени, до которой разумно утверждать, что одно имя
собственное может принадлежать разным носителям) не обладает каким-то
отличительным свой-ством, благодаря которому его представители носят од-но и то
же имя.
Можно возразить, что, например,
имя Иван Сусанин указывает на мужской род и русскую этническую при-надлежность.
Но это характерно лишь для 'депроприоризованного' имени. В каждом имени имеются
элементы собственности и нарицательности. Мы можем назвать именем 'Иван
Сусанин', скажем, яхту или бригантину, и тогда мужской род и этническая
принадлежность отпа-
225
дут как неотъемлемые признаки
носителя этого имени, оставаясь лишь на коннотативном уровне.
Собственное имя непосредственно
замещает своего носителя. Оно, стало быть, по необходимости ассоции-руется с
ним, коннотирует ему. Поэтому 'значение' имени собственного, или его
парасемантика, строится исключительно из тех ассоциаций, которые вызывает у
кого-либо его носитель. Опять-таки можно возразить, что имя Мария, может,
например, довольно устойчиво ассоциироваться с Божьей Матерью, а имя Петр,
напри-мер, - с апостолом Петром. Но Мария и Петр - не на-стоящие имена.
Настоящее имя, полное, достаточно од-нозначно указывает на своего носителя.
Если же полное имя неизвестно, то для атрибуции имени его носителю используются
спецификаторы (шифтеры). 'Та Мария из шестого корпуса, полная брюнетка'. 'Петр,
грузчик в овощном магазине на Садовой'. Имя является семанти-чески полноценным
только в контексте высказывания (принцип экстенсиональности Витгенштейна).
И конечно, коннотаций в
парасемантике имени соб-ственного принципиально больше, чем семантических
составляющих у нарицательного имени. Стол может быть большим, маленьким,
деревянным, круглым, пря-моугольным, старым, облупленным, мраморным, поли-рованным.
Но никакой стол, пока он входит в класс сто-лов и остается нарицательным
именем, не может ассо-циироваться с каким-либо животным или напоминать
какого-нибудь политического деятеля. Последнее воз-можно лишь при
репроприоризации нарицательного имени, то есть частичном превращении его в имя
собст-венное. Если стол, о котором идет речь, является, на-пример, моим
уникальным столом, за которым я сижу двадцать лет и который достался мне в
наследство, то тогда можно сказать, что мой стол напоминает мне зуб-
226
pa или Бисмарка, и в этом случае
стол сможет стать но-сителем собственного имени, я могу назвать его Жанна д'Арк
или Уильям Питт младший.
Собственное имя обладает гораздо
большим потен-циальным количеством дескрипций, чем нарицательное имя. Один и
тот же стол нельзя описать как одновремен-но круглый и квадратный, а одного и
того же Наполео-на Бонапарта можно одновременно назвать великим и ничтожным,
огромным и мизерным. В последнем слу-чае размер, величина перестанет быть
постоянной, пе-реходя из области 'нарицательной семантики' в об-ласть
парасемантики имени собственного. Так, в 'Вой-не и мире' Болконскому, когда он
лежал раненый на Аустерлицком поле, появившийся Наполеон кажется не только
нравственно ничтожным, но и физически мизер-ным. Нерелятивный размер,
выраженный в сантимет-рах или футах, может относиться не к носителю собст-венного
имени, но лишь к телу, вещи, его пространст-венному асемантическому
эквиваленту.
Собственные
имена, переходя в нарицательные, теря-ют свою уникальность, становясь
элементами классов; нарицательные имена, переходя в собственные, начина-ют
подчеркивать уникальность их носителя и тем самым невозможность применения к
ним обычной семантичес-кой классификации. В этом смысле собственное имя глу-боко
мифологично, поскольку оно выстраивает вокруг себя мир с мифопоэтическими
законами, где господству-ют ассоциация и тождество всего со всем, 'всеобщее
оборотничество'. При этом нарицательный признак но-сителя имени собственного
может также мифологизиро-ваться. Так огромные физические габариты Петра I во-шли
в его прозвище Великий, символизирующее духов-ную и культурную мощь.
227
Сказанного все
же недостаточно для того, чтобы по-нять суть игры в 'китайскую рулетку'
(название взято из одноименного фильма Р. В. Фассбиндера, где кульмина-ция
сюжета связана с разыгрыванием этой игры; в рус-ской среде игра, как правило,
называется просто игрой в ассоциации), заключающейся в отгадывании имени соб-ственного
по произвольным ассоциациям, возникающим в качестве ответов играющих на вопросы
ведущего вро-де 'Какое это дерево?', 'Какое это животное?', 'Какой это
автомобиль?'. То есть сказанного недостаточно, что-бы понять, что когда один
человек спрашивает: 'Какое это животное?', 'Какое это дерево?' и 'Какой это
авто-мобиль?' и ему отвечают соответственно 'Лев', 'Дуб' и 'Чайка', он при этом
догадывается, что это Ельцин. Ведь в этой игре можно задавать любые вопросы о
любой сфе-ре реальности, но только сформулированные в виде мифопоэтического
тождества. Но можно ли свести такие парасемантические 'качества' Ельцина, как
лев, дуб, 'чайка', к таким обычным семантическим понятиям, как большой,
могучий, сильный, властный, официальный, царственный? То есть можно ли считать
такую ситуа-цию, когда просят просто перечислить качества человека,
эквивалентом игры в 'китайскую рулетку'? Тогда на во-прос о Ельцине один
скажет: сильный, властный, круп-ный; другой: неповоротливый, тупой,
авторитарный; а третий: добрый, честный, прямодушный, великий.
Но тут вопрос
скорее в другом. Ясно, что для игры больше подходят 'образы' вроде льва, дуба и
'чайки'. Но только ли для игры? Или вообще из этого складыва-ется 'значение'
имени собственного? И даже: или вооб-ще из этого складывается значение?
Собственное имя кардинально отличается от нарица-тельного тем, что в
его 'значение' входит фактор субъек-
228
тивной оценки. Не любить Ельцина
не то же самое, что не любить электробритву. В самом слове 'электробрит-ва' нет
ничего, во что можно было бы вложить субъек-тивную оценку. Можно любить или не
любить электро-бритву, но само слово 'электробритва' здесь ни при чем.
Но попробуйте произнести слово 'Жириновский' как нечто нейтральное.
Одни любят Жириновского, дру-гие его не любят. В чем же здесь разница по
сравнению с электробритвой? В самой природе имени собственно-го, которое
каким-то образом вбирает в себя субъектив-ную оценку. Можно сказать: 'При одном
слове "Жири-новский" меня начинает тошнить'. Но нельзя сказать:
'При одном слове
"электробритва" у меня начинаются судороги'. Отрицательные эмоции,
связанные с элект-робритвой, связаны с самой электробритвой, то есть с самой
вещью, а не с именем (ср.: 'При одном виде элек-тробритвы у меня начинаются
судороги'). Отрицатель-ные эмоции, связанные с Жириновским, неотъемлемо присущи
самому имени 'Жириновский'.
Представим себе игру в 'китайскую
рулетку', где за-гадываются Ельцин и Жириновский, причем один из за-гадывающих
- сторонник Ельцина, а другой - сто-ронник Жириновского. Тогда на вопрос:
'Какое это жи-вотное?' сторонник Ельцина ответит, скажем, 'Лев', а сторонник
Жириновского - 'Бегемот'. А на вопрос:
'Какое это
животное?' применительно к Жириновско-му сторонник Ельцина ответит, например,
'Шакал', а сторонник Жириновского, положим, - 'Тигр'. На во-прос о Ельцине:
'Какое это дерево?' сторонник Ельци-на может ответить 'Дуб', но сторонник
Жириновского тоже может на этот вопрос ответить 'Дуб', потому что слово 'дуб'
сильно проприоризировано, в нем одинако-во присутствуют и фактор положительной,
и фактор от-
229
рицательной оценки. Сторонник
Ельцина будет пони-мать под дубом нечто крепкое, устойчивое, царствен-ное, а
для сторонника Жириновского дуб будет симво-лизировать нечто косное, тупое,
тяжеловесное и толсто-кожее.
Отсутствие
постоянных семантических признаков заставляет имена собственные приобретать
признаки парасемантические. Вокруг имени сплетаются ассоциа-ции, которые крепко
держат его в своей паутине. Поэто-му 'китайская рулетка', легитимизирующая эти
пара-семантические признаки, становится апологией и апо-феозом бессмыслицы и
абсурда. Цель рулетки не только в том, чтобы отгадать, но и в том, чтобы
высвободить при этом доброе количество языкового абсурда. Ведь то, что Ельцин -
это, скажем, дуб, лев, 'чайка', Оли-вер Кромвель, Понтий Пилат, пиво
'Жигулевское', бронетранспортер, Михаил Ломоносов, Флор Федулыч, Иоганн
Себастьян Бах, ледокол 'Ленин', 'Братья Кара-мазовы', 'Борис Годунов' и т. д. и
т. п. - и есть абсурд с общесемиотической точки зрения. Но это особого ро-да
абсурд: это конструктивный абсурд, цель которого - энергетическое очищение путем
погружения в пучину бессмысленного, с тем чтобы снять семантическое на-пряжение
(или, напротив, с тем чтобы его создать).
В этом фундаментальное родство
'китайской рулет-ки' с любым амбивалентным мифопоэтическим актом, вернее, с
любым актом, понимаемым мифопоэтически, например с психоанализом, где столь же
фундаменталь-ной является техника конструктивно-бессмысленных ассоциаций, а
выздоровление, возможно, проистекает не только от разгадки (воспоминания
травматической ситуации), а от самого целительного погружения в пу-чину
бессмысленных бессознательных ассоциаций.
230
В книге
'Психопатология обыденной жизни' Фрейд рассказывает, как ему удалось угадать,
почему его па-циент, цитируя наизусть строку из Вергилия - 'Exoriar (е) aliquis
nostris ex ossibus netos!', - пропус-кает слово aliquis. Он заставляет его
высказывать вслух все бессмысленные ассоциации, которые ему приходят в голову:
'...Мне приходит в голову забавная мысль: расчле-нить слово следующим
образом: а и liquis'. - 'За-чем?' - Не знаю'. - 'Что вам приходит дальше на
мысль?' - 'Дальше идет так: реликвия, ликвидация, жидкость, флюид...' - 'Я
думаю, - продолжал он с ироническим смехом, - о Симоне Триентском, релик-вии
которого я видел два года назад в одной церкви в Триенте. Я думаю об обвинении
в употреблении хрис-тианской крови, выдвигаемых как раз теперь против евреев...
Я думал далее о статье в итальянском журна-ле, которую я недавно читал.
Помнится, она была оза-главлена: "Что говорит Св. Августин о
женщинах?" ... 'Теперь мне вспоминается святой Януарий, и его чудо с
кровью, но мне кажется, что это идет дальше уже чи-сто механически!' -
'Оставьте; и святой Януарий, и святой Августин имеют оба отношение к календарю.
Не напомните ли вы мне, в чем состояло чудо с кровью святого Януария?' - 'Вы,
наверное, знаете это. В од-ной церкви в Неаполе хранится в склянке кровь Св.
Януария, которая в определенный праздник чудесным образом становится жидкой.
Народ чрезвычайно до-рожит этим чудом и приходит в сильное возбуждение, если
оно почему-то медлит случиться, как это и было раз во время французской
оккупации. Тогда команду-ющий - или, может быть, это был Гарибальди? - от-вел в
сторону священника и, весьма выразительным
231
жестом указывая на выстроенных на
улице солдат, ска-зал, что он надеется, что чудо вскоре свершится. И оно
действительно свершилось...' [...] '...я внезапно поду-мал об одной даме, от
которой я могу получить извес-тие, очень неприятное для нас обоих'. - 'О том,
что у нее не наступило месячное нездоровье?' - 'Как вы могли это отгадать?' -
'Теперь это уже не трудно, вы меня достаточно подготовили. Подумайте только о
ка-лендарных святых, о переходе в жидкое состояние в определенный день, о
возмущении, которое вспыхива-ет, если событие не происходит...' - '...я должен
вам признаться, что дама, о которой идет речь, итальянка и что в ее обществе я
посетил Неаполь' [Фрейд 1990а: 208-210].
Все это не
означает, что играть в 'китайскую рулет-ку' или заниматься психоанализом можно,
так сказать, спустя рукава. Здесь безусловно нужна сосредоточен-ность, но эта
сосредоточенность совсем иного рода, чем та, которая необходима при решении
математических задач. Здесь самая грубая неточность таит неведомую удачу. Но
'китайская рулетка', так же как и психоана-лиз, - это не только разгадывание
загадки; это отноше-ние к языку и реальности определенным образом. Или даже:
это любое отношение к языку и реальности.
Как и зачем люди говорят? Если они не понимают друг друга, то они
начинают спорить (как Базаров и Па-вел Петрович в 'Отцах и детях'). Если они
хорошо по-нимают друг друга (как Печорин и Вернер в 'Герое на-шего времени'),
то они вообще молчат или говорят че-пуху, первое, что придет в голову. Беседа -
это либо мучительный поиск общих ассоциаций, либо любова-ние имеющимися общими
ассоциациями.
232
В чем смысл
разгадки? В том, что когда человек от-гадывает, у него и у того, кто загадал,
появляется ощу-щение языковой, а стало быть, духовно/душевной общ-ности. 'Он
отгадал мою загадку, значит, мы смотрим на мир во многом одними и теми же
глазами'. Но является ли это ощущение фундаментальным, в разной мере при-сущим
всем языковым играм?
Например,
когда контролер спрашивает билет в об-щественном транспорте, чего ему больше
хочется - чтобы у вас оказался билет или чтобы вы заплатили штраф? В каком
случае между ним и вами образуется общность? Да и ищет ли он достижения этой
общности?
Если спросить
у контролера, чего он больше бы хо-тел: чтобы у всех были билеты или чтобы был
полный вагон 'зайцев'? Или для него нужен некий оптимум, чтобы он мог
реализовать и профессиональные, и ду-шевные способности (например, обязательно
один 'за-яц' на вагон; ну два, но никак не больше)?
То же самое в сказке, когда царь
или дракон говорят:
'Если отгадаешь, награжу, а не
отгадаешь - казню'.
И есть ли
нечто среднее между 'отгадать' и 'не от-гадать'?
В чем смысл
общения между людьми? Вот люди встают утром и начинают говорить - рассказывать
сны, обсуждать погоду...
Они не задумываются над тем, что
они говорят.
Но почему они говорят?
Почему не молчат?
Все слова в языке связаны друг с другом, и нет тако-го универсального
грамматико-синтаксического закона, запрещавшего бы одному слову быть
употребленным в качестве тождественного другому.
233
В этом смысле отождествление -
это скорее не за-кон логики, а закон мифологии. Так, Витгенштейн, из-гнавший из
своей логики закон равенства, писал, что 'сказать о предметах, что они
тождественны, - бес-смысленно, а сказать об одном предмете, что он тожде-ствен
самому себе - значит вообще ничего не сказать' (5.5303). Тождество ('Мир есть
конь') - основной ин-струмент мифологического познания мира. Можно ска-зать,
что мифология в такой же степени является обрат-ной стороной логики, как
бессмысленное и бессозна-тельное - изнанкой осмысленности и сознания.
Поскольку у каждой вещи множество
свойств и с точки зрения носителей языка эти свойства по-разному первостепенны
или второстепенны, существенны или несущественны, - носителю языка ничего не
стоит сказать: это напоминает мне то. Ведь напоминать мо-жет все что угодно и обо
всем, о чем угодно. Потому что у каждого своя память, свои ценности и
ассоциации. От напоминания один шаг до отождествления. Вопрос не стоит о том,
может ли отождествление быть истинным или ложным, полным или неполным, верным
или оши-бочным. Если одному человеку Ельцин напоминает Столыпина или Лютера, а
другому Веспасиана Флавия или курфюрста саксонского Августа, с этим уже ничего
не поделаешь. И эта способность в культуре является фундаментальной. Так, в
эпоху классицизма великих людей называли античными именами: Ломоносов - российский
Пиндар, Екатерина II - российская Минер-ва, А. Н. Радищев - российский Катон.
Но и в обычном быту бывает так,
что какой-то незна-комый человек начинает напоминать нам другого. На-пример, я
часто встречаю человека, который, положим, напоминает мне Чернышевского. Мысленно
я так его и начинаю называть. Потом рассказываю об этом домаш-
234
ним. Через некоторое время они
меня уже спросят: 'Ну как там Чернышевский?' Но, возможно, что друзья, ко-торым
я покажу Чернышевского, скажут, что вовсе нет, это вылитый Михаил Иванович
Калинин. И действи-тельно - рассеянный взгляд из-под очков, козлиная бо-рода -
и будут они его называть Калининым, для меня же он, естественно, останется
Чернышевским. Настоя-щее же его имя никому не будет известно.
И это тоже фундаментальная
особенность опериро-вания собственными именами. Как люди хотят быть по-хожими
на кинозвезд или опознают своих знакомых по их сходству с тем или иным актером.
Этому способству-ет сам механизм массового кино, где один актер, появ-ляясь в
разных ролях, становится одним мифологичес-ким супергероем.
И не случайно при пересказе
фильмов героев назы-вают не плохо запоминающимися вымышленными именами, а
подлинными именами соответствующих ак-теров.
'Допустим,
я - американский солдат, которого во время второй мировой войны взяли в плен
итальянские войска. Допустим также, что я хочу сделать так, чтобы они приняли
меня за немецкого офицера и освободили. Лучше всего было бы сказать им
по-немецки, что я - немецкий офицер. Но предположим, я не настолько хо-рошо
знаю немецкий и итальянский, чтобы сделать это. Поэтому я, так сказать, пытаюсь
сделать вид, что гово-рю им, что я немецкий офицер, на самом деле произно-ся
по-немецки то немногое, что я знаю, в надежде, что они не настолько хорошо
знают немецкий, чтобы разга-дать мой план. Предположим, что я знаю по-немецки
только одну строчку из стихотворения, которое учил на-изусть на уроках
немецкого в средней школе. Итак, я,
235
пленный американец, обращаюсь к
взявшим меня в плен итальянцам со следующей фразой: "Kennst du das Land,
wo die Zitronen bluhen?" [...]
Но в данном
случае кажется явно ложным, что, ког-да я произношу это немецкое предложение, я
подразу-меваю "Я немецкий офицер" или даже "Ich bin ein
Deutscher Officier", потому что эти слова означают не что иное, как
"Знаешь ли ты страну, где растут лимон-ные деревья?"' [Серль 1986:
159-160].
Этот пример
является примером того, что можно на-звать конструктивным абсурдом, вернее,
состоянием конструктивного абсурда. Это ситуация, в которой не помогут ни
здравый смысл, ни логика, ни откровенная ложь или обман. Это ситуация
мифологического отож-дествления, и Серль здесь вряд ли прав, потому что он
исходит из логической предпосылки, что интенция мо-жет быть только однозначной.
Но бывают ситуации, когда интенция не может не быть амбивалентной. Если
следовать логике Серля, то актер, исполняющий роль Гамлета, заранее обречен на
неудачу, так как актер на самом деле не имеет в виду однозначно, что он (Эдмунд
Кин, Михаил Чехов или Иннокентий Смоктунов-ский) - Гамлет. Но в том-то и дело,
что для успешно-го исполнения нужна амбивалентная интенция: актер одновременно
и Гамлет, и не Гамлет. Это ситуация ней-трализации по истинности/ложности, а
состояние, в ко-тором находится актер, есть состояние конструктивно-го абсурда.
Ясно, конечно, что ситуация и состояние
конструк-тивного абсурда являются экстремальными, в ней нель-зя находиться
постоянно, как нельзя все время зани-маться психоанализом, погружаясь в пучину
обмолвок, описок, забывании и других ошибочных действий -
236
так можно и сойти с ума или наложить
на себя руки (как, например, это сделал О. Вайнингер).
Поэтому ситуацию конструктивного
абсурда невоз-можно изучать на примере таких тотально абсурдных систем
(подобных тем, о которых писал Камю в своих эссе об абсурде), как поэтические
системы Хлебнико-ва и обэриутов, или более логизированных абсурдистских систем
Ионеско и Беккета. Для наших целей по-надобился бы, напротив, наиболее ясный и
среднеупорядоченный в языковом и эстетическом отношении материал. В качестве
такового мы выбрали (теперь уже можно не говорить: как ни странно) прозу И. С.
Турге-нева.
Тургенев (как и почти любой
русский писатель) - загадочная фигура в том смысле, что будучи рядом с та-кими
гигантами русской прозы, как Гоголь, Толстой и Достоевский, некоей золотой
серединой, посредствен-ностью, носителем средней литературной нормы своего
времени, он одновременно является великим выразите-лем именно этой языковой
посредственности, этой зо-лотой середины, этой средней нормы.
Рассмотрим в аспекте описания
состояния конструк-тивного абсурда роман 'Отцы и дети'. Сама позиция Ба-зарова
как нигилиста, отрицающего все и тем самым это все абсурдирующего, закономерно
становится позицией конструктивного абсурда при встрече с противоборству-ющей
позицией обыденного здравого смысла. Базаров заявляет, что логика не управляет
его мышлением ('Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся'). В от-вет на
провокативный вопрос Павла Петровича, неуже-ли Базаров не признает искусства,
Базаров отвечает зна-менитой бессмысленной фразой: 'Искусство наживать деньги
или нет более геморроя'. Остаются только есте-ственные науки, но и они
принимают нигилистически-
237
абсурдирующий характер. Оба
персонажа - и Базаров, и Павел Петрович - будучи романтическими героями, тесно
связаны со смертью. Оба они мертвецы еще при жиз-ни - первый потому, что
появился слишком рано, а вто-рой потому, что его время уже ушло. Единственное
по-зитивное занятие, которые позволяет себе Базаров - резание лягушек, - тоже
по сути не что иное, как отри-цание жизни. Это занятие, более того, связано с
опреде-ленным некрофильством Базарова. Резание лягушек как символ
позитивистских умонастроений молодежи был с энтузиазмом подхвачен и развит Д.
И. Писаревым в ста-тье 'Реалисты', где ярко живописуются распластанная лягушка
и склоненный над нею с занесенным скальпе-лем молодой нигилист. 'Ясно, что
лягушка для Писаре-ва - это "царевна-лягушка"' [Парамонов
1997]. (Ниги-лист, вожделеющий над лягушкой, напоминает о
Винни-Пухе, вожделеющем над медом [Руднев 1994].)
Прочная ассоциация любви со смертью,
причем со смертью именно в некрофильски-патологоанатомическом обличии, наиболее
ярко проявляется в первой реак-ции Базарова на Одинцову (в которую он вскоре
влю-бится) в разговоре с Аркадием: 'Ты говоришь, она хо-лодна. В этом самый
вкус и есть. Ведь ты любишь мороженое?' 'Этакое богатое тело! - продолжал База-ров,
- хоть сейчас в анатомический театр'. Базаров, ко-нечно, погибает - от этого же
самого некрофильски-фаллического скальпеля, отравленного чужой смертью, так и
не успев выпотрошить свою царевну-лягушку. (Последнее тоже не случайно -
недаром один из ради-кальных идеологов русского нигилизма, альтер эго Ба-зарова,
Д. И. Писарев, до смерти (кстати, такой же неле-пой) оставался девственником.)
Но перед этим стихия абсурда захлестывает его: нелепая дуэль с Павлом Пет-ровичем,
бессмысленные разговоры с мужиками о зем-
238
ле, что стоит на трех китах,
убийственные речи о Пуш-кине, что тот служил в военной службе, так как у него
на каждом шагу 'На бой, на бой за честь России!'.
Амбивалентное,
умерщвляюще-оживляющее отно-шение Базарова к миру весьма точно определяется его
крестьянами как шутовское ('...этот самоуверенный Ба-заров и не подозревал, что
он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового...').
Наконец
Базарова настигает абсурдная смерть, кото-рая по законам тотального отрицания
начинает отри-цать его самого; а перед ней вдвойне абсурдное, 'по-пушкински
возвышенное' свидание с Одинцовой, где Базаров произносит фразу ('Дуньте на
умирающую лампаду и она погаснет'), как бы отрицающую легитимность и
серьезность всех его прежних нигилистиче-ских притязаний. Из состояния
конструктивного абсур-да первых глав Базаров переходит в состояние тоталь-ного
абсурда, то есть из жизни в смерть. Тотальный абсурд эроса-танатоса оказывается
сильнее конструк-тивного абсурда естественно-научного романтизма. Ведь по сути
Базаров умирает от неразделенной любви.
Можно сказать,
что вся постструктуралистская гер-меневтическая филология-философия - текстовый
анализ Р. Барта, психоаналитический постструктура-лизм Ж. Лакана и Ж. Делёза,
мотивный анализ Б. М. Гаспарова, деконструктивизм Ж. Деррида и вся интертек-стуальная
методология во всех ее изводах есть не что иное, как игра в 'китайскую
рулетку', то есть поиск 'произвольных' с точки зрения здравого смысла ассо-циаций.
Да и вся послевоенная культура - Борхес, Кор-тасар, музыкальный алеаторизм,
гиперреализм в живо-писи, весь послевоенный модернизм, включая фильм
Фассбиндера, давший название этой статье, - та же 'китайская рулетка'.
239
Итак, имя
собственное, притягивающее к себе пара-семантические ассоциации, используя
тотальную склон-ность языка к отождествлению одних элементов с други-ми,
доставшуюся в наследство от его мифологической стадии, - ив результате почти
полное зачеркивание по-верхностной логики и торжество глубинного абсурда.
Китайская рулетка использует в качестве объекта имя собственное, в
качестве инструмента - отождествление этого имени с любым другим, в качестве
результата - бессмысленную непредсказуемость течения игры и аб-сурдную
логическую немотивированность разгадки.
В следующей ниже игре загадывается русский писа-тель. Игра состоит из
двадцати произвольных вопросов и ответов.
1. Какое это дерево? - Тополь.
2. Какой это
музыкальный жанр? - Менуэт.
3. Какое это
животное? - Лошадь.
4. Какая это
птица? - Чайка.
5. Какой это
город? - Париж.
6. Какой это
цвет? - Зеленый.
7. Какое это
кушанье? - Салат.
8. Какой это
язык? - Французский.
9. Какое это
оружие? - Дуэльный пистолет.
10.Какой это
философ? - Декарт.
11.Какой это
персонаж романа Дюма 'Три мушкете-ра'? - Рошфор.
12.Какой это
персонаж повестей Милна о Винни-Пу-хе? - Тиггер.
13.Какой это
композитор? - Лист.
14.Какое это
средство передвижения? - Фаэтон.
15.Какой это
город в России? - Орел.
240
16.Какое это
произведение Пушкина? - 'Капитан-ская дочка'.
17.Какой это
политический деятель? - Бутрос Гали.
18.Какой это
спиртной напиток? - Коньяк.
19.Какой это
месяц в году? - Июль.
20. Какая это
геометрическая фигура? - Треугольник.
Для удобства распишем каждый ответ по несколь-ким, тоже, конечно,
возникающим как произвольные ас-социации, признакам.
1. ТОПОЛЬ:
стройный, благородный, южный.
2. МЕНУЭТ:
грациозный, старомодный, медлен-ный, безобидный.
3. ЛОШАДЬ:
стройный, благородный, худой, тру-долюбивый.
4. ЧАЙКА:
Чехов, морской, охота, крикливый.
5. ПАРИЖ:
французский, легкомысленный, эроти-ческий.
6. ЗЕЛЕНЫЙ:
спокойный, природа, умиротворяю-щий, скучный.
7. САЛАТ:
вегетарианский, зеленый, пресный, без-обидный.
8.
ФРАНЦУЗСКИЙ: легкомысленный, неумный, грациозный, южный.
9. ДУЭЛЬНЫЙ
ПИСТОЛЕТ: старомодный, благо-родный, тема дуэли в русской литературе.
10. ДЕКАРТ:
рационалистический, ясный, француз-ский, благородный, старомодный.
11. РОШФОР:
французский, второстепенный, ковар-ный, неблагородный.
12. ТИГГЕР:
жизнерадостный, добродушный, хваст-ливый, ювенильный.
13. ЛИСТ:
изысканный, романтический, француз-ский, старомодный.
241
14. ФАЭТОН:
изысканный, романтический, фран-цузский, старомодный.
15. ОРЕЛ:
провинция, средняя полоса, город русских писателей.
16.
'КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА': мужественный, простой, благородный, старомодный.
17. БУТРОС
ГАЛИ: благородный, старомодный, без-обидный, стройный, бесполезный.
18. КОНЬЯК:
благородный, старомодный, виноград-ный, французский.
19. ИЮЛЬ:
расцвет, зрелость, природа, жара, рим-ский.
20.
ТРЕУГОЛЬНИК: примитивный, уравновешен-ный, остро-тупой.
Подсчитаем, какое количество признаков встречается наибольшее число
раз. (Эта рационализированная проце-дура является лишь одной из возможных
разновидностей анализа 'китайской рулетки' и ни в коей мере не может являться
моделью ее отгадывания.) Благородный - 8 раз (из них один раз - неблагородный),
старомодный - 6 раз и столько же - французский. Уже по образовав-шейся сетке из
трех устойчивых парасемантических со-ставляющих многое можно отгадать. Можно ли
назвать благородным, скажем, Достоевского? Пожалуй, нет. А тем более
старомодным и не французским. Гоголя? Тоже нет. Старомодным можно считать
писателя, которого те-перь вовсе не читают или который мало повлиял на раз-витие
последующего литературного процесса. Так, с этой первой читательской точки
зрения старомоден Дер-жавин. С историко-литературной точки зрения он скорее
новатор. Вряд ли можно назвать старомодным Андрея Белого, хотя благородным и
французским, пожалуй, можно. Вернемся к словам. Прежде всего бросается в
242
глаза отсутствие слов со
значением тяжелого и неприят-ного (кроме, пожалуй, Рошфора, который,
безусловно, не самый привлекательный персонаж, но и не злодей - так,
посредственность). Итак, наш герой не медведь, не Бисмарк, не противотанковый
гранатомет, не 'Скупой рыцарь', не 'Сага о Форсайтах'. Встает образ, связан-ный
с легкостью (грациозный и изысканный) и уравно-вешенностью. Что может означать
тополь? Стройность фигуры? Или южный колорит? Менуэт - это прежде всего то,
чего не танцуют сейчас, старомодное, но ми-лое. Лошадь. Трудолюбив, как лошадь?
Или военный? Или просто подтянутая домашняя посредственность? Чайка вызывает
прямую ассоциацию с Чеховым. Дейст-вительно, похоже. И работал, как лошадь, и
благороден, и слегка старомоден. Но французский не годится, а это один из главных
признаков. Париж - был в Париже или писал про Париж? Зеленый - цвет
умиротворения и природы, кстати, природа соотносится и с охотой (чай-ка).
Охотник?
Дуэльный пистолет. Но темы дуэли
нет разве что у Гоголя. 'Евгений Онегин', 'Выстрел', 'Капитанская дочка',
'Герой нашего времени', 'Отцы и дети', 'Вой-на и мир', 'Поединок', наконец
'Дуэль'.
Образ Тиггера создает
представление о человеке хва-стливом, жизнерадостном и слегка инфантильном.
Лист. Виртуозная игра, но не
слишком глубокая, свя-зан с Россией, под старость ушел в монастырь.
Фаэтон - легкая езда, но не ТУ-134
и не БМВ. Так, погулять по окрестностям.
Орел - с этим городом связана
судьба по меньшей мере трех русских писателей: Тургенева, Лескова, Лео-нида
Андреева.
'Капитанская дочка'. Старомодное
благородство Гринева и изысканное предательство Швабрина, пре-
243
данность Маши, эталонная простота
пушкинского сти-ля ('Мужицкий бунт - начало русской прозы').
Бутрос Гали - весьма и весьма
благородно, но прак-тически, увы, бесполезно.
Коньяк - тут и французское, и
благородное, и не-сколько старомодное.
Треугольник - простая фигура,
проще некуда, а уг-лы могут быть острые, прямые и тупые.
Ответ: ИВАН
СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ.
На прощанье загадываем еще одного русского писа-теля. Вопросы те же.
1. Дерево - КЛЕН: осенний, сложный, крупный.
2. Музыкальный
жанр - СИМФОНИЯ: большой, сложный, глубокий, трагический.
3. Животное -
ОЛЕНЬ: благородный, стройный, жертвенный.
4. Птица -
ЧАЙКА: Чехов, жертва, литературный.
5. Город -
МОСКВА: русский, большой, сложный, неупорядоченный.
6. Цвет -
СИНЕ-ЧЕРНЫЙ: сложный, мрачный, благородный, трагический.
7. Кушанье -
ОМЛЕТ: жареный, желтый, слож-ный, горячий.
8. Язык -
РУССКИЙ: родной, сложный, универ-сальный, литературный.
9. Оружие -
ЯД: быстродействующий, литератур-ный, коварный. Шекспир.
10. Философ -
СКОВОРОДА: провинциальный, ук-раинский, сложный, трагический.
11. Персонаж
'Трех мушкетеров' - АТОС: благо-родный, мрачный, сложный, трагический.
244
12. Персонаж
'Винни-Пуха' - И-Ё: трудный харак-тер, подавленный, одинокий, мрачный,
остроумный.
13. Композитор
- БЕРЛИОЗ: романтический, нова-тор, фантастический, 'Мастер и Маргарита'.
14. Средство
передвижения - АВТОМОБИЛЬ: быс-трый, техника XX века, металлический, 'Золотой
теле-нок'.
15. Город -
ТВЕРЬ: провинция, Волга, Калинин, со-ветский, трагический.
16.
Произведение Пушкина - 'ПИКОВАЯ ДАМА':
сложный, трагический, страсть,
смерть, числовая сим-волика.
17.
Политический деятель - СОБЧАК: благород-ный, мрачный, демократические идеалы,
провинция.
18. Спиртной
напиток - КОНЬЯК: благородный, крепкий, виноградный.
19. Месяц в
году - МАЙ: трагический (народная этимология), новый, советский, красный.
20. Геометрическая фигура -
ОКТАЭДР: сложный, многосторонний, крупный.
Этого русского писателя я
предлагаю читателю отга-дать самостоятельно.
Чего бы ни
добивался психоанализ --среда у него одна: речь пациента.
Жак Лакан
Идея соотнесения психоанализа и генеративной грамматики на первый
взгляд может показаться странной. Тем не менее именно сопоставление базовых
кате-горий психоанализа и генеративной грамматики натал-кивает на достаточно
глубокие параллели между тех-никой анализа сознания, разработанной Фрейдом, и
техникой филологического анализа текста в самом ши-роком смысле.
Цель
генеративной процедуры - перейти от поверх-ностной структуры к глубинной путем
анализа транс-формаций [Хомский 1972]. Цель психоанализа - выйти
от сознательного к бессознательному при помощи ана-лиза механизмов защиты.
Глубинная
структура, таким образом, представляет-ся чем-то, функционально схожим с
бессознательным.
Трансформации
в генеративной грамматике и соот-ветствующие им 'приемы выразительности' в
генера-тивной поэтике напоминают 'механизмы защиты' бес-сознательного в
психоанализе.
В генеративной
грамматике это такие трансформа-ции, как пассивная, негативная, вопросительная,
номи-нативная. Например:
246
активная
конструкция - Мальчик ест мороженое пассивная
конструкция - Мороженое съедается мальчиком
негативная
конструкция - Мальчик не ест мороже-ного
вопросительная
конструкция - Ест ли мальчик мо-роженое?
номинативная
конструкция - Мороженое, съедае-мое мальчиком
Глубинная
структура, выявляемая путем этих транс-формаций, - актант-субъект (мальчик),
актант-объект (мороженое) и нетранзитивное отношение поедания, устанавливаемое
между ними, - сообщает нечто более общее и в определенном смысле сокровенное,
маскиру-емое поверхностными структурами: не вопрос, не ут-верждение, не
отрицание, не констатация, не инверсия актантов, даже не язык вовсе - некое
абстрактное надъязыковое бессознательное. Мысль в чистом виде. Мысль о мальчике
и съедании им мороженого. Мысль, не замаскированная, не перелицованная речью,
если воспользоваться афоризмом из 'Трактата' Витгенштей-на. В генеративной
поэтике лингвистическим транс-формациям соответствуют приемы выразительности - контраст,
совмещение, сгущение, затемнение, конкрети-зация, варьирование, увеличение,
обобщение. В статье 'Инварианты Пушкина' А. К. Жолковский так форму-лирует
основной потаенный смысл, 'тему' (соответст-вующую языковой глубинной
структуре) всего творче-ства Пушкина:
'...объективный интерес к действительности, осмыс-ляемый как поле
взаимодействия амбивалентно оцени-ваемых начал "изменчивость,
неупорядоченность" и "не-изменность, упорядоченность"
(сокращенно 'амбива-
247
лентное противопоставление
изменчивость/неизмен-ность' или просто 'изменчивость/неизменность')'.
В
дальнейшем эта абстрактная тема подвергается в творчестве Пушкина конкретизации и варьированию.
Например:
'...в физической
зоне 'изменчивость/неизменность' предстает в виде противопоставлений
'движение/покой'; 'хаотичность/упорядоченность'; 'прочность/разруше-ние';
'газообразность, жидкость, мягкость/твердость'; 'легкость/тяжесть';
'жар/холод'; 'свет/тьма' и нек. др.; в биологической - 'жизнь/смерть';
'здоровье/болезнь'; в психологической - 'страсть/бесстрастие'; 'неумерен-ность/мера';
'вдохновение/отсутствие вдохновения'; 'ав-торское желание славы и
отклика/равнодушие к чужому мнению'; в социальной - 'свобода/неволя''. 'Далее,
мотивы, разделяемые в теории, в реальных текстах вы-ступают в многообразных
СОВМЕЩЕНИЯХ. Например, в отрывке Кто, волны, вас
остановил. Кто оковал [ваш] бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий Поток мятежный обратил? Чей жезл волшебный
поразил во мне надежду, скорбь и радость [И душу] [бурную...] [Дремотой] [лени] усыпил?
Взыграйте, ветры, взройте воды, Разрушьте гибельный оплот - Где ты, гроза - символ
[свободы? Промчись поверх невольных
вод] моти-вы 'неподвижность', 'движение', 'разрушение'
(физиче-ская зона) служат в то же время и воплощением мотивов 'бесстрастие',
'неволя', 'свобода', 'страсть' (психологи-ческая и социальная зона)' [Жолковский
1979: 7-8].
В психоанализе
бессознательное защищает себя от 'агрессии' аналитика при помощи механизмов
защиты: сопротивление (Widerstand), вытеснение (Verdrangung), замещение
(Ersatzbildung), повторение (Wiederholung),
248
сгущение (Verdichtung) отрицание
(Verneinung), пере-нос (Ubertragung).
Лакан в работе
'Ниспровержение субъекта и диалек-тика желания в бессознательном у Фрейда'
подчерки-вал сходство механизмов защиты с поэтическими тро-пами, понимаемыми им
в широком якобсоновском смысле как макрориторические элементы: "...механиз-мы,
описанные Фрейдом как механизмы 'первичного процесса", т. е. механизмы,
определяющие режим дея-тельности бессознательного, в точности соответствуют
функциям, которые эта научная школа считает опреде-ляющими для двух наиболее
ярких аспектов деятельно-сти языка - метафоры и
метонимии, т. е. эффектам за-мещения и комбинации означающих...' [Лакан 1997: 154].
Пример из статьи Фрейда 'Из истории одного дет-ского невроза' (Человек-Волк).
Герою снятся волки на дереве. После этого он начинает бояться волков. Волк
олицетворяет отца, как показывает Фрейд (то есть про-изошло замещение). Боязнь волка-отца связана с вытес-нением увиденной, возможно, героем в
младенчестве сцены коитуса родителей в положении сзади. По предпо-ложению
Фрейда, на самом деле мальчик видел сцену со-вокупления животных, а потом
произвел перенос ее на совокупление
родителей, которого он, возможно, в дей-ствительности и не видел, но лишь хотел
увидеть.
Упреки в произвольности
интерпретации психоана-лизом своего клинического материала, что такого 'не
может быть!', чтобы мальчик в полтора года мог уви-деть и осмыслить сцену, в
которой его родители три ра-за подряд совершили совокупление в соответствующей
позе, так же как и упреки в произвольности анализа фи-лологом, особенно
постструктуралистом, художествен-ного текста, имеют один и тот же
позитивистский источ-ник - веру в то, что так называемое объективное суще-
249
ствование является чем-то
безусловным, неким послед-ним аргументом, condicio sine qua поп. Однако с точки
зрения постструктуралистской и более ранней лакановской философской идеологии
'существование' чего-ли-бо в прошлом скорее задается из будущего сознанием
наблюдателя, исследователя. В определенном смысле травма формируется в сознании
пациента самим психо-аналитиком, как говорил Фрейд - nachtraglich, задним числом, - так же как смысл произведения
формируется самим филологом, они в каком-то фундаментальном смысле создают
существование травматического (худо-жественного) события в прошлом.
Описывая
позицию позднего Лакана в этом вопросе, С. Жижек пишет, что 'совершенно
неважно, имела ли она [травма. - В. Р.] место, "случилась ли она на
самом деле" в так называемой реальности. Главное, что она влечет за собой
серию структурных эффектов (смеще-ние, повторение и т. д.) [механизмы защиты. -
В. Р.]. Реальное - это некая
сущность, которая должна быть сконструирована "задним числом" так,
чтобы позволить нам объяснить деформации символической структуры' [Zizek 1989].
Может
показаться, что основное различие между трансформациями и приемами
выразительности, с од-ной стороны, и механизмами защиты - с другой, за-ключается
в том, что первые являются элементами ме-таязыка исследователя, исходят из его
активной иници-ативы по отношению к тексту, а вторые исходят из сознания
пациента (то есть как бы из самого текста). Но это именно кажущееся различие. С
одной стороны, можно сказать, что трансформации и приемы вырази-тельности в той
же степени содержатся в языке и текс-те, как механизмы защиты в сознании. С
другой сторо-ны, с тем же успехом можно сказать, что механизмы за-
250
щиты являются в той же мере
метаязыковыми образова-ниями, что они накладываются аналитиком на сознание
пациента, структурируют его (в духе гипотезы лингвис-тической относительности).
В дальнейшем мы будем соотносить психоанализ, и поэтику, так как в обоих слу-чаях
текст как объект анализа и в психоанализе, и в по-этике прячет свой глубинный
смысл (тему) при помощи механизмов защиты в психоанализе и приемов вырази-тельности
в поэтике.
Тексту присущи те же комплексы,
которые психоана-лиз выделил в сфере сознания. Комплекс Эдипа выра-жается
текстом в том, что он стремится перечеркнуть, 'убить' своего предшественника,
который сильно по-влиял на его формирование. 'Нет, я не Байрон, я дру-гой' (в
терминах статьи Фрейда 'Verneinung', когда кто-то нечто отрицает, это служит
наиболее явственным свидетельством того, что он это самое нечто утвержда-ет; то
есть в своем высказывании Лермонтов, отрицая, тем самым утверждает Байрона в
качестве своего лите-ратурного отца).
Наиболее яркий пример Эдипова
комплекса в худо-жественном тексте был выявлен Ю. Н. Тыняновым в по-вести
Достоевского 'Село Степанчиково и его обитате-ли', в которой автор
уничтожающе-пародийно 'вывел' в лице Фомы Фомича Опискина своего литературного
отца Н. В. Гоголя [Тынянов 1977].
Мы сознательно не приводим
примеры изображения Эдипова комплекса внутри художественного текста или мифа;
существование этих примеров само собой разу-меется. Их описывал Фрейд уже в
'Толковании снови-дений', дав достаточно исчерпывающее описание соот-ветствующей
проблематики в 'Царе Эдипе' Софокла и 'Гамлете' Шекспира (этот фрагмент 'Толкования
сно-видений' перепечатан отдельно в томе работ Фрейда,
251
посвященных психоанализу
искусства [Фрейд
1995а]). Через
несколько лет после этого Ранк каталогизировал обширные примеры из мифологии,
связанные с пробле-мой Эдипова комплекса [Ранк 1998].
Приведенный
нами пример с 'Селом Степанчиковым' интересен тем, что в нем внутренняя
прагматика текста накладывается на внешнюю прагматику автора текста. То есть
если, говоря словами Маяковского, 'в книжке можно намолоть' что угодно, то
случай пересе-чения границ текста и реальности (Достоевский, амби-валентно
относясь к Гоголю, бессознательно 'упряты-вает его' в фигуру Фомы Фомича
Опискина) для наших целей куда более интересен. Он говорит не просто о том, что
в литературе изображается Эдипов комплекс, но что и сама литература как
деятельность, как 'языко-вая игра' замешана на Эдиповом комплексе, что он вхо-дит
в правила этой языковой игры.
Комплекс
кастрации также характерен для любого ли-тературного текста, который в
чрезвычайной степени со-противляется всяческому урезанию, усекновению любой
части своего 'тела', манифестируя, что каждое слово, каждая буква неотъемлемо
важна для его понимания. Особенно ярко этот тезис выступает в структуралистской
поэтике и стиховедении, где каждый элемент текста объ-является неприкосновенным
в силу 'системного принци-па': удалив один элемент, мы якобы разрушим все сис-темное
единство текста. Можно возразить, что это требо-вание предъявляет не сам текст,
а его исследователь, но мы уже приводили тезис Лакана, в соответствии с ко-торым
смысл текста формируется задним числом (nachtraglich), что не только
исследователь не существует без текста, но и текст не существует без
исследователя.
Сознание
сопротивляется психоанализу, и текст со-противляется филологическому анализу
вплоть до от-
252
рицания его принципиальной
возможности (идея о не-возможности поверять алгеброй гармонию, знаменитая фраза
Толстого о принципиальной несводимости смыс-ла 'Анны Карениной' к некой единой
формуле, слова о механизме сцеплений). Текст можно уподобить созна-нию, а его
смысл - бессознательному. Автор сам не знает, что он хотел этим сказать;
написав текст, он заши-фровывает в нем некое послание. Спрашивается, зачем
зашифровывать, почему бы не сказать прямо? Прямо
сказать нельзя, потому что в основе художественного творчества лежит
травматическая ситуация, кото-рую текст хочет скрыть (подобно тому
как сознание пациента всячески старается скрыть хранящееся в бес-сознательном
воспоминание о травматической ситуа-ции). Если исходить из этого допущения, то
аналогия между психоанализом и филологическим анализом пе-рестает быть
метафорой. Мы можем сказать без риска, что скрытый смысл художественного
произведения ана-логичен скрытой в бессознательном травматической си-туации.
Это в целом соответствует учению Фрейда о сублимации.
Здесь мы хотим
проанализировать возможный упрек в том, что, говоря об уподоблении психоанализа
анали-зу филологического текста, мы апеллируем лишь к од-ному методологическому
типу последнего, так называе-мой генеративной поэтике, поскольку только в ней
по-следовательно проводится принцип сведения текста посредством 'вычитания' из
него приемов выразитель-ности к абстрактной теме, которую мы уподобляем бес-сознательной
травме, выявляемой психоанализом. Но ведь есть много методик филологического анализа,
ко-торые не только не осуществляют этой последователь-ной генеративистской
процедуры, но прямо заявляют, что подобная процедура невозможна, и
противопостав-
253
ляют ей противоположную стратегию
анализа. В пер-вую очередь речь идет о постструктуралистской мето-дике анализа
текста, например о так называемом 'мотивном анализе' Б. М. Гаспарова, который
рассматрива-ет семантику текста как свободную игру несводимых друг к другу
лейтмотивов, так что при таком понимании как будто бы в принципе не может идти
речи ни о каком едином инварианте. Но это лишь кажущееся противоре-чие. Как
человеческая психика в бесконечном разнооб-разии своих проявлений не сводится к
единственной бессознательной травме, так и художественный текст не сводим к
единой инвариантной теме. Здесь все зависит (см. также ниже о своеобразии
феномена переноса при-менительно к поэтике) от характера исследователя и его
установок. При анализе психики пациента не всегда важно отыскание самой
глубокой 'инвариантной трав-мы', не менее важны опосредующие травмы более по-верхностного
характера - достаточно прочитать лю-бой из классических анализов Фрейда, чтобы
в этом убедиться. Кроме того, техника лейтмотивов, которая применяется в
'мотивном анализе', в очень сильной степени напоминает ту технику 'свободных
ассоциа-ций', о которой Фрейд наиболее ярко писал в книге 'Психопатология
обыденной жизни' [Фрейд 1990а]. Та-ким образом, мотивный
анализ передает просто другой лик психоанализа. Если бы исследователи
поменялись местами и Гаспаров занялся бы мотивной техникой Пушкина, а
Жолковский - инвариантной темой 'Мас-тера и Маргариты' (ср. [Гаспаров 1995]), то, скажем, в последнем случае роман
Булгакова вместо пестрой че-харды мотивов предстал бы как иерархическая структу-ра
с единой темой-инвариантом. Можно даже предполо-жить, что этой абстрактной
инвариантной темой была бы оппозиция
'бездомность, дифензивность, нравствен-
254
ность и неприкаянность истинного
таланта/'одомашненнность', авторитарность, безнравственность власти бездарных
людей', где на одном полюсе были бы Иван Бездомный, Иешуа, Мастер, на
противоположном - Берлиоз, Стравинский, Арчибальд Арчибальдович, пи-сатели,
администрация варьете и безликие в романе 'органы', а медиативную функцию
выполняли бы Пи-лат и Воланд со свитой. Кажется, что подобная оппози-ция была
безусловно инвариантной и для самого био-графического Булгакова.
Чрезвычайно характерно и то, что Б. М. Гаспаров пришел к мотивному
анализу после периода достаточно жесткого осмысления проблем языкового
синтаксиса и музыкальной семантики. Авторы же генеративной по-этики А. К.
Жолковский и Ю. К. Щеглов в зрелые годы перешли к гораздо более мягким моделям
филологиче-ского анализа, скорее напоминающим мотивный анализ Гаспарова.
Смысл текста - это потаенная травма, пережитая ав-тором. Тем сложнее
текст, чем глубже травма, чем она серьезнее.Что же это за травма, которую
скрывают бес-сознательное и потаенный смысл текста? Можно было бы сказать, что
в каждом случае это разные травмы и разные неврозы. Можно, однако,
предположить, что травма всегда одна - наиболее универсальная травма рождения,
присущая каждому человеческому существу, травма, значение которой вскрыто и
подробно проанали-зировано Ранком в книге [Rank 1929] и в
дальнейшем развито в учении С. Грофа [Гроф 1992]. По-видимому, любая травма,
носящая сексуальный характер, особенно детская, может быть 'переописана'
(термин Р. Рорти [Рорти 1996])
как травма рождения; например, подгля-дывание маленьким Сережей Панкеевым
(Человеком-Волком) за коитусом родителей можно интерпретиро-
255
вать как вторичное переживание
травмы рождения или даже зачатия - динамика здесь примерно одна и та же (ср. [Кёйпер 1986]).
Заметим, что выявленное А. К.
Жолковским инвари-антное противопоставление в творчестве Пушкина из-менчивости
неизменности имеет универсальное значе-ние для любого творчества и любого
сознания. Действи-тельно, плод, находящийся в утробе матери, испытывает
амбивалентное желание: с одной стороны, вырваться из нее (инстинкт жизни), а с
другой стороны, остаться в ней (вторично - в виде невроза - вернуться в нее)
(влече-ние к смерти).
В сущности травма рождения может
быть обнаруже-на в любом классическом анализе типа фрейдовского. Так, например,
'первичной сцене' гипотетического со-зерцания полового акта родителей
полуторагодовалым Человеком-Волком в этом смысле предшествует 'нуле-вая сцена'
перинатальной динамики плода во внутриут-робном развитии с ее диалектикой
изменчивости/неиз-менности. На эту 'нулевую' диалектику и накладывает-ся
динамика 'первичной сцены' и ее травматических последствий попеременного
отождествления сознания невротика то с отцом - изменчивостью, агрессивным
динамическим началом, инстинктом жизни, то с мате-рью - неизменностью,
статическим началом, влечени-ем к смерти.
Эдипальная динамика в целом может
быть редуциро-вана к перинатальной динамике. Вспомним, как Леви-Строс толкует
архаический миф об Эдипе. Он говорит, что для архаического сознания понятия
инцеста не су-ществовало и такая трактовка мифа об Эдипе - резуль-тат поздних,
постмифологических осмыслений. Перво-начально же, согласно Леви-Стросу, смысл
мифа об Эди-пе был в загадке происхождения человека. Обращая
256
внимание на то, что имена самого
Эдипа ('толстоно-гий', его отца Лая ('левша') и отца Лая Лабдака ('хро-мой')
связаны с идеей недостатка в конечности, Леви-Строс указывает на то, что это
могло означать 'стигма-ты' автохтонного рождения героя, рождения из земли. То
есть речь идет не о чем ином, как о травме рождения в самом прямом смысле слова
'травма' - рождаясь из земли, герой повреждал конечность. Миф об Эдипе, та-ким
образом, - это этиологическая загадка: человек рождается от одного или от двух?
Далее Леви-Строс пи-шет: 'Конечно, проблема, для которой Фрейд избрал
"Эдипову" терминологию, не есть проблема альтернати-вы между
автохтонностью и двуполым воспроизводст-вом. Но и его проблема приводит к
вопросу: как двое мо-гут породить одного? Почему у нас не один родитель, а мать и
еще отец?' [Леви-Строс 1985: 194] (ср. также [Пропп 1975]).
Размышляя о своем рождении,
ребенок сравнитель-но легко приходит к идее рождения в утробе матери. Во-прос
об отце решается значительно позже. Ранние под-смотренные сексуальные сцены,
как правило, воспри-нимаются ребенком как факт нанесения отцом матери какого-то
вреда, некой агрессии, насилия по отношению к ней. Затем это может путем
неведомых бессознатель-ных механизмов проецироваться на то механическое на-силие
при зачатии, которое отцовский пенис мог причи-нить уже оплодотворенной в этот
момент яйцеклетке;
как пишет Кёйпер, 'сперматозоид
бомбардируется пе-нисом' [Кёйпер 1986]. Таким образом, тесная
связь Эдипова комплекса с травмой рождения и зачатия пред-ставляется
неизбежной.
Вероятнее всего, такой
перинатальный 'нулевой' конфликт может быть найден в любом художественном
произведении. В травестийном виде (что не отменяет
257
серьезности проблемы) нечто
подобное было нами вы-явлено при анализе милновского 'Винни Пуха' [Руднев ]994b],
где ситуация травмы рождения реализуется в ря-де эпизодов - застревание Пуха в
норе у Кролика, пре-бывание Поросенка в 'кармане' у Кенги, пребывание Пуха и
Поросенка в поваленном бурей доме Совы. В бо-лее общем смысле (инстинкт
созидания - стремление к разрушению) то же самое реализуется в таких амбива-лентных
эпизодах, как неудачная попытка дарения По-росенком воздушного шарика Ослу с
бессознательным 'разрушением' подарка: делая дорогой подарок, отдавая самую
дорогую вещь Другому в качестве скрытого сек-суального предложения (инстинкт
жизни), Поросенок, обуреваемый бессознательным желанием сохранить до-рогую
вещь, действует по принципу 'так не доставайся же ты никому' (влечение к
смерти). Созидание часто од-новременно оказывается разрушением (ср. основопола-гающую
статью [Шпильрейн
1994\). Так, когда Поросе-нок и Пух стоят новый дом Ослу,
сознательно стремясь к 'жизнестроительству', они тем самым одновременно
бессознательно разрушают его старый дом.
Мы уже
замечали применительно к 'Винни Пуху', что литература, связанная с травмой
рождения, начинает концентрироваться в 20-е годы XX века - время изобре-тения и
разработки этого понятия Ранком. Еще более ин-тересный факт - концентрация в
этот период произведе-ний о 'нерожденности', о бесплодности; это произведе-ния
писателей потерянного поколения, что тоже важно. В этих произведениях либо
вообще нет детей ('Смерть героя' Р. Олдингтона, 'Прощай, оружие' Хемингуэя,
'Великий Гэтсби' Фицджеральда, 'Степной волк' Гес-се, 'Мы' Замятина, 'Волшебная
гора' Томаса Манна), либо дети (нечто рожденное) показаны как деградирующие
('Звук и ярость' Фолкнера), либо они рождаются 'в
258
пробирке' ('О дивный новый мир'
Хаксли). Наиболее интересный, можно даже сказать, поразительный при-мер -
'Собачье сердце' Булгакова, где изображается травма рождения в самом прямом
смысле. Своеобразие здесь в том, что герой знает о своей травме рождения. Этот
текст - как бы издевательство над психоанализом. Эдипальные отношения, в
которые вступает Шариков, с одной стороны, вроде бы очевидны. Отцом является
про-фессор Преображенский, именно его Шариков именует 'папашей'. Но, с другой
стороны, в эдипальной дина-мике Шарикова не хватает матери, поэтому на самом
деле данный комплекс для Шарикова выглядит по-друго-му. Он скорее отождествляет
профессора с матерью. Во всяком случае, по отношению к нему он проявляет хотя
бы какое-то подобие родственных чувств. Отцом для не-го, соперником в 'любви' к
Преображенскому выступа-ет ассистент создателя (то есть как бы действительно
отец - тот, кто лишь помогает матери зачать) доктор Борменталь - именно на него
направлена наибольшая агрессия Шарикова. Здесь опять-таки внутренняя праг-матика
сращивается с внешней. В 'Мастере и Маргари-те' есть сцена, когда героиня, уже
ставши ведьмой, сидит у постели маленького мальчика - единственный ребе-нок,
появляющийся в романе. Эта сцена дана для того, чтобы оттенить идею отсутствия
детей в романе, 'бес-плодия' ведьмы Маргариты и отсутствия будущего у са-танинского
'большевистского' мира. Но ведь и у Булга-кова не было детей. Творчество
становится зашифрован-ным описанием собственной 'травмы нерождения'.
В русской
литературе амбивалентная динамика ин-стинкта продолжения рода реализуется в
тургеневской парадигме русского человека на рандеву. Наиболее пол-но эта
коллизия реализуется в 'Отцах и детях' (не слу-чайно, что само название связано
с темой рождения и
259
Эдиповым комплексом). Базаров
парадоксальным обра-зом строит свою 'позитивную' идеологию на том, что отрицает
все подряд. Однако, встретившись с женщи-ной, олицетворяющей инстинкт
продолжения рода, он попадает в заколдованный круг. Вначале он привычным
образом пытается отрицать Одинцову в духе идеологии 'влечения к смерти': 'Экое
богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр'. Однако это не проходит. В
какой-то момент Базаров осознает, что инстинкт жизни побеж-дает в его сознании
влечение к смерти, что он влюбляет-ся в Одинцову. Это противоречие с его
танатологической идеологией окончательно фрустрирует его, и он разре-шает
проблему, бессознательно заразив себя смертель-ной болезнью от трупа. На
смертном одре, признаваясь Одинцовой в любви, он тем самым признает ценность
инстинкта жизни, но делает это в тот момент, когда вле-чению к смерти уже ничто
не может помешать.
При этом нельзя не заметить, что
тотальное отрица-ние Базаровым всего на свете является по сути тем са-мым
фрейдовским Verneinung, механизмом защиты бес-сознательного, в основе которого
лежит утверждение отрицаемого. Согласно Фрейду, если человек говорит, что он
видел во сне женщину и это точно была не его мать, последнее и означает, что
это безусловно была его мать. Нигилизм Базарова - это 'отречение' от роман-тических
ценностей Павла Петровича Кирсанова, кото-рый тем не менее является его
двойником: Базаров - романтик почище Павла Петровича. Тот только скук-сился от
неудавшейся любви, забился в деревню, а этот умер, не сумев побороть свою
фрустрацию. По сути весь российский нигилизм - это цинический роман-тизм
наоборот, родившийся от неудач с женщинами (на-иболее яркий пример - Д. И.
Писарев, который так и утонул девственником).
260
Другой пример - 'Что делать?'
Чернышевского. Подвал, откуда так мучительно освобождает Лопухов Веру Павловну,
- это бессознательное-символическая утроба. Сам же Лопухов - замещение матери,
ложной 'физиологической матери' Марии Алексеевны. Поэто-му, когда Борис
Парамонов утверждает, что любовь Ве-ры Павловны во время супружеской жизни с
Лопуховым к сливкам есть не что иное, как воспоминание Черны-шевского о том,
'как Ольга Сократовна побаловала его оральным сексом' [Парамонов 1997: 67], то он совер-шенно неправ. Просто это
Лопухов - 'символическая мать' - кормит Веру Павловну своим молоком, не бу-дучи
ангажирован 'накормить' ее ничем иным. Послед-няя роль отводится Кирсанову - с
момента, когда Вера Павловна переходит к 'генитальной стадии' любви с ним после
'оральной стадии' с Лопуховым и 'анально-садистической' с Рахметовым.
Интересно, что перинатальные
комплексы характер-ны для поэзии. В общем смысле можно сказать, что сти-хотворный
ритм 'напоминает' поэтическому субъекту о плавном покачивании плода в утробе
(см. [Топоров
1995, 1995f]).
Ср. также странное, если
воспринимать его в контек-сте рассматриваемой проблематики, четверостишие
Блока:
Рожденные в года глухие Пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России,
Забыть не в силах ничего.
(курсив,
конечно, мой. - В. Р.)
Но здесь можно возразить, что мы говорили об изоб-ражении в литературе
травмы рождения, а не о самой
261
травме рождения литературного
текста. Сохраняет ли текст невроз травмы рождения? Метафора, в соответст-вии с
которой художественный шедевр 'рождается в муках', здесь, по-видимому,
возникает не случайно. Если говорить о таких произведениях, как 'Слово о полку
Игореве', то безусловно можно сказать, что этот текст на протяжении всей
истории своего изучения но-сил на себе отпечатки травмы и тайны своего
рождения.
'Последом'
рождения художественного текста слу-жат многочисленные рукописи, черновики,
подготови-тельные материалы, ранние редакции.
Но гораздо
более интересно, что та же модель амби-валентного противопоставления
изменчивости/неизмен-ности реализуется и в генеративном анализе языка. Глу-бинная
структура типа 'мальчик - мороженое - съе-дать' обладает все той же
амбивалентностью, так как она содержит возможные поверхностные трансформы,
реализующие как позитивный ('Мальчик ест мороже-ное'), так и негативный
('Мальчик не ест мороженого') результаты. То есть глубинная структура также
содер-жит в себе травматический амбивалентный конфликт ре-ализации или
нереализации (вариант: активной/пассив-ной реализации) того, что в ней
заложено. Поскольку в самой терминологии, в самом самоназвании генеративизма
содержится идея того, что поверхностная структу-ра рождается из глубинной структуры (глубинная
структура - это то место, где рождается язык), то ана-логия между глубинной
структурой и бессознательным, амбивалентного конфликта, заложенного в глубинной
структуре, - и травмой рождения, не только предстает непроизвольной аналогией
(и даже не схоластически ти-пологическим уподоблением), но неожиданно органич-ной
и последовательной. Последний эффект не так стра-нен, если вспомнить, что
психоанализ - это и есть гово-
262
рение, речевая деятельность (ср.
эпиграф к этой статье, взятый из работы [Лакан 1995], -
'психоанализ имеет одну среду: речь пациента'), которая, учитывая дейст-вия
механизмов защиты: сопротивления, вытеснения, замещения, отрицания (или
запирательства в интерпре-тации этого термина Лаканом [Лакан 1998]), - баланси-рует на стыке все того же
противопоставления изменчи-вости/неизменности, стремления выздороветь, инстинк-та
жизни, с одной стороны, и стремления к уходу в болезнь, влечению к смерти - с
другой. И естествен-но, что язык в своих самых глубинных сферах оказыва-ется
хорошо приспособленным к этой сложной амбивалентной динамике. Филолог-аналитик
очищает созна-ние-текст от напластований 'механизмов защиты' бессознательного
(приемов выразительности). Но кому нужна эта травма, ведь текст не взывает о
своем недуге, не требует лечения? Вспомним вновь Лакана, одно из са-мых
знаменитых его высказываний: 'Бессознательное субъекта есть дискурс Другого' [Лакан 1995:
35]. Бес-сознательное пациента в этом смысле формируется ана-литиком,
во всяком случае в работе, в диалоге с аналити-ком. Анализируя бессознательное
текста в диалоге с ним, когда текст пациента, его речь выступает как Дру-гой,
аналитик-филолог выявляет тем самым свое бессо-знательное. То есть лечение
прежде всего нужно самому аналитику. Отсюда своеобразие процесса переноса в по-этике
в 'лечении' филологом текста (ср. расширенное понимание переноса с привлечением
анализа платонов-ского 'Пира' в книге [Lacan 1991]).
Каждый филолог знает о том, что для успешного проведения анализа не-обходимо на
определенное время забыть, что ты име-ешь дело с художественным, эстетическим
объектом, который может напускать на тебя свои эстетические ча-ры; необходимо
устранить возможность собственной
263
эстетической реакции: никакой
экзальтации, никакого 'вчувствования', никаких 'Татьян, русских душою'. Есть
только голая конструкция, которую необходимо разобрать 'по винтикам'; только
тогда ты можешь надеяться понять, из чего или как это сделано (ср. эпатирующие
и в то же время типовые названия фор-малистских статей вроде 'Как сделана "Шинель"
Гого-ля?' (Б. М. Эйхенбаум) или 'Как сделан "Дон Кихот"?' (В. Б.
Шкловский). В определенном смысле то же самое происходит и перед началом
психоаналитического лече-ния. Пациент предстает перед аналитиком как голый пу-чок
функций. И весь анализ - это преодоление лаби-ринта, тех ловушек, которые
расставило сопротивление. Но вот в какой-то момент, когда анализ уже довольно
сильно приблизился к патогенному ядру, к травме (когда филолог уже почти готов
понять, 'про что' это написа-но), в этот момент сопротивление идет на смелый и
вре-менно успешный шаг: сознание пациента полностью пе-реключается на
аналитика, тем самым заблокировав ему всякий подступ к патогенному материалу.
Пациент отождествляет аналитика, например, со своим отцом и объявляет тем
самым, что анализ закончен. Действи-тельно, а он-то мучился, когда счастье,
оказывается, тут рядом! Но это не счастье, это просто демон переноса.
Художественный текст поступает точно так же. Когда разгадка близка, он вдруг
заставляет аналитика вспом-нить, что является эстетическим явлением. Он как
будто говорит ему: 'Зачем ты копаешься, ищешь чего-то? Вот я весь перед тобой,
посмотри, как я прекрасен!' И если аналитик-филолог не поймет, что это лишь
трансферент-ный трюк, если он поверит тексту и влюбится в него как в
эстетическое явление, тогда конец анализу.
Из сказанного можно сделать
вывод, что позиции аналитика и пациента в психоанализе и позиции фило-
264
лога и текста в поэтике меняются
местами. В сущности именно художественный текст является аналитиком (а не
пациентом), а филолог является пациентом, в содер-жании текста отыскивающим
собственную травму. (О том что это в определенном смысле характерно и для
психоанализа, см. ниже.) В этом смысле перенос, конеч-но, исходит не из текста
(разве можно всерьез говорить, что нечто, присущее сознанию, исходит из
'несозна-ния'? это все лишь метафора!), а напротив, исходит от филолога в тот
момент, когда он чувствует свое бесси-лие перед текстом, когда анализ
застопоривается. Тогда у него вдруг и 'открываются глаза', и он вдруг видит,
что перед ним нечто прекрасное, что вовсе не нужно 'поверять алгеброй
гармонию', что Татьяна - русская душою и т. д., и это чистое эстетическое
наслаждение останавливает анализ - на время или навсегда, это уж зависит от
сознания филолога. Так или иначе, но всегда вместо лечения первоначального
текста филолог просто создает другой текст (текст своего исследования), лишь
мифологически излечивающий первоначальный текст. На самом-то деле филолог
прячет в этом вторичном тек-сте свою собственную психотравму.
Культура - перманентный
психоанализ самой себя (субъект культуры все время старается представить свою
собственную субъективность как 'дискурс Друго-го'), не дающий никакого
результата, поскольку резуль-тат равносилен уничтожению культуры. Что мы имеем
в виду, высказывая подобное суждение? Предположим, что все пациенты всех
аналитиков вылечены и что все художественные тексты проанализированы и их смыс-лы
выявлены, все культурные загадки разгаданы. Это означает, например, что судьба
такого сочинения, как 'Слово о полку Игореве' была бы решена сразу, через год
после его нахождения. Тем самым был бы изъят из
265
культуры огромный пласт текстов,
анализирующих этот памятник. Это означает даже большее: что без этих ана-лизов
данный памятник был бы гораздо беднее, так как художественный текст развивается
во времени в соот-ветствии с законами, скорее противоположными второ-му началу
термодинамики, то есть он накапливает ин-формацию, а не теряет ее. На самом
деле феномен куль-туры состоит, говоря метафорически, в том, чтобы до конца не
знать ни того, кто был автором 'Слова о пол-ку Игореве', ни даже то, подлинное
ли это произведе-ние XII века или гениальная подделка конца века XVIII. Отсюда
можно сделать вывод о позитивном, ретардирующем характере переноса в культуре.
По сути то же са-мое происходит и в психоанализе. Анализ Фрейдом Че-ловека-Волка
не был особенно удачным (через несколь-ко лет после ремиссии тот вновь серьезно
заболел - на сей раз это уже был обсессивный психоз [Брюнсвик 1996]), зато благодаря ему Фрейд написал один
из луч-ших своих разборов конкретного материала, где сформулирововал важнейшие
теоретические положения психоанализа [Фрейд I996]. Это звучит как парадокс, но
если бы все пациенты выздоравливали, то психоанализ не смог бы существовать и
развиваться.
Хотя, конечно, в самой культуре
часто то и дело вспы-хивают редукционистские движения, ратующие за 'пол-ное
окончание анализа'.
Так, например, Витгенштейн в
'Логико-философ-ском трактате' сводит все операции с пропозициями к операции
отрицания и соответственно все предложе-ния - к одному инварианту всех
предложений 'Дело обстоит так-то и так-то' [Витгенштейн 1958].
Порази-тельно, что в соответствии с фрейдовским анализом Verneinung'a отрицание
в конечном счете оборачивается утверждением, но таким утверждением, которое
ничего
266
не утверждает. Это и есть
глубинная структура-бессо-знательное - утроба языка. Таким образом, по-видимо-му,
и применительно к культуре в каком-то смысле мож-но говорить о диалектике
инстинкта жизни и влечения к смерти.
В анализе важен не результат, а
процесс. Ясно, что как психоанализ излечивает только самые простые случаи, так
и 'конечному' филологическому анализу подвласт-ны только простые формы текстов
- фольклор и массо-вое искусство (Шкловский, Пропп, Леви-Строс). Чем сложнее
невротическое (или психотическое) состояние, чем сложнее художественный текст,
тем меньше надежда на окончательное 'выздоровление', но тем интересней сам
процесс анализа, тем в большей степени он обогаща-ет аналитика и его читателей.
Анализы сложных 'случа-ев' в психоанализе и поэтике, как правило, обогащают
теоретическую базу этих дисциплин. Но это обычно не-удачные в 'клиническом'
смысле анализы. Например, анализ Доры или Человека-Волка у Фрейда или анализ
Достоевского и Рабле у Бахтина. Человек-Волк Сергей Панкеев так до конца своей
долгой жизни и остался не-вротиком. То, что писал Бахтин о Достоевском и Рабле,
имеет гораздо больше отношения к самому Бахтину, не-жели к Рабле и
Достоевскому. Ср. у Фрейда: 'Новое мож-но узнать только из анализов,
представляющих особые трудности, для преодоления которых требуется, конечно,
много времени. Только в таких случаях удается добрать-ся до самых глубоких и
примитивных слоев душевного развития и там найти разрешение проблем позднейших
душевных формирований. Тогда начинаешь думать, что только тот анализ, который
проник так далеко, заслужи-вает этого названия' [Фрейд 1996: 158].
Вопрос о том, хочет ли сознание
быть вылеченным, хочет ли оно, чтобы вытесненный, замещенный, пере-
267
несенный, отрицаемый и т. д.
материал был вытащен наружу психоаналитиком, и соответственно хочет ли текст,
чтобы его сокровенный смысл был выявлен, экс-плицирован филологом, - есть
вопрос понимания ам-бивалентности направленности сознания, его колебания между
созиданием и разрушением, между инстинктом жизни и влечением к смерти.
Соответственно это и во-прос понимания того, хочет ли автор текста быть поня-тым
сразу за счет утраты глубины текста, или он пред-почитает первоначальное
непонимание (соответствую-щее влечению к смерти) посмертной славе, как это
обычно и соответствует противопоставлению прижиз-ненного непонимания
посмертному признанию по принципу 'Меня не понимают - очень хорошо: когда я
умру, все поймут, с каким великим человеком имели дело'; примерно так же
обстоит дело при самоубийст-ве - 'Я умру, но вам же будет хуже' (Фрейд 'Скорбь
и меланхолия' [Фрейд 1995с]).
Последнее
рассуждение соответствует противопо-ставлению массового и 'фундаментального'
искусства. Массовое искусство жертвует глубиной, но получает мгновенное признание.
Его 'лечение' протекает легко и быстро. 'Фундаментальное' искусство жертвует
при-жизненным признанием, но получает (может получить) громкое признание после
смерти автора. Его анализ протекает медленно, сложно и обычно не дает оконча-тельного
результата.
Следует
подчеркнуть, однако, что ни глубинная структура, ни бессознательное, ни смысл
текста не явля-ются, строго говоря, семиотическими объектами. Они суть чистые
означающие без означаемых, план содержа-ния без плана выражения. Проще всего
это показать на примере сновидения, которое обычно считалось очень близким к
бессознательному (царским путем к нему, по
268
выражению самого Фрейда [Фрейд 1991]).
Сновидение само по себе не является семиотическим объектом. Это чистое
означающее, у него нет плана выражения. Из че-го сделаны сновидения, сказать
нельзя. Здесь, как и во всем другом, аналитик имеет дело лишь с речью пациен-та,
не с самими сновидениями, а с рассказами о сновиде-ниях (ср. [Малкольм 1993]).
В этом наше расхождение с
Лаканом, который считал, что бессознательное структурируется как язык. Уточ-няя
это положение, можно сказать, что бессознательное структурируется как
'индивидуальный язык' (private language) [Витгенштейн 1994]. Но, по Витгенштейну,
ин-дивидуальный язык невозможен, он не является семиоти-ческим объектом, не
является языком, потому что на нем нельзя передавать информацию. Поэтому тезис
Лакана о том, что 'бессознательное субъекта есть дискурс друго-го' следует
переформулировать как 'бессознательное есть отраженный дискурс другого как
индивидуальный язык, внутренняя речь Я'. Бессознательное - это инди-видуальный
язык Я, переместивший чужую семиотиче-скую речь (дискурс другого) в свой
индивидуальный язык - язык, который невозможно понять, не превратив-шись в
этого другого, язык, который, строго говоря, и не является языком. Как мы это
понимаем? Допустим, паци-ент в младенческом возрасте наблюдал коитус родите-лей,
как фрейдовский Человек-Волк. Эта сцена и была дискурсом другого, который
субъект не мог перевести в свой осознанный дискурс, так как он не мог еще
адекват-но понять, осознать, 'прочитать' дискурс другого, пере-вести его в свою
семиотическую (или, как говорит Лакан, символическую) систему. Поэтому сцена
остается в его бессознательном как непрочитанная, непроявленная, не-истолкованная
и поэтому как нечто страшное (ср. фрей-довскую концепцию 'жуткого'
(Unheimliche) [Фрейд
269
1995с]). Она остается как его
индивидуальный язык, вну-тренняя речь, непонятная ему самому и поэтому забытая,
вытесненная его сознанием. Анализ переводит этот интериоризованный дискурс
другого в сознание субъекта, расшифровывает его, пользуясь тем, что
символическая система субъекта теперь уже в состоянии понять, что произошло, и,
что самое главное, понять, что не произо-шло
ничего страшного. Здесь и совершается терапевти-ческий эффект.
Сверхценность травмы снимается за счет ее семиотизации, за счет перевода ее в
символический язык субъекта. Поясним это на примере из 'Евгения Оне-гина'.
Когда Онегин уехал из деревни, вся ситуация, свя-занная с ним, воспринималась
Татьяной как травмати-ческая. Онегин существовал в сознании Татьяны как не-понятный
'дискурс Другого'. И вот поразительно, что Татьяна начинает заниматься
самопсихоанализом. Она идет в дом, где жил Онегин, и читает те книги, которые
он читал. Постепенно она экстериоризует то травматиче-ское, завораживающее
начало, которое так сильно подей-ствовало на нее в Онегине, и дезавуирует это
начало. Оказывается, в Онегине не было 'ничего страшного', ничего значительного
- он просто пародия на тех персо-нажей
- Чайльд-Гарольда, Мельмота, - по моделям по-ведения которых он строил свое
поведение. И вот когда слово 'пародия' приходит на ум Татьяне (у Пушкина так и
сказано: 'Ужели слово найдено?' -
курсив Пуш-кина. - В. Р.) , происходит
перевод ее травмы в понят-ную ей (а она сама по себе тоже прочитала довольно
мно-го книг) символическую систему европейского роман-тизма (в этом рассуждении
мы в определенном смысле опирались на 'кросскультурную' концепцию 'Евгения
Онегина', разработанную Г. А. Гуковским и развитую и переработанную в духе
структурной поэтики 70-х годов Ю. М. Лотманом [Гуковский 1963, Лотман 1976]).
270
Переходя на язык филологического
анализа, можно сказать, что бессознательное текста, его смысл - это черновик,
нечто, что в принципе не подлежит чтению, то есть нечто, что читается без
всякого на то права, ког-да хозяина текста уже нет. Черновик, как и дневник, - это
индивидуальный язык, внутренняя речь литератора, элементы его бессознательного.
Ср. известные ахматовские строки:
А так как мне бумаги не хватило,
Я на твоем пишу черновике.
И вот чужое слово проступает.
'Чужое слово',
элемент интертекста - это и есть дискурс Другого, или индивидуальный язык Я.
Когда филологи спорят о том, является ли какой-либо фраг-мент текста
реминисценцией к тому или другому текс-ту, то они говорят о том, о чем 'следует
молчать', о су-губо семантических, континуальных сущностях, о чис-тых
означаемых, которые не переводимы в дискретный семиотический язык.
К чему же мы приходим? К тому ли,
что все то, что ищет психоаналитик и филолог, - психическую травму и смысл
художественного текста - найти невозможно, вернее, что все то, что они находят,
оказывается не тем, что они искали? В определенном смысле, по-видимому, это так
и есть. Но означает ли это в таком случае, что поиски бесполезны - что травма
не может быть выяв-лена и невротик так и останется невротиком, что смысл текста
не может быть познан и текст будет хранить его вечно? В определенном смысле
такая пессимистическая постановка вопроса созвучна финалу витгенштейновского 'Трактата':
'6.521 Решение проблемы жизни за-ключается в исчезновении этой проблемы. (Не
это ли
271
причина того, что люди, которым
после долгих сомне-ний стал ясен Смысл жизни, все-таки не могли сказать, в чем
этот Смысл состоит.)' В этом случае эта статья могла бы называться
'Бессмысленность культуры'.
Но здесь
кончается аналогия между задачей психо-анализа и сущностью анализа
художественного произ-ведения. Травматичность художественного смысла и ос-мысленность
психологической травмы направлены в противоположные стороны. Психоаналитик
путем об-наружения травмы обессмысливает ее, то есть лишает ее того
сверхценного смысла, который она имела в бес-сознательном пациента. Переводя ее
в семиотический дискурс, аналитик лишает травму ее статуса 'бессозна-тельного
дискурса Другого', превращая ее в осознан-ный дискурс субъекта о самом себе.
Филолог же, если он отыскал некий единый уникальный смысл художест-венного
произведения, тем самым не излечивает худо-жественный текст от его травмы, ибо
сверхценность ху-дожественного 'бессознательного дискурса Другого' не является
патологической в том смысле, в котором это имеет место в психоанализе.
Бессознательный художе-ственный дискурс Другого филолог превращает в осо-знанный
художественный дискурс для всех и прежде всего для себя самого. Как мы уже
говорили, занятый поиском художественной травмы текста, филолог на са-мом деле
занят поиском собственной травмы, хотя чаще всего он этого не понимает.
(Впрочем, и психоаналитик в процессе лечения пациента лечит самого себя, что не
раз подчеркивалось самыми крупными авторитетами. Так, Юнг в статье 'Соображения
о психотерапии' пи-шет, что 'невротичный психотерапевт неизбежно будет лечить у
пациента свой собственный невроз' [Юнг 1997: 43]. Лакан, говоря о
психоаналитической технике Фрейда, подчеркивал: '...Фрейд с самого начала
осозна-
272
ет, что продвинется в анализе
невротиков лишь в том случае, если будет анализировать себя самого' [Лакан 1998:
9].) Результат анализа художественного текста - не выздоровление текста (в
определенном смысле текс-ту уже ничем не поможешь), а выздоровление самого
аналитика. В этом и состоит позитивность культуры - не просто заявить о том,
что смысл непостигаем, но прийти к этому путем сложнейших логических (а на
самом деле психоаналитических по своей сути) проце-дур - не секрет, что
'Логико-философский трактат' спас Витгенштейна от самоубийства. Деневротизация
сознания при художественной-филологической-фило-софской-научной терапии
достигается путем позитивно-го переноса своей травмы на анализируемый текст.
Разу-меется, лечение это не может быть радикальным, так как перенос, каким бы
позитивным он ни был, есть по сути своей нечто промежуточное, это не изживание
травмы, но лишь передача ее 'другому'. Но поскольку речь в дан-ном случае идет
о культуре, то можно предположить, что именно эта транзитивная цепочка
переносов обеспечива-ет ее непрерывность. Культура семиотична, и с этой точ-ки
зрения она действительно 'бессмысленна', но кроме нее никаких иных путей к
смыслу мы не имеем.
Невроз
понимается в психоанализе как патологичес-кая реакция на вытесненное в
бессознательное влече-ние, которое не могло осуществиться, так как противо-речило
бы принципу реальности [Фрейд 1989]. 'При неврозе, - пишет
Фрейд, - Я отказывается принять мощный
инстинктивный импульс со стороны Оно
[...] и защищается от Оно с помощью
механизма подавления'[Freud 1981a: 214].
При психозе, напротив, происходит
прежде всего разрыв между Я и
реальностью, в результате чего Я ока-зывается во власти Оно, а затем возникает состояние бреда, при
котором происходит окончательная потеря реальности (Realitatsverlust) и Я строит новую реаль-ность в соответствии с
желаниями Оно [Freud 1981b].
В эту ясную концепцию Фрейда
Лакан вносит суще-ственные уточнения, как всегда рассматривая эти уточ-нения
лишь как прояснения мыслей самого Фрейда. В одном из семинаров цикла 1953/54
года, посвященного работам Фрейда по технике психоанализа, Лакан на своем не
всегда внятном и доступном языке говорит:
'В невротическом непризнании, отказе, отторжении реальности мы
констатируем обращение к фантазии. В этом состоит некоторая функция,
зависимость, что в словаре Фрейда может относиться лишь к регистру во-ображаемого.
Нам известно, насколько изменяется цен-
274
ность предметов и людей,
окружающих невротика, - в их отношении к той функции, которую ничто не меша-ет
нам определить (не выходя за рамки обихода) как во-ображаемую. В данном случае
слово воображаемое от-сылает нас,
во-первых, к связи субъекта с его образую-щими идентификациями [...] и,
во-вторых, к связи субъекта с реальным, характеризующейся иллюзорнос-тью (это
наиболее часто используемая грань функции воображаемого).
Итак [...], Фрейд подчеркивает,
что в психозе ничего подобного нет. Психотический субъект, утрачивая со-знание
реальности, не находит ему никакой воображае-мой замены. Вот что отличает его
от невротика.
[...] В концепции Фрейда
необходимо различать функцию воображаемого и функцию ирреального. Ина-че
невозможно понять, почему доступ к воображаемому для психотика у него заказан.
[...] Что же в первую очередь
инвестируется, когда психотик реконструирует свой мир? - Слова. [...] Вы не
можете не распознать тут категории символического.
[...] Структура, свойственная
психотику, относится к символическому ирреальному или символическому, несущему
на себе печать ирреального' [Лакан 1998:157-158].
Если
в двух словах подытожить рассуждения Лакана, можно сказать, что при неврозе
реальное подавляется во-ображаемым, а при психозе реальное подавляется симво-лическим.
Символическое для Лакана - это синоним слова 'язык'. Другими словами, если
невротик, фантази-руя, продолжает говорить с нормальными людьми на об-щем
языке, то психотик в процессе бреда инсталлирует в свое сознание какой-то
особый, неведомый и непонят-ный другим людям язык (символическое ирреальное).
275
Итак, для нас
в понятии 'невроза' будет самым важ-ным то, что это такое психическое
расстройство, при котором искажается, деформируется связь воображае-мого,
фантазий больного, с реальностью. Так, напри-мер, у больного депрессией,
протекающей по невроти-ческому типу, будет превалировать представление о том,
что весь мир - это юдоль скорби; страдающий клаустрофобией будет панически
бояться лифтов, мет-ро, закрытых комнат и т. д.; страдающий неврозом на-вязчивых
состояний будет, например, мыть руки десят-ки раз в день или, например, все
подсчитывать. Но при этом - и это будет главным водоразделом между не-врозами и
психозами - в целом, несмотря на то, что связь с реальностью у невротика
деформирована, при этом символические отношения с реальностью сохра-няются, то
есть невротик говорит с нормальными людьми в основном на их языке и может найти
с ними общий язык. Так, например, наш депрессивный боль-ной-невротик в целом не
склонен будет думать, что мир объективно
является юдолью скорби, он будет сохра-нять критическую установку по отношению
к своему воображаемому, то есть будет осознавать, что это его душевное
состояние окрасило его мысли о мире в та-кой безнадежно мрачный цвет. Так же и
больной клау-строфобией понимает, что его страх закрытых прост-ранств не
является универсальным свойством всех лю-дей, таким, например, каким является
страх человека перед нападающим на него диким животным. Страдаю-щий
клаустрофобией понимает, что страх перед закры-тыми пространствами - это
проявление его болезнен-ной особенности. И даже обсессивный невротик не ду-мает,
что мыть руки как можно больше раз в день или все подсчитывать - это
нормальная, присущая каждо-му человеку особенность.
276
Психоз же мы
понимаем как такое душевное расст-ройство, при котором связь между сознанием
больного и реальностью полностью или почти полностью нару-шена. Проявляется это
в том, что психотик говорит на своем языке, никак или почти никак не
соотносимом с языком нормальных в психическом отношении людей (то есть, как
говорит Лакан, у психотика нарушена связь между символическим и реальным).
Психотик, который слышит голоса, нашептывающие ему бред его величия или,
наоборот, насмерть пугающие, преследующие его, психотик, видящий галлюцинации
или же просто пле-тущий из своих мыслей свой бред, - психотик безна-дежно
потерян для реальности. В его языке могут быть те же слова, которые употребляют
другие люди (но мо-жет и выдумывать новые слова или вообще говорить на
придуманном языке), но внутренняя связь его слов (их синтаксис), значения этих
слов (их семантика) и их со-отнесенность с внеязыковой реальностью (прагматика)
будут совершенно фантастическими. Заметим, что пси-хоз - это вовсе не
обязательно бред в классическом смысле, как в 'Записках сумасшедшего' Гоголя. И
де-прессия, и клаустрофобия, и обсессивное расстройство могут проходить по
психотическому циклу. Достаточно депрессивному больному объективизировать свои
мыс-ли о том, что мир - это юдоль скорби, страдающему клаустрофобией полагать,
что весь мир боится лифтов и закрытых дверей, а обсессивному пациенту быть уве-ренным,
что все люди должны непременно десятки раз в день мыть руки,- и все трое
становятся психотиками.
Невроз и
психоз - понятия, родившиеся в XIX веке (термин 'психоз' ввел в 1845 году
немецкий психиатр Фейхтерлебен; невроз - в 1877 году шотландский врач Уильям
Каллен [Лапланш-Понталис
1996: 251, 402]) и
получившие широчайшее распространение в XX веке
277
благодаря развитию клинической
психиатрии и психо-анализа. По сути дела это понятия, определяющие спе-цифику
культуры XX века. Мы не выскажем никакой неожиданной мысли, утверждая, что
любой художник (или даже ученый) практически всегда невротик или - реже -
психотик. Целебный невроз творчества - ре-зультат сублимационной актуализации
вытесненных влечений. Особенно это верно для XX века, когда каж-дый третий
человек - невротик и каждый десятый - психотик. В этом смысле можно даже
сказать, что с логи-ческой точки зрения любой создатель художественного
произведения - психотик, а его текст - психотический бред. Ведь в любом художественном
тексте рассказыва-ется о событиях, никогда не случавшихся, но рассказыва-ется
так, как будто они имели место.
Основная мысль нашего
исследования состоит в сле-дующем. Если все культурные деятели XX века по тем
или иным причинам делятся на невротиков и психоти-ков, то и вся культура XX
века может и в определенном смысле должна быть поделена на невротическую и пси-хотическую.
Обоснование и развитие этой идеи и пред-стоит в дальнейшем.
Рассмотрим прежде всего наиболее
продуктивную для описания культуры XX века пару понятий - модер-низм и
авангард. В духе работы [Руднев 1997] мы пони-маем модернизм как
такой тип культурного сознания в XX веке, который порождает тексты, опережающие
куль-турную норму своего времени прежде всего на уровне синтактики и семантики
при сохранении традиционной прагматики, а авангард - как такой тип культурного
со-знания, который порождает тексты, опережающие куль-турную норму прежде всего
на уровне прагматики (при этом синтактика и семантика могут оставаться традици-онными,
но могут также быть подвергнуты инновации).
278
Переводя эти определения на
психологический язык Лакана, можно сказать, что модернист деформирует язык в
сторону воображаемого, при этом самая основа языка, обеспечивающая контакт с
другими субъектами (прагматика), у модерниста остается неизменной. Дру-гими
словами, в модернистском дискурсе воображае-мое подавляет реальное. Исходя из
этого можно сказать, что модернист производит невротический
дискурс.
С другой стороны, авангардист,
подрывая саму ком-муникативную основу языка (прагматику), отрезает путь к
пониманию его языка (его символического) дру-гими субъектами. Авангардист
создает свой собствен-ный язык, родственный языку параноидального или ма-ниакального
бреда. Исходя из этого можно утверждать, что авангардист производит психотический дискурс.
Конечно, это чересчур общая
схема, и из нее воз-можны исключения и в ту и в другую стороны, и тем не менее
в целом это задает общую перспективу иссле-дования - модернистский
невротический дискурс и авангардный психотический дискурс. С одной сторо-ны,
постимпрессионизм французских художников, пе-тербургский символизм и акмеизм,
австрийский экс-прессионизм, неоклассицизм в музыке (Хиндемит, Стравинский),
проза Пруста, Джойса, Томаса Манна, Гессе, Томаса Вулфа, Булгакова, Набокова,
Фаулза, модернистское кино - все это невротический дис-курс. С другой стороны,
додекафония, футуризм, сюр-реализм, обэриуты, Бунюэль, Кафка, отчасти Фолк-нер,
Платонов, Виан, Мамлеев, Сорокин, Виктор Еро-феев - все это психотический
дискурс.
Первый анализ невротического
дискурса принадле-жит самому Фрейду. Мы говорим о работе 1907 года 'Бред и сны
в "Градиве" Р. Иенсена' [Фрейд 1995Б]. Здесь
на примере анализа повести второстепенного ав-
279
тора Фрейд показывает, как
писатель бессознательно художественными средствами проводит подлинный
психоанализ (конечно, на уровне первой топики Фрей-да), изображая, как
сексуальное влечение героя вытес-няется в бессознательное, потом
актуализируется в ви-де бреда и наконец с помощью возлюбленной героя, иг-рающей
роль психоаналитика, благополучно выходит на поверхность. Однако 'Градиву'
Иенсена можно на-звать невротическим дискурсом лишь в слабом смысле. Под этим
мы подразумеваем то, что лишь нарративный план повести обнаруживает
невротический характер (вытеснение влечения, 'нехватку Другого', как говорит
Лакан, тревожные сновидения и даже психотический бред - надо ли говорить, что
тот факт, что в произведе-нии изображается психоз, сам по себе никоим образом
не является основанием для того, чтобы рассматривать этот текст как
психотический дискурс - так, 'Голем' Майринка, 'Ослепление' Канетти, 'Мастер и
Маргари-та' Булгакова, фильм Хичкока 'Психоз' являются не психотическим, но
невротическим дискурсом). Что же мы тогда назовем невротическим дискурсом в
сильном смысле? Такой текст, сама структура которого коррели-рует с
невротическим содержанием, вернее, представ-ляет с ним одно целое. То есть
такое положение вещей, когда 'невротическое' переходит из области психопато-логии
в область художественного письма и становится фактом эстетики. Именно этот
переход для нас чрезвы-чайно важен. В европейской культуре впервые его сде-лали
французские художники-постимпрессионисты, са-мо письмо которых выражает
тревожность, страх, чув-ство одиночества, неудовлетворенность, отчаяние,
подавленность, напряженность, глубокую интроверсию, дифензивность, то есть весь
комплекс невротичес-ких составляющих в клиническом смысле.
280
В художественной литературе XX
века подобную 'невротическую революцию' безусловно совершили два писателя - Пруст
и Джойс.
Сравним два фрагмента:
(1) '...без
какого-либо разрыва непрерывности - я сразу же вслед тому прошлому прилип к
минуте, когда моя бабушка наклонилась надо мной. То 'я', которым я был тогда и
которое давно исчезло, снова было рядом со мной, настолько, что я будто слышал
непосредственно прозвучавшие слова <...>
Я снова полностью был тем
существом, которое стремилось укрыться в объятиях своей бабушки, сте-реть
поцелуями следы ее горестей, существом, вообра-зить себе которое, когда я был
тем или иным из тех, что во мне сменились, мне было бы так же трудно, как труд-ны
были усилия, впрочем бесплодные, вновь ощутить желания и радости одного из тех
'я', которым по край-ней мере на какое-то время я был.'
(2)
'Ax и море море алое как огонь и роскошные за-каты и фиговые деревья в садах
Аламеды да и все при-чудливые улочки и розовые желтые голубые домики ал-леи роз
и жасмин герань кактусы и Гибралтар где я бы-ла девушкой и Горным цветком да
когда я приколола в волосы розу как делают андалузские девушки или алую мне
приколоть да и как он целовал меня под Мавритан-ской стеной и я подумала не все
ли равно он или другой и тогда сказала ему глазами чтобы он снова спросил да и
тогда он спросил меня не хочу ли я да сказать да мой горный цветок и сначала я
обвила его руками да и при-влекла к себе так что он почувствовал мои груди их
аро-мат да и сердце у него колотилось безумно и да я сказа-ла да я хочу Да.'
281
Прежде всего,
я думаю, никто не станет спорить, что оба произведения - 'В поисках утраченного
времени' и 'Улисс' - посвящены теме утраты объекта желания, нехватки Другого.
Оба отрывка непосредственно это де-монстрируют. Марсель погружен в воспоминания
об умершей бабушке, Молли Блум - об ушедшей молодо-сти и их любви с Блумом. Но
помимо этого, помимо, вы-ражаясь кинематографическим языком, диегезиса или,
пользуясь любимым выражением Лакана, помимо озна-чаемого, в этих фрагментах
сама форма повествования, само означающее коррелирует с невротическим планом
содержания, с невротическим означаемым. Эта корреля-ция формы, этот
стилистический прием, который давно известен и который составляет
художественное откры-тие Пруста и Джойса, в целом называется потоком со-знания.
Поток сознания - это означающее традицион-ного невротического дискурса в
сильном смысле. В чем состоит суть потока сознания? В том, что он нарушает
привычный книжный синтаксис художественного про-изведения, уподобляя его
внутренней речи сознания при помощи обрывков, эллипсисов, нелинейности, отсутст-вия
знаков препинания, нарушения синтаксико-семантической связи между
предложениями. Все эти особенно-сти создают коррелят тем невротическим
составляю-щим, которые мы перечислили и которые присутствуют и в данных
произведениях, - тревожности, одиночест-ву, страху, отчаянию и т. д.; то есть
хаос на уровне син-таксиса (означающего) соответствует хаосу, дисгармо-нии на
уровне семантики (означаемого).
Поскольку
невротический дискурс не является глав-ной целью нашего исследования, мы не
станем подроб-но прослеживать историю его развития и эволюции в художественной
культуре XX века. Отметим лишь три принципиально важных момента.
282
В принципе любое художественное
произведение XX века с активным стилем может рассматриваться как невротический
дискурс (если это, конечно, не психоти-ческий дискурс).
Важнейшей особенностью
невротического дискур-са, уже начиная с Джойса, является интертекст (по-скольку
эта тема, можно сказать, более чем изучена, мы не будем ее подробно
муссировать), потому что интер-текст - это всегда направленность текста в
прошлое, в поисках утраченного объекта желания - что является безусловной
невротической установкой. Отсюда все эти безумные 'навороченные' интертексты
Ахматовой и Мандельштама, которые задали столько работы ученым 'школы
Тарановского'.
Третий момент самый важный. Он
касается перехода от классического 'серьезного' модернизма к послевоен-ному
постмодернизму. Вопрос в том, можно ли назвать постмодернистский дискурс
невротическим. Можно, но с одной поправкой. Будем считать, что для постмодер-нистского
дискурса наиболее характерным построени-ем является гиперриторическая фигура
'текст в тексте' (ее очертания выглядывают уже в 'Улиссе' Джойса, ко-торый
некоторые критики считают первым произведе-нием постмодернизма): роман о Пилате
в 'Мастере и Маргарите', беседа с чертом в 'Докторе Фаустусе', комплекс
разыгрываемых сцен в 'Волхве' Фаулза, по-эма Шейда в 'Бледном огне' Набокова,
текст и коммен-тарий в 'Бесконечном тупике' Галковского, многочис-ленные тексты
в тексте у Борхеса, бесконечные постро-ения типа 'фильм в фильме' - '8 1/2'
Феллини, 'Страсть' Годара, 'Все на продажу' Вайды и т. д. Смысл этого
построения в том, что два текста - внут-ренний и внешний - создают
невротическое напряже-ние между текстом и реальностью (то есть между ре-
283
альным и воображаемым - сугубо
невротический кон-фликт) так, что в принципе непонятно, где кончается ре-альность
и начинается текст, и vice versa. To есть в от-личие от классического
модернистского дискурса, где идет борьба реального и воображаемого, здесь идет
борьба одного воображаемого против другого вообража-емого, одно из которых
становится символическим - нужен же язык, на котором можно было бы вести борь-бу,
а реальное фактически из этого конфликта выбрасы-вается, то есть одно из двух
воображаемых у постмо-дерниста становится на место текста, а другое - на ме-сто
реальности. Учитывая сказанное, можно уточнить понимание 'невротизма'
постмодернистского дискур-са, суть которого заключается в том, что вектор от
вооб-ражаемого в нем направлен не на подавление реально-го, как в классическом
модернизме, но на подавление символического - исходная точка одна и та же,
векто-ры противоположные. Исходя из этого, мы назовем та-кого рода
художественное построение постневротичес-ким
дискурсом.
Говоря о
психотическом дискурсе, главном предмете нашего исследования, мы будем прежде
всего обращать внимание, так же как и при анализе невротического дис-курса, не
на план содержания, а на план выражения, не на означаемое, а на означающее. То
есть для нас будет важен переход 'психотического' из психопатологии в эстетику.
Как же форма художественного произведения может соответствовать психотическому
началу? Для этого нужно, чтобы в ней символическое подавляло ре-альное, чтобы
художник придумал свой особый язык, аналог психотического бреда, понятный ему
одному. В наиболее явном виде такой язык придумывали футури-сты, Хлебников,
Бурлюк, Крученых. В этом языке были искажены и сломаны и синтаксис, и
семантика, и праг-
284
матика. Это был психотический
дискурс в наиболее сильном смысле. Примеров мы в данном случае приво-дить не
будем, так как они очевидны. Гораздо более тон-кие вещи проделывали с языком
обэриуты, прежде все-го Хармс и Введенский. Тонкость была в том, что они
монтировали свой психотический язык из осколков обыденного языка, поэтому они,
особенно Хармс, мог-ли работать даже на игровом поле детской литературы или
литературы, притворяющейся детской (ведь опять-таки, если рассуждать логически,
сказочное мышление, то есть такое мышление, которое придумало змея-горы-ныча,
бабу Ягу, молодильные яблоки, скатерть-само-бранку, сапоги-скороходы и т. д. и
т. п. - это тоже пси-хотическое мышление).
Как-то бабушка махнула и тотчас же паровоз детям подал и
сказал:
пейте кашу и сундук. Утром дети шли назад сели дети на
забор и сказали: вороной поработай, я не буду, Маша тоже не такая как хотите
может быть мы залижем и песочек то что небо выразило
Однако для образования психотического дискурса не обязательно коверкать
слова или придумывать новые слова, как это делали футуристы, или деформировать
сочетания слов, как в вышеприведенном примере. До-статочно нарушить соотношение
между словами (пред-ложениями) и их восприятием, то есть деформировать
прагматику дискурса (в чем, напомним, состоит суть
285
авангарда). Так, например,
поступает Хармс в классиче-ском тексте 'Вываливающиеся старухи':
'Одна старуха от
чрезмерного любопытства вывали-лась из окна, упала и разбилась.
Из окна высунулась другая старуха
и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже
вывалилась из окна, упала и разбилась.
Потом из окна вывалилась третья
старуха, потом чет-вертая, потом пятая.
Когда вывалилась шестая старуха,
мне надоело смо-треть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, го-ворят,
одному слепому подарили вязаную шаль'.
Здесь
не нарушены ни синтаксис, ни сочетания слов, ни поверхностная семантика. Тем не
менее это бредо-вый психотический дискурс. И впечатление бреда со-здается - это
очень существенная черта психотическо-го дискурса - оттого, что у героя не
вызывает никако-го удивления факт последовательного выпадения из окна одной за
другой шести старух, и даже наоборот, ему эти наблюдения за выпадающими
старухами в кон-це концов надоедают. (Аналогично в таком хрестома-тийном
психотическом дискурсе, как 'Превращение' Кафки, в начальной сцене, когда
Грегор Замза просыпа-ется и обнаруживает, что он превратился в насекомое, его
больше всего волнует, как он в таком виде пойдет на службу.) Сравним это с
невротическим дискурсом, где, бывает, тоже описывается бред, но при этом у
героя по отношению к этому бреду сохраняется разумная или по крайней мере
амбивалентная установка. Именно так происходит, например, в романе 'Доктор
Фаустус', ког-да к Леверкюну приходит черт и заключает с ним дого-вор на три
года. Здесь еще чрезвычайно важно, что при
286
сохранении разумной или
амбивалентной установки ге-роя по отношению к бреду для невротического дискур-са
весьма характерно, что бред чрезвычайно сильно подсвечивается интертекстуально
- в данном случае реминисценцией к соответствующему разговору с чер-том в
'Братьях Карамазовых' и явлению Мефистофеля во всех предшествующих вариантах
легенды о Фаусте. Так вот, для психотического дискурса такое интертекс-туальное
подсвечивание в высшей степени не характер-но. Вообще психотический дискурс, во
всяком случае на поверхности, устроен гораздо проще - вспомним аскетическое
письмо романов Кафки или 'Посторонне-го' Камю. Если невротическая поэзия (да и
проза тоже, например, проза Юрия Олеши - А. Белинков остроум-но замечает, что
'Три толстяка' выросли из нескольких метафор [Белинков 1997]) сверхметафорична, то в пси-хотической
поэзии метафоры просто не может быть - там все понимается буквально, как все
понимается бук-вально в бреде. Фактически ни у Хармса, ни у Введен-ского, ни у
раннего Заболоцкого мы не найдем метафор.
Но все же приведенные случаи
являются наиболее очевидными и ясными примерами психотического дис-курса.
Рассмотрим более сложные примеры.
Сравним следующие четыре
фрагмента.
(1) 'Глядя
мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба
кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему захотелось,
чтоб вперед пролетела карета, чтоб про-спекты летели навстречу - за проспектом
проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как
змеиными кольцами, черно-серыми ды-мовыми кубами; чтобы вся проспектами
притиснутая земля, в линейном космическом беге пересекла бы не-
287
объятность прямолинейным законом;
чтобы сеть парал-лельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые
бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя,
чтобы...'
(2) 'Я велел своему слуге привести из конюшни мою лошадь, но он не
понял меня. Тогда я сам пошел, запряг коня и поехал. Впереди тревожно звучали
трубы.
У ворот он
спросил меня: - Куда вы едете?
- Не знаю сам, - ответил я, - но
только прочь от-сюда! но только прочь отсюда! только бы прочь отсюда! Лишь так
достигну я своей цели.
- Вы знаете свою цель? - спросил
он.
- Да! - ответил я. - Прочь
отсюда! Вот моя цель'.
(3) 'Но если дядя Гэвин и прятался где-то в овражке, Гауну ни разу не
удалось его поймать. Более того: и дя-дя Гэвин ни разу не поймал там Гауна.
Потому что если бы моя мама когда-нибудь узнала, что Гаун прячется в овражке за
домом мистера Сноупса, думая, что там пря-чется и дядя Гэвин, то, как мне потом
говорил Гаун, не-известно, что бы она сделала с дядей Гэвином, но то, что она
сделала бы с ним, Гауном, он понимал отлично. Хуже того: вдруг мистер Сноупс
узнал бы, что Гаун по-дозревал дядю Гэвина в том, что он прячется в овражке и
следит за его домом. Или еще хуже: вдруг весь город узнал бы, что Гаун прячется
в овражке, подозревая, что там прячется дядя Гэвин'.
(4) 'Роман вышел из церкви и подошел к дому Сте-пана Чернова. Роман
вошел в дом Степана Чернова. Ро-ман нашел труп Степана Чернова. Роман разрубил
брюшную полость трупа Степана Чернова. Роман взял кишки Степана Чернова. Роман
вышел из дома Степана
288
Чернова и пошел к церкви. Роман
вошел в церковь. Ро-ман положил кишки Степана Чернова рядом с кишками Федора
Косорукова. Татьяна трясла колокольчиком. Ро-ман вышел из церкви и пошел к
трупу Саввы Ермолае-ва. Роман нашел труп Саввы Ермолаева. Роман разру-бил
брюшную полость трупа Саввы Ермолаева. Роман вынул кишки из брюшной полости
трупа Саввы Ермо-лаева. Роман взял кишки Саввы Ермолаева и пошел к церкви.
Роман вошел в церковь. Роман положил кишки Саввы Ермолаева рядом с кишками
Степана Чернова. Татьяна трясла колокольчиком'.
В первом фрагменте (речь идет о романе Белого 'Пе-тербург') бред
Аполлона Аполлоновича Аблеухова обусловлен тем, что по характеру этот герой -
парано-идальный ананкаст, то есть, с одной стороны, болезнен-но педантичный
человек (например, все полки в гарде-робе он велел проиндексировать - А, В, С),
а с другой стороны, болезненно тщеславный, страдающий мегало-манией. И вот его
бред как раз сочетает геометричность его характера и манию величия - он хочет
вобрать в се-бя весь макрокосм, но в то же время построить его в ви-де
правильных геометрических линий. Этому последне-му геометрически-психотическому
желанию в плане оз-начаемого соответствует психотическое означающее,
болезненная и с точки здравого смысла достаточно не-лепая идея записывать весь
дискурс метрически пра-вильными периодами, как правило анапестом. Надо сказать,
что геометрический бред Аблеухова опосредо-ван не только его личностными
качествами, но особен-ностями главного героя романа, города Санкт-Петер-бурга и
порожденного им так называемого петербург-ского мифа и петербургского текста
(распространение которого в культуре носило интертекстуальный харак-
289
тер, в этом смысле 'Петербург' не
является типичным психотическим дискурсом - мы ведь и говорили, что будем
рассматривать сложные случаи, - он все-таки принадлежит культуре русского
символизма, хотя и с большим влиянием австрийского экспрессионизма, от-сюда и
психотичность). Главной идеей петербургского мифа была вполне психотическая
идея, в соответствии с которой Петербург - это город-призрак, который в од-ночасье
появился и в одночасье пропадет. Главной идеей петербургского текста была идея,
что это город, в кото-ром невозможно жить, который с необходимостью бла-годаря
своему болезненному климату, как природному, так и психологическому, ведет к
болезням, в частности к психическим, см., например [Топоров 1995b]. Не
случай-но наиболее значимые петербургские тексты - это тек-сты, рассказывающие
о психозах: 'Медный всадник' и 'Пиковая дама' Пушкина, 'Двойник' и 'Господин
Прохарчин' Достоевского (вспомним, кстати, что кульмина-ционная сцена
'Петербурга' Белого - это психоз одно-го из главных героев, террориста Дудкина,
когда к нему в гости приходит Медный всадник, - одновременно это, конечно,
реминисценция и из 'Каменного гостя').
Следующий
пример интересен тем, что он является не фрагментом, а целостным произведением
- это микро-новелла Кафки 'Отъезд'. Здесь психотическое сознание показано
достаточно тонко - при помощи разрыва праг-матических связей. Кафка ведь не
авангардист, он такой особый психотический модернист, поэтому у него не бу-дет
вываливающихся старух. Тем не менее это психоти-ческий дискурс во всей
определенности, во всей, так ска-зать, взаимосвязи означаемого и означающего.
Прагмати-ческие связи между героем, читателем и слугой героя оборваны уже в
первом предложении: 'Я велел слуге привести из конюшни мою лошадь, но он не
понял ме-
290
ня'. Читатель не знает, что
предшествовало этому разго-вору, и его явно не собираются ставить об этом в
извест-ность. Речевой акт героя по отношению к слуге по каким-то причинам
неуспешен, но по каким именно, совершен-но непонятно. Что значит 'не понял'? Не
расслышал? Не понял языка, на котором было отдано приказание? Сде-лал вид, что
не понял (не расслышал)? (Патологическая неуспешность (и наоборот,
гиперуспешность) речевых актов - одна из специфически кафкианских психотиче-ских
черт (анализ этой особенности см. на с. 74-78 на-стоящего исследования.) Второе
предложение усугубля-ет впечатление бреда (или сновидения - так рассматри-ваются
тексты Кафки в работе [Подорога 199f],
но ведь уже Фрейд писал, что сновидения - не что иное, как физиологически
нормальный бред). Герой вместо того, чтобы повторить свое приказание или
наказать слугу за нерадивость, внутренне как бы 'машет на него рукой' и идет в
конюшню сам. Слуга между тем нисколько не смущается, он преисполнен любопытства
и идет за хозя-ином следом. Тут следует слуховая галлюцинация о тру-бах, после
чего слуга спрашивает у хозяина, куда это он собрался. Здесь мы узнаем не
только то, что слуга не со-бирается сопровождать хозяина, - мы все больше убеж-даемся
(опять-таки, как во сне или в бреду, что слуга - это не слуга, а кто-то другой
(или, чтобы угодить Лакану, - Другой). Последнее обстоятельство также чрезвы-чайно
характерно для Кафки. Помощники оказываются соглядатаями, рассыльный не
приносит писем, наиболее могущественные чиновники оказываются наиболее бес-помощными
и т. д.
Здесь приходит
в голову кажущаяся неожиданной ас-социация с 'охранительным психотическим
миром' на-следника обэриутов и Кафки Дмитрия Александровича Пригова:
291
Вот придет водопроводчик
И испортит унитаз
Газовщик испортит газ
Электричество - электрик
Запалит пожар пожарник
Подлость сделает курьер
Но придет Милицанер
Скажет им: не баловаться!
Но продолжим
далее с 'Отъездом'. Слуга подтверж-дает наше подозрение в его 'другой'
идентичности. Он спрашивает героя о том, куда он едет, утверждая себя тем самым
по меньшей мере как свидетеля, а то и как судью. Ответ героя о том, что он не
знает, куда он едет, лишь бы прочь отсюда, является также сугубо
сновидчески-бредовым и читателя уже не удивляет, как почти не удивляет его
ироническая реплика слуги-Судии: 'Вы знаете свою цель?' Но ответ героя в своей
шизофрени-ческой инверсированности причин и следствий достой-но заканчивает
этот психотический шедевр: цель состо-ит в причине!
Следующий фрагмент демонстрирует
такой тип худо-жественного дискурса, который мы называем психозоподобным. Здесь изображаются люди вполне
нормальные, но все они одержимы какой-то навязчивой идеей, кото-рая на
перекрестке означаемого и означающего дает не-что весьма похожее на
психотический дискурс. Это ро-ман Фолкнера 'Город', одно из самых теплых,
'некро-вожадных' его произведений, вторая часть трилогии о Сноупсах. Его
главный отрицательный герой ('главный плохой', как говорят дети), Флем Сноупс,
одержим иде-ей обогащения и натурализации в Джефферсоне (не так уж, кстати,
далеко от навязчивого стремления землемера К. натурализоваться в Замке), его
племянник Минк на
292
протяжении 35 лет сидит в тюрьме,
одержимый идеей мести Флему за то, что тот не помог ему в трудную ми-нуту.
Положительные же герои Гэвин Стивенc, Чарлз Маллисон и В. К. Рэтлиф одержимы
идеей слежки за Сноупсами, которых Флем навязчиво тянет за собой из деревни в
город, с целью их искоренения.
И вот эта навязчивость,
неотступность всех дейст-вий, даже если она не связана со слежкой за Сноупсами,
в плане означающего в вышеприведенном отрывке со-ответствует особому
синтаксису, как бы нагнетающему эту навязчивость - один следит за другим,
другой за первым, а может быть, в этот момент за ними следит тот, за кем следят
они оба. При этом имена дяди и пле-мянника Гэвин / Гаун, того, кто следит, и
того, за кем следят, настолько похожи, что они путаются, как пута-ются тот, кто
следит, и тот, за кем следят.
Эта навязчивая паранояльная
упертость характерна для героев практически всех романов Фолкнера - 'Свет в
августе', 'Осквернитель праха', 'Авессалом, Авессалом!'. Особо надо сказать о
романе 'Звук и ярость'. Он одновременно является и меньше, и боль-ше, чем
психотическим.
Психопатологический 'клиницизм'
падает от первой части к последней: идиот Бенджи, психопат-шизоид Квентин,
здоровый в узком психиатрическом смысле эпилептоид Джейсон и наконец - в
четвертой части гармонизирующий голос автора. Однако все три первые части в
равной мере являются психотическими, так как представляют разговор на
придуманном языке, которого никто не слышит и никто не понимает, и это в равной
ме-ре относится и к Бенджи, и к Квентину, и к Джейсону.
Последний фрагмент взят из романа
Сорокина 'Ро-ман'. Как мы все помним, почти все произведения это-го автора
строятся однообразно - сначала следует 'со-
293
ветскоподобный' дискурс (в
'Романе' это русскоподобный дискурс), затем разверзается некая пропасть и на-чинается
страшный бред. Надо сказать, что здесь самым закономерным образом Сорокин
является последовате-лем Кафки, классические вещи которого, такие, напри-мер,
как 'Приговор' или 'Сельский врач', строятся именно таким образом. Только у
Кафки фоновым явля-ется, так сказать, 'буржуазный дискурс'. Поскольку
бредовость приведенного фрагмента в плане означаемо-го сомнений не вызывает, то
обратимся сразу к означа-ющему. Здесь интересно ярко выраженное матричное
построение, которое является знаком измененного со-стояния сознания [Спивак 1989].
В данном фрагменте первое предложение почти полностью повторяет струк-туру
восьмого, третье - девятого, четвертое - десято-го и т. д. Это повторяется на
протяжении нескольких де-сятков страниц.
Новейший
исследователь творчества Сорокина упо-добил подобные пассажи из 'Романа'
примерам клини-ческих описаний из 'Половой психопатии' Р. Крафт-Эбинга [Недель 1998].
Это было бы правильно, если бы текст Сорокина был классическим психотическим
дис-курсом. Но это не совсем так. Вспомним, что формула классического
психотического дискурса такая: симво-лическое подменяет реальное. Но о каком
реальном мо-жет идти речь в искусстве конца XX века! Не станем за-бывать, что
Сорокин все-таки представитель постмо-дернизма, пусть даже в таких его крайних
проявлениях. Суть текстов Сорокина, как и любого постмодернизма, в том, что
первичным материалом, так сказать, для ху-дожественной обработки является не
реальное, а вооб-ражаемое, не непосредственно взятая реальность, а
предшествующая литературная традиция - у Сорокина советский дискурс или русский
дискурс. И психоз воз-294
никает не на фоне реального, а на
фоне этого первично-го воображаемого, психоз подавляет не реальное (мы такого уже
давно не знаем), а воображаемое. Будем на-зывать подобного рода построения постпсихотическим дискурсом.
Но прежде чем перейти к
рассмотрению постпсихо-тического дискурса, приведем два примера классичес-кого
психотического дискурса из других областей худо-жественной культуры XX века -
музыки и кино (что касается живописи, то здесь психотический дискурс на-столько
очевиден и 'нагляден' - в сюрреалистической живописи Магритта, Дали и пр., а
отчасти и в экспрес-сионизме, например Мунк, - что останавливаться на этом не
имеет смысла).
Первый пример - это додекафония
нововенских композиторов. Их музыкальный язык мыслился публи-кой как совершенно
искусственный и непонятный. И хотя на самом деле это было не так - суть
додекафонии состоит, во-первых, в отказе от тональности, а во-вто-рых, в том,
что вместо тональности, так сказать, гаммы, берется 12-тоновая
последовательность не повторяю-щихся звуков (серия), которая затем
навязчиво-паранояльно повторяется, варьируясь только по жестким за-конам
контрапункта, - слушателям это было все равно, они воспринимали нововенскую
музыку как нечто в высшей степени хаотичное. Основателям серийной музыки
Шёнбергу и Веберну пришлось читать специ-альные лекции, в которых они
разъясняли суть 'компо-зиции на основе 12 соотнесенных тонов' и заодно под-черкивали
традиционализм этой музыки, ее преемст-венность по отношению к добаховской
полифонии [Веберн
19 75]. Несмотря на то что все это так и было, что Шёнберг,
'этот Колумб музыки нашего времени по пути в Америку открыл старую добрую Индию'
[Герш-
295
кович
1991], тем не менее - напряженность, а также,
пусть кажущаяся, но хаотичность, тревожность, наду-манная 'бредовость' фактуры
этой музыки позволяет отнести ее к классическому психотическому дискурсу.
Второй пример - это ранние фильмы
Бунюэля. Здесь все достаточно просто, поскольку эти фильмы сде-ланы не только
под влиянием эстетики сюрреализма, но и при непосредственном участии Дали
(последний ут-верждал, что только благодаря ему они и имели успех). Ясно, что и
'Андалузский пес', и 'Золотой век' - это самый настоящий психотический дискурс.
Гораздо ин-тереснее другое - эволюция творчества Бунюэля, ког-да он из
психотика превратился в постпсихотика. Так, если в ранних фильмах бред занимает
все пространство кадра на протяжении всего 'действия', то в поздних фильмах
происходит примерно то же, что у Сорокина. Все поначалу идет вполне нормально и
благопристойно, и лишь в нескольких кадрах разверзается психотичес-кая бездна.
Так построены, например, 'Дневная краса-вица' и 'Скромное очарование буржуазии'.
Переходя к постпсихотическому
дискурсу, прежде всего надо отметить, что послевоенное искусство созда-ло по
меньшей мере две постпсихотических школы - театр абсурда и новый роман.
Постпсихотический мир Ионеско был
подвергнут убедительному исследованию в работе [Ревзина-Ревзин 1971] с
позиций прагматики - разрушения фундамен-тальных речевых постулатов в его
пьесах. Так, в мире Ионеско нарушается постулат причинности события, от этого
все события кажутся равновероятными, поэтому буквально каждое событие вызывает
у героев удивле-ние, например то, что некий господин на улице завязы-вал шнурок
у ботинка. Разрушается также постулат тождества. Это знаменитый пример, когда в
'Лысой пе-
296
вице' оказывается, что всех
членов семейства, которое обсуждают герои, причем как женщин, так и мужчин,
зовут одинаково - Бобби Уотсон:
'Миссис Смит. Ты знаешь, ведь
у них двое детей - мальчик и девочка. Как их зовут?
Мистер Смит. Бобби и Бобби,
как их родителей. Дядя Бобби Уотсона старый Бобби Уотсон богат и лю-бит
мальчика. Он вполне может заняться образованием Бобби.
Миссис Смит. Это было бы
естественно. И тетка Бобби Уотсона старая Бобби Уотсон могла бы в свою очередь
заняться воспитанием Бобби Уотсона, дочери Бобби Уотсона. Тогда мать Бобби
Уотсона может вновь выйти замуж. Есть у нее кто-нибудь на примете?
Мистер Смит. Как же. Кузен
Бобби Уотсон.
Миссис Смит. Кто? Бобби
Уотсон?
Мистер Смит. О каком Бобби
Уотсоне ты гово-ришь?
Миссис Смит. О Бобби Уотсоне,
сыне старого Бобби Уотсона, другом дяде покойного Бобби Уотсона'.
На примере
французского театра абсурда хорошо видно основное отличие постпсихотического
дискурса от классического психотического дискурса. Вектор, идущий от
символического в случае классического пси-хотического дискурса, минует
воображаемое и доходит до реального; вектор, идущий от символического в
постпсихотическом дискурсе, доходит только до вооб-ражаемого. Поэтому
классический психотический дис-курс всегда трагичен, даже если это
вываливающиеся старухи; постпсихотический дискурс всегда немного наигран, это,
так сказать, не 'реальный', но лишь вооб-ражаемый 'психоз' - и тем самым не
подлинный пси-
297
хоз, так как в подлинном психозе
нет места воображае-мому [Лакан 1998].
Совсем иную
картину мы видим во французском но-вом романе. Это направление, лежащее на
стыке аван-гарда и поставангарда. Поэтому авангардное начало в нем заострено.
Главная черта здесь состоит в том, что сознание традиционного повествователя и
героя раздва-ивается, растраивается и т. д. и наконец почти полно-стью
редуцируется. Происходит своеобразная нарра-тивная dementia. На уровне
стилистического означаю-щего налицо полнейший бред, но поиски субъекта этого
бреда не приводят ни к чему. 'В результате мы так и не знаем, сколько
рассказчиков в "Проекте революции в Нью-Йорке", сколько мальчиков,
тумб с готическими за-витушками и трактиров в романе "В лабиринте",
сколь-ко временных пластов в "Мариенбаде". Более того, чем больше
солдат из "Лабиринта" передвигается по городу под непрерывно падающим
снегом и ищет хозяина пе-реданного ему свертка, тем менее мы уверены, что это
тот же самый солдат, тот же самый город, тот же самый сверток' [Рыклин 1996:
9].
В качестве еще
одного пограничного в этом плане художественного феномена можно привести роман
Виана 'Сердцедёр'. Здесь имеет место характерное для классического
психотического дискурса нарушение обычных психологических мотивировок и
отсутствие удивления по поводу удивительного и чудесного. Герой наблюдает, как
крестьяне казнят животных, следит за распродажей стариков. Кюре на мессе
выступает вроде языческого жреца - насылателя дождя, герой, 'абсор-бируя
ментальность черного кота', сам приобретает по-вадки кота - начинает ловить
мышей, чесать за ухом, у него обостряются слух и обоняние. Мать, чтобы с деть-ми
ничего не случилось, запирает их в клетки. Чудес-
298
ное, алетика, становится
психологической нормой. Од-нако и здесь явственно проступают постпсихотические
черты. Хотя повествование в целом экзистенциально-трагично, но в позиции автора
проглядывает некая ци-ническая ирония, которая опять-таки заставляет вектор,
идущий от символического к реальному, останавливать-ся на воображаемом.
То же самое
можно сказать и о главном постпсихотике всех времен и народов Владимире
Сорокине. Каких бы ужасов и гадостей он ни наворотил - от всенарод-ного поедания
дерьма в 'Норме' до салата иэ челове-ческих ушей в 'Месяце в Дахау', все равно,
как сказал Л. Н. Толстой по другому поводу, 'он пугает, а нам не страшно'. Не
страшно потому, что вектор останавливает-ся на воображаемом - все только текст,
все понарошку.
Это
балансирование на грани между ужасом и капу-стником характерно для современной
культуры в целом, где психотический вектор также, как правило, доходит только
до воображаемого.
Ср. пример из
'Нормы' Сорокина:
'Все
замолчали. Бурцов открыл журнал:
- Длронго наоенр крире качественно опное. И гногрпно номера онаренр прн
от оанренр каждого на своем месте. В орнрпнре лшон щоароенр долг, говоря
раоренр ранр. Вот оптернр рмиапин наре. Мне кажется оенрнранп оанрен делать...
Он опустился на стул.
Александр Павлович поднял голову:
- Онранпкнр
вопросы опренпанр Бурцов?'
Кто это говорит -
Нельсон Мандела или Борис Гре-бенщиков? Александр Исаевич или Евгений Максимо-вич?
Мы рмиапин наре этого.
299
Мы не будем удивлены, если,
расширив предметную область изучаемого явления, сделаем утверждение, в
соответствии с которым невротический и психотичес-кий дискурс распространяется
не только на сферу изящных искусств, но и на сферу гуманитарной науки и
философии. Действительно, вряд ли кто-либо станет спорить с тем, что такое, например,
произведение, как 'Роза мира' Даниила Андреева с ее уицраорами и жруграми - это
безусловно психотический дискурс во всех смыслах этого слова.
Но есть вещи менее очевидные и
поэтому более ин-тересные.
Так, например, в истории
советской довоенной линг-вистики невротическое сравнительно-историческое
языкознание, прятавшееся от реального (совдеповского) языка в поисках
воображаемого реконструируемого индоевропейского праязыка, было
противопоставлено психотическому языкознанию Н. Я. Марра, отрицавше-му индоевропейский
праязык и выводившему все слова всех языков из четырех элементов - знаменитые
SAL, BER, JON, ROS (установка на непонятный символичес-кий язык и на бред в
самом прямом смысле слова). Пси-хотические установки были у таких
учеников-литерату-роведов Марра, как О. М. Фрейденберг, книги которой написаны
так, как будто Ольга Михайловна сама побы-вала в Древней Греции и своими
глазами и ушами виде-ла и слышала все то, о чем она пишет. Примерно то же самое
можно сказать и о произведениях Бахтина, фанта-стичность которых вызывает
недоумение лишь у тех, кто относится к ним как к нормальным (а для XX
века нормальным был невротический дискурс). Но только психотическое сознание
может строить концепцию ис-тории литературы, совершенно искренне не замечая фактов
(причем этих фактов большинство), которые в
300
эту концепцию не укладываются.
Пенять Бахтину на это - все равно что пенять Кафке на то, что у него ге-рои
превращаются в насекомых.
Мы можем сопоставить
психотический дискурс раннего Витгенштейна, более известный в народе как
'Логико-философский трактат' (Вопрос Н. Малкольма: 'Что такое 'простой предмет'
(die Gegenstand) - один из основных терминов 'Трактата', - ведь таких в природе
не существует?' Ответ Витгенштейна: 'Я был тогда логиком, и как логику мне было
все равно, кроется ли какая-либо онтология за терминами, кото-рые я ввожу'), и
невротический дискурс позднего Вит-генштейна (эволюция, родственная той, что
проделал Бунюэль). Особенно характерна постоянная апелля-ция к воображаемому в
'Коричневой книге', где Вит-генштейн без конца повторяет: 'Представим себе
то-то и то-то'. Тут поневоле вспоминается классический постневротический роман
М. Фриша 'Назову себя Гантенбайн', герой которого все время говорит: 'Я
представляю себе', а потом представляет себя то од-ним персонажем, то другим и
живет поочередно жиз-нью то одного, то другого.
Наконец мы можем также
сопоставить невротичес-кий психоанализ Фрейда и психотический психоанализ
Лакана. Поиски утраченного желания - постоянный лейтмотив произведений Фрейда.
Фрейд - это, так ска-зать, психоаналитический Пруст. Лакан же - психоана-литический
Кафка, К нему, так же как и к Кафке, бес-смысленно предъявлять претензии в том,
что 'ничего не понятно'. Можно лишь попытаться научиться гово-рить на его
языке, то есть самому сделаться психотиком (распространенный прием в
психотерапии - принять на время бред психотика и следовать ему, а затем попы-таться
подорвать его изнутри).
301
Кажущаяся
неожиданной близость Лакана и Кафки прояснится, если мы посмотрим, как понимал
Лакан сущность психоза не с точки зрения означающего - это мы уже сделали в
начале статьи и старались следовать этому пониманию, - ас точки зрения
означаемого, то есть, попросту говоря (хотя меньше всего к Лакану под-ходит
именно это выражение), отчего, по мнению Лака-на, человек впадает в психоз. В
статье 'О вопросе, предваряющем любой возможный подход к лечению психоза' Лакан
пишет:
'Для
возникновения психоза необходимо, чтобы ис-ключенное (verworfen), т. е. никогда
не приходившее в место Другого, Имя Отца было призвано в это место для
символического противостояния субъекту.
Именно
отсутствие в этом месте Имени Отца, обра-зуя в означаемом пустоту, и вызывает
цепную реакцию перестройки означающего, вызывающую в свою оче-редь
лавинообразную катастрофу в сфере воображаемо-го - катастрофу, которая
продолжается до тех пор, по-ка не будет достигнут уровень, где означаемое и
означа-ющее уравновесят друг друга в найденной бредом метафоре.
Но каким
образом может субъект призвать Имя Отца в то единственное место, откуда Оно
могло явиться ему и где его никогда не было? Только с помощью реально-го отца,
но не обязательно отца этого субъекта, а скорее Не(коего) отца' [Лакан 1997:
126-127].
Итак, -
'Не(коего) отца'. 'Я велел слуге привести из конюшни мою лошадь, но он не понял
меня'. (Слу-га, очевидно, - это и есть Не(кий) отец.)
Давайте попробуем понять, что
означает 'Имя отца'. В так называемом 'Римском докладе' Лакан говорит
следующее:
302
'Именно в имени отца следует видеть носителя сим-волической
функции, которая уже на заре человеческой истории идентифицирует его лицо с
образом закона'[Лакан 1995: 48].
'Имя Отца',
по-видимому, это нечто вроде Тотема, первого и главного слова языка, то есть
Бога ('Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог'). Почему же
не просто Отец с большой буквы, а Имя От-ца? Потому что имя это и есть слово,
символическое, суть Бога, Бога-Отца, того, к кому обращены слова 'Да святится Имя Твое'.
Если сделать достаточно
безнадежную попытку пе-ревести весь этот великолепный бред на более или ме-нее
рационалистический язык и попытаться объяснить, каким образом Имя Отца связано
с возникновением психоза, то, вероятно, можно сказать так. Поскольку имя отца -
это символическая первооснова бытия, а при психозе страдает именно
символическое, то для воз-никновения психоза необходимо, чтобы у человека
что-то не ладилось с отцом, с Отцом, ну, например, он был атеистом и никогда не
думал о Боге, то есть, как говорит Лакан, 'Имя Отца было исключено из места
Другого'. И вот, реагируя на какую-то травму, субъект вдруг призы-вает Имя
Отца, например начинает веровать в Бога, но поскольку он, мягко говоря,
нездоров, или, в терминах Лакана, в его сознании происходит 'цепная реакция в
сфере означающих', то есть все жизненные смыслы, ус-тановки и ценности путаются,
то Имя Отца является в форме бреда, как символическая основа этого бреда. Ну,
например, когда пушкинского Евгения преследует Мед-ный всадник, то это как раз
Имя Отца, но только в вари-анте бреда преследования. А возможно присвоение Име-ни
Отца - тогда это будет мегаломания, как у Поприщи-
303
на, который апроприировал себе
титул испанского коро-ля. А может быть и гораздо более обыденный вариант,
например психоз девушки, не знавшей по той или иной причине в детстве отцовской
ласки, который вырастает на почве неразделенной любви к двоюродному дяде. Ла-кан
сам пишет в связи с этим следующее:
'Для женщины, которая только что родила, это будет супруг, для кающейся
в грехе - духовник, для влюб-ленной девушки - "отец молодого
человека", но так или иначе эта фигура возникает всегда, и найти ее лег-че
всего, воспользовавшись путеводной нитью романи-ческих "ситуаций"' [Лакан 1997:
727].
Что ж, давайте
воспользуемся путеводной нитью ро-манических 'ситуаций'. Прежде всего то, о чем
пишет Лакан, конечно, если мы хоть в какой-то степени адек-ватно его понимаем,
поразительным образом похоже на ситуацию главного литературного психотика XX
века Франца Кафки.
Как мы знаем, у
Кафки были ужасные отношения с отцом, отец его всячески третировал и обижал.
Это отра-зил Кафка в таких произведениях, как 'Приговор', 'Превращение',
'Процесс' и 'Замок', то есть в самых главных своих произведениях. (В 'Процессе'
Имя Отца - это безликий Закон, действующий через своих по-средников, например,
священника (ср. с фигурой духов-ника, которая упоминается у Лакана); в 'Замке'
Отец-Закон воплощается в самой идее приобщения к 'таинст-ву Замка', а
отвергнутый у себя на родине землемер К. психотически старается заполнить
пустующую инстан-цию Другого этим желанным ему бюрократическим ме-ханизмом.)
Напомним, что в 'Приговоре' кульминация заключается в том, что немощный отец
кричит сыну: 'Я
304
приговариваю тебя к казни водой'
и сын тут же бежит топиться. Здесь имеет место то, что мы назвали немоти-вированной
гиперуспешностью речевого акта и что слу-жит яркой особенностью психотического
языка Кафки. Но самое поразительное - это знаменитое письмо Каф-ки к отцу, где
уже он сам, Франц Кафка, проделывает сложнейшую психологическую работу, он
взывает к ре-альному, ненавидящему и отчасти столь же ненавистно-му отцу именно
как к лакановской субстанции Имени Отца, то есть как к Высшему Закону, как к
Божеству (он называет его на Ты с большой буквы), и в прениях с ним, подобно
библейскому Иову (уникальный древний обра-зец психотического дискурса, где
человек взыскует Име-ни Отца-Бога) вызывает его в пустующее символическое место
Другого, на которое никто другой попасть не мо-жет. Безграничная власть Имени
Отца играла столь ог-ромную роль в жизни Кафки, что даже когда реально отец не
мог отравлять жизнь биографическому Кафке, на уровне символического Его Имя
продолжало играть свою психозопорождающую роль. Вот как пишет об этом Кафка в
'Письме отцу':
'Хочу
попробовать объяснить подробнее: когда я предпринимаю попытку жениться, две
противополож-ности в моем отношении к Тебе проявляются столь сильно, как
никогда прежде. Женитьба, несомненно, за-лог решительного самоосвобождения и
независимости. У меня появилась бы семья, то есть, по моему представ-лению,
самое большее, чего только можно достигнуть, значит, и самое большее из того,
чего достиг Ты, я стал бы Тебе равен, весь мой прежний и вечно новый позор, вся
твоя тирания просто ушли бы в прошлое. Это было бы сказочно, но потому-то и
сомнительно. Слишком уж это много - так много достигнуть нельзя. Вообразим,
305
что человек попал в тюрьму и
решил бежать, что само по себе, вероятно, осуществимо, но он намеревается од-новременно
перестроить тюрьму в увеселительный за-мок. Однако, сбежав, он не сможет
перестраивать, а пе-рестраивая, не сможет бежать. Если при существующих между
нами злосчастных отношениях я хочу стать са-мостоятельным, то должен сделать
что-то, по возмож-ности не имеющее никакой связи с Тобой; женитьба, хо-тя и
есть самое важное в этом смысле и дает почтенней-шую самостоятельность, вместе
с тем неразрывно связана с тобой. Поэтому желание найти здесь выход смахивает
на безумие, и всякая попытка почти безуми-ем же и наказывается'.
В
конце абзаца Кафка говорит все почти открытым текстом, почти по Лакану.
Неудовлетворенное желание, то есть область невротического (Кафка после двух по-пыток
так и не женился), чтобы не стать безумием, вы-ходит через область
психотического, через символичес-кое обращение к Имени Отца (письмо отцу, как
извест-но, не было отправлено адресату).
В
заключение разговора о связке Лакан - Кафка за-метим, что у самого Лакана были
проблемы с отцом, ко-торый, по свидетельству биографа, почти не занимался
воспитанием сына, а все тяготы по его выращиванию взял на себя дед Лакана Эмиль
[Roudinesco
1992]. Мы уже не говорим ни о деспотичном отце Витгенштейна,
доведшем двух его братьев до самоубийства, ни об отце лакановского приятеля
Сальвадора Дали (автора наибо-лее хрестоматийных психотических дискурсов в живо-писи
XX века), который разобрался со своим отцом в своем 'Дневнике одного гения'.
Поскольку
нельзя объять необъятное, мы минуем такие знаменитые психотические дискурсы,
связанные
306
с манипуляциями с Именем Отца,
как 'Братья Карама-зовы', 'Петербург', 'Потец' Введенского, всю эдипальную
проблематику в культуре XX века, но обратим внимание лишь на один из наиболее
удивительных во всех отношениях дискурсов - рассказ Сорокина 'Обе-лиск'. Этот
рассказ посвящен тому, что старушка мать и несколько странноватая дочь на
братской могиле, где похоронен погибший на войне отец, устраивают жут-кий ритуал
взывания к мертвому отцу, смыслом, кото-рого, как постепенно выясняется,
является своеобраз-ный рапорт о неукоснительном исполнении завета, ко-торый дал
отец, уходя на фронт. Завет же этот заключался в том, чтобы мать должна была
делать 'отжатие говн своих', а дочь - этот 'сок' пить; кроме то-го (это
выясняется чуть позднее), перед уходом на фронт отец зашил дочери гениталии.
Этот ритуал, ис-полняемый на символическом психотическом языке, с употреблением
виртуозных обсценных выражений, по-вторяется каждый год, после чего мать с
дочерью спо-койно садятся в автобус, уезжают к себе в деревню и живут там своей
жизнью.
Пример этот, кажется, не
нуждается в комментарии, но мы еще не закончили с Именем Отца. Вспомним, что
русский футуризм проходил под лозунгом свержения Отца русской поэзии - формула
'Сбросим Пушкина с корабля современности'. Это было осквернением свя-тыни с
тем, чтобы потом 'ретроактивно' (как бы выра-зился автор книги [3имовец 1996])
воззвать к ней. Мая-ковский в поздние годы утверждал, что все время про се-бя
твердит пушкинские строки: 'Я утром должен быть уверен, Что с вами днем увижусь
я'.
Наконец (не
пора ли покончить с Именем Отца?) вся 'классическая' советская действительность
30-80-х го-дов проходит в режиме отторжения от реального отца и
307
психотического поклонения Имени
Отца, роль которого играют Ленин и Сталин (по-видимому, в этом состоит
психотическая специфика любого развитого тоталита-ризма):
'Культ
Отца Сталина и Сына Ленина в их 'единосущности' ('Сталин - это Ленин сегодня')
не мог ри-кошетом не порождать враждебности рядового совет-ского гражданина к
собственному отцу, потенциально-му врагу народа. Родной отец воспринимался не
как отец, а скорее как отчим. [...] Для чего нужен отец, если есть Сталин? -
думал советский ребенок. Действи-тельность не давала ему никакого ответа, кроме
того, что он был прав и что этот квазиотец действительно низачем не нужен. Что
от него один вред. Ведь есть насто-ящий Отец - Сталин, и этого вполне
достаточно для того, чтобы быть счастливым. А если так, то в лагерь ложного
отца! Вот одно из объяснений того, почему так легко было расправиться с отцами
в 1930-е годы' [Бубенцова 1998].
Советские люди и их вождь постоянно жили в нож-ницах двух
противоположных маний - преследова-ния и величия. С одной стороны, кругом
шпионы, вра-ги народа, врачи-убийцы, с другой - советский народ самый
счастливый в мире, советская страна самая большая и богатая, а Сталин - самый
мудрый и доб-рый. Это психотическая реальность. На чередование мании
преследования и мегаломании как закономер-ное проявление психоза указывает,
например, автор одного из самых известных учебников по психиатрии [Блейлер 1993].
Мы заканчиваем
свое исследование. В заключение обобщим все сказанное, построив такую матрицу:
308
1. Воображаемое подменяет реальное
(невротичес-кий дискурс).
2. Символическое подменяет
реальное (психотичес-кий дискурс).
3.
Воображаемое подменяет символическое (постне-вротический
дискурс).
4. Символическое подменяет
воображаемое (пост-психотический дискурс).
5. Реальное подменяет воображаемое.
6. Реальное подменяет
символическое.
Как можно
заметить, в этой матрице, как в таблице Менделеева, есть пустые клетки. Давайте
попробуем их заполнить. Положение дел, когда реальное подменяет собой
воображаемое, обычно называется термином ре-ализм.
Конечно, это
мнимое 'реальное', это 'реальное' нормы литературной традиции, к чему и
сводится 'ре-ализм' в литературе, к следованию средней литератур-ной
'реальности' (подробно о реализме см. раздел 'Призрак реализма' настоящей
книги). Так или иначе, заполнение этой клетки позволит нам хоть куда-то раз-местить
таких писателей, как Джон Голсуорси, Анри Барбюс, Теодор Драйзер, Юрий
Трифонов, Джон Стейнбек и далее по вкусу.
Труднее
заполнить последнюю клетку - то положе-ние вещей, при котором реальное подавляет
собой сим-волическое. Это должен быть тоже реализм, но реализм не на фоне
традиционной литературной нормы, а на фо-не непосредственно предшествующей
литературы, сформировавшей свой символический дискурс. И этот реализм должен
подавлять, опротестовывать этот сим-волический дискурс. Назовем такое положение
вещей термином постреализм. Наиболее
характерным приме-
309
ром постреализма будет, например,
неореализм в италь-янском послевоенном кинематографе как реакция на
модернистский кинематограф 20-30-х годов. Другим примером постреализма будет
гиперреализм в живопи-си как реакция на ставший уже классическим живопис-ный
модернизм и авангард.
Таким образом
символическое, воображаемое и ре-альное (конечно, условное реальное
литературной тра-диции) формируют в культуре XX века свои собствен-ные типы
дискурса.
Посвящается Алексею Плуцеру-Сарно
Окончательная
победа ирреального символического над реальностью при психозе приводит к
созданию то-го, что можно назвать психотическим миром. Психоти-ческий мир может
находиться с реальным миром в от-ношении дополнительной дистрибуции, как это
проис-ходит при парафрении - таком виде психоза, при котором человек живет то в
реальном мире, то в психо-тическом, либо в сознании психотика перемежаются
разные, часто противоположные психотические миры, как при
маниакально-депрессивном психозе (цикло-френии), когда в маниакальном состоянии
больного ох-ватывают величественные мегаломанические идеи, он хочет
реформировать мир, влиять на правительство, претендует на звание императора и
т. д.; а для депрес-сивного состояния, наоборот, характерен бред вины и
раскаяния, который принимает такие же грандиозные формы. Либо, как при
параноидной шизофрении, про-исходит полное погружение психотика в бредовый мир,
растворение его в нем, тотальная деперсонализация и дереализация.
Так или иначе, правильнее
говорить о разных психо-тических
мирах. Некий обобщенный психотический мир - такая же слишком широкая
абстракция, как, на-пример, понятие 'художественный мир': художествен-
311
ный мир Венечки Ерофеева строится
на фундаменталь-но иных основаниях, чем художественный мир Набоко-ва, а
художественный мир Кафки совершенно не похож на художественный мир Введенского,
хотя оба они - писатели-психотики. Общим для всех
художественных миров является лишь то, что все они используют вер-бальный язык
(если говорить о литературе).
Нам придется
пересмотреть примеры, разобранные нами в разделе 'Психотический дискурс', с тем
чтобы понять, с каким именно психотическим художествен-ным миром мы имеем дело
в каждом данном случае. Вспомним эти примеры:
'Глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, госу-дарственный человек
из черного куба кареты вдруг рас-ширился во все
стороны и над ней воспарил; и ему захо-телось, чтоб вперед пролетела
карета, чтоб проспекты летели навстречу - за проспектом проспект, чтобы вся
сферическая поверхность планеты оказалась охвачен-ной, как змеиными кольцами,
черно-серыми дымовыми кубами; чтобы вся проспектами притиснутая земля в
линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом;
чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы
ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя,
чтобы...' (курсив мой. - В. Р.).
Выделенные курсивом ключевые слова, кажется, дают основания для того,
чтобы определить состояние Аполлона Аполлоновича как состояние шизофрениче-ского
бреда. Во всяком случае, именно при шизофре-нии тело может увеличиваться и
уменьшаться [Кемпинский 1998: 124]. Но говоря так, мы
сталкиваемся с одной, но чрезвычайно фундаментальной трудностью,
312
которую можно выразить в вопросе:
о ком и о чем мы, собственно, говорим?
Если мы
рассматриваем бред сенатора Аблеухова, то с клинической точки зрения его нельзя
рассматривать как шизофренический бред, поскольку при шизофрении весь интеллект
меняется (помрачается, как говорят психиат-ры), переходит в область иного, сенатор же на протяже-нии всего действия
романа проявляет себя как чудакова-тый, но вполне вменяемый человек; с другой
стороны, как мы вообще можем ставить диагноз несуществующе-му персонажу? Либо,
говоря о сенаторе Аблеухове, надо подразумевать каждый раз его создателя Андрея
Белого (но времена таких прямолинейных проекций давно ми-нули), либо в духе
нашей философии текста вообще за-быть о том, что существуют какие-то реальные
люди или вымышленные персонажи, и говорить только о налично-сти языка. Видимо,
наиболее последовательным будет именно это. Мы не можем ставить диагноз тексту
- та-кая процедура была бы бессмысленной. Если мы гово-рим: 'Это
шизофренический мир' или 'Это гипоманиакальный мир', то прежде всего нам важна
не точность нозологических дефиниций, а то, как проявляется специ-фичность
психотического мира в письме, как написан шизофренический
дискурс и чем его письмо отличается от письма циклофренического дискурса или
паранояльного дискурса. И вот мы говорим, что если Аблеухов чув-ствует, что он
расширился во все стороны, то это элемент шизодискурса.
Здесь важно
заметить еще следующее. В психотичес-ком мире нет характера
в том смысле, в котором он при-сутствует в 'реалистическом' дискурсе (этой, на
мой взгляд, чрезвычайно глубокой мыслью мы обязаны про-фессору М. Е. Бурно). То
есть если применительно к 'нормальной' литературе мы можем сказать, что шекс-
313
пировский Гамлет - психастеник,
д'Артаньян - санг-виник, Печорин - шизоид и т. д. (подробно см, [Бурно 1990]), то применительно к авангардной
литературе мы этого сказать не можем точно, а применительно к невро-тическому
дискурсу литературы модернизма - с боль-шим трудом. То есть если с некоторой
натяжкой мож-но сказать, что Стивен Дедалус - шизоид, Леопольд Блум -
сангвиник, а прустовский Марсель - психасте-ник или психастеноподобный шизоид,
то сказать, какой характер изображен посредством таких персонажей, как землемер
К., Грегор Замза, герои Платонова, Хармса, Роб-Грийе и т. д., мы не можем.
Характер - это то, что связывает человека с реальностью, опосредует систему его
отношений с ней. Психотик же теряет или уже полно-стью потерял эти отношения с
реальностью - соответ-ственно он теряет и характер. Вернее, психотическое
письмо уже не может изображать характер. Поэтому вы-сказывания типа 'Этот герой
- шизофреник' уже озна-чают, что перед нами точно
не шизофреническое пись-мо, что данный текст смотрит на шизофреника со сторо-ны,
как правило невротика. Например, когда Булгаков в 'Мастере и Маргарите'
изображает приступ шизофре-нии у Бездомного, то, как известно, он это делает
весьма профессионально и клинически точно. Ср., например, эпизод с дракой в
'Грибоедове' с классическим описани-ем поведения шизофреника в книге Блейлера:
'Бредовые идеи, которые могли возникнуть только по отношению к
определенному лицу, переносятся на другое, с которым они уже не имеют никакой
внутрен-ней связи. Больного разозлили, он сначала
отпускает пощечину виновному, а затем и другим, кто как раз находится
поблизости' [Блейлер 1998: 308] (курсив мой. - В. Р.).
314
В романе Булгакова это
соответствует следующему эпизоду:
'Тут послышалось
слово "Доктора!" - и чье-то лас-ковое мясистое лицо, бритое и
упитанное, в роговых оч-ках, появилось перед Иваном.
- Товарищ Бездомный, - заговорило
это лицо юби-лейным голосом, - успокойтесь! Мы все расстроены смертью всеми
нами любимого Михаила Александро-вича... нет, просто Миши Берлиоза. Мы все это
прекрас-но понимаем. Вам нужен покой. Сейчас товарищи про-водят вас в постель,
и вы забудетесь...
- Ты, - оскалившись, перебил
Иван, - понимаешь ли, что надо поймать профессора? А ты лезешь ко мне со своими
глупостями! Кретин!
- Товарищ Бездомный, помилуйте, -
ответило ли-цо, краснея, пятясь и уже раскаиваясь, что ввязалось в это дело.
- Нет, уж
кого-кого, а тебя-то я не помилую, - с ти-хой ненавистью сказал Иван Иванович.
Судорога
исказила его лицо, он быстро переложил свечу из правой руки в левую, широко
размахнулся и ударил участливое лицо по уху'.
При этом очевидно, что никакого отношения к шизо-дискурсу 'Мастер и
Маргарита' с точки зрения письма не имеет. А 'Петербург' Белого все же имеет. И
не по-тому, что там изображены бредовые идеи и галлюцина-ции, а потому, что им
соответствуют особенности пись-ма. Какие же это особенности?
Прежде всего это сама идея писать прозу стихами, что одно уже создает
впечатление нереальности, инаковости происходящего. (Известно, что шизофреники
лю-бят вычурно декламировать.) Здесь, по-видимому, важ-
315
на и сама идея психотичности
самого города Петербур-га, города, психотического ex definitia, который в соот-ветствии
с 'петербургским мифом' возник неизвестно откуда и так же когда-нибудь пропадет
неизвестно куда, подобно бреду психотика.
Итак, в нашу
задачу не входит примеривать дефини-ции большой психиатрии к художественным
текстам, мы лишь хотим посмотреть, что подобные, психотически акцентуированные
тексты представляют собой с точ-ки зрения означающих, с точки зрения письма.
Наш второй
пример был из Кафки:
'Я велел своему
слуге привести из конюшни мою лошадь, но он не понял меня. Тогда я сам пошел,
запряг коня и поехал. Впереди тревожно звучали трубы.
У ворот он
спросил меня: - Куда вы едете?
- Не знаю сам, - ответил я, - но
только прочь от-сюда! но только прочь отсюда! только бы прочь отсюда! Лишь так
достигну я своей цели.
- Вы знаете свою цель? - спросил
он.
-Да! - ответил я. - Прочь отсюда!
Вот моя цель'.
Здесь прежде
всего ясно видна психологическая рас-плывчатость портрета персонажа. Но главное
- это особенности художественной прагматики: инверсия от-ношений слуги и
господина, причины и цели, неадек-ватность речевого акта (подробнее см. [Руднев
7997]). Здесь, по-видимому, тоже имеет место шизодискурс, так как психологическая
инверсия по принципу, кото-рый сформулировал Фрейд: 'он меня ненавидит = я его
ненавижу', -характерная черта шизофренического со-знания, так же как
непонимание ситуации само по себе и в сочетании с отсутствием удивления по
поводу этого непонимания.
316
Следующий
фрагмент - из Фолкнера:
'Но
если дядя Гэвин и прятался где-то в овражке, Гауну ни разу не удалось его
поймать. Более того: и дядя Гэвин ни разу не поймал там Гауна. Потому что если
бы моя мама когда-нибудь узнала, что Гаун прячется в ов-ражке за домом мистера
Сноупса, думая, что там пря-чется и дядя Гэвин, то, как мне потом говорил Гаун,
не-известно, что бы она сделала с дядей Гэвином, но то, что она сделала бы с
ним, Гауном, он понимал отлично. Хуже того: вдруг мистер Сноупс узнал бы, что
Гаун по-дозревал дядю Гэвина в том, что он прячется в овражке и следит за его
домом. Или еще хуже: вдруг весь город узнал бы, что Гаун прячется в овражке,
подозревая, что там прячется дядя Гэвин'.
В
разделе 'Психотический дискурс' мы назвали этот фрагмент и все творчество
Фолкнера в целом 'психозо-подобным'. Этот термин, конечно, не имеет никакого
клинического наполнения. Мы просто имели в виду, что то, что происходит с
персонажами Фолкнера, находится где-то на границе между неврозом и психозом.
Если го-ворить о неврозе, то это, конечно, невроз навязчивости. Если
приближаться к большой психиатрии, то это может носить название паранояльного
бреда, который отлича-ется от шизофренического бреда своей систематичнос-тью,
интерпретативностью и отсутствием общей пониженности интеллекта у параноика.
Параноик сосредото-чен на одном, но в его бреде есть остатки каких-то жизненных
переживаний, поэтому он не настоящий психотик; цель его рассуждений -
систематически обосно-вать и истолковать некую навязчивую идею. Повторим, что
нам совершенно неважно, был ли параноиком Фолк-нер, а также его герои: Гэвин
Стивене, Чарльз Малли-
317
сон, с одной стороны, и Флем
Сноупс - с другой (пожа-луй, больше всех похож на клинически описанного пси-хиатрами
параноика такой герой, как Минк Сноупс из 'Особняка'). Мы фиксируем только
письмо. И вот такое письмо, как у Фолкнера, можно назвать паранояльным, так как
оно отвечает только что перечисленным призна-кам - систематичности,
интерпретативности, связи с реальностью и незатронутости интеллекта.
Если вспомнить наиболее
акцентуированный в этом плане роман Фолкнера 'Звук и ярость', то там во второй
части сознание Квентина Компсона показано как созна-ние параноика, который, с
одной стороны, сохраняет не-замутненный интеллект, а с другой стороны, пребывает
одновременно в двух мирах - обыденном и мире свое-го бреда, посвященного его
воображаемым эротическим отношениям с сестрой Кедди. Сознание Квентина через
настоящее все время проходит в прошлое к отношениям с Кедди и Долтоном Эймсом и
увенчивается квазивоспо-минанием об инцесте с сестрой.
'Да У нас было Как ты могла забыть
Подожди сейчас я напомню тебе Это было преступление мы со-вершили страшное его
не скрыть Ты думала скроешь но подожди Бедный Квентин ты же ни разу еще А я
говорю тебе было ты вспомнишь Я расскажу отцу и мы уйдем на ужас и позорище в
чистое пламя Я за-ставлю тебя вспомнить Ты думала это они а это был я думала я
в доме остаюсь где не продохнуть от про-клятой жимолости где стараюсь не думать
про га-мак кедры тайные всплески дыханье слито пьют неис-товые вздохи'
Здесь мы можем сделать наблюдение, касающееся особенностей поэтики
художественной прозы XX века
318
sub specie psichotica. Когда
стиль 'поток сознания' - характерный для невротического дискурса (притом что в
принципе синтаксическое и семантическое распаде-ние связности текста характерно
для шизофрении) - сочетается с бредовой тематикой, то происходит психотизация
невротического дискурса. Одного потока со-знания недостаточно. Вспомним монолог
Молли из 'Улисса' - там изображено сознание вполне здоровой женщины средствами
невротического дискурса.
И наконец -
последний фрагмент из Сорокина:
'Роман вышел из церкви и подошел к дому Степана Чернова. Роман вошел в
дом Степана Чернова. Роман нашел труп Степана Чернова. Роман разрубил брюш-ную
полость трупа Степана Чернова. Роман взял кишки Степана Чернова. Роман вышел из
дома Степана Черно-ва и пошел к церкви. Роман вошел в церковь. Роман по-ложил
кишки Степана Чернова рядом с кишками Федо-ра Косорукова. Татьяна трясла
колокольчиком. Роман вышел из церкви и пошел к трупу Саввы Ермолаева. Ро-ман
нашел труп Саввы Ермолаева. Роман разрубил брюшную полость трупа Саввы
Ермолаева. Роман вы-нул кишки из брюшной полости трупа Саввы Ермолае-ва. Роман
взял кишки Саввы Ермолаева и пошел к церк-ви. Роман вошел в церковь. Роман
положил кишки Сав-вы Ермолаева рядом с кишками Степана Чернова. Татьяна трясла
колокольчиком'.
Если забыть, что этот текст написан в конце XX века, и рассматривать
его как образец авангардного дискурса, то это безусловное изображение
параноидной шизофре-нии с характерным движением персеверации - автома-тического
повторения одной и той же речевой или мо-
319
торной конструкции. Но дело в
том, что уж к кому-кому, а к Сорокину в первую очередь относятся слова о непри-менимости
ориентированного реалистически клиничес-кого подхода. Шизофренический
постпсихотический дискурс Сорокина носит вторичный характер - его мож-но
назвать псевдошизофреническим. Во-первых, если бред и налицо, то при этом
совершенно непонятно, кто субъект этого бреда, ведь герой 'Романа' Роман - это
персонаж, весь сотканный из цитат (псевдоцитат), - это такой бумажный монстр.
Психотика у Сорокина носит совершенно не симптоматический характер. Ее смысл в
другом - это попытка прорыва за границы обыденного языка (который ложен,
поскольку безнадежно концептуализирован) в психотический язык, который обладает
чертами высшей истинности, нелитературности. То есть психотика Сорокина - это
поиск истинного языка, язы-ка, который высказывает истину - прежде всего, конеч-но,
истину не о реальности, а о самом себе, то есть о том, что он не имеет никакого
отношения к реальности.
Здесь мы
подходим к основной проблеме нашего ис-следования, суть которой заключается в
том, что, как мы попытаемся показать, 'психотическое', безумие, шизо-френия,
бред и тому подобное уместно и единственно непротиворечиво с точки зрения
философии XX века и конкретно с точки зрения философии текста рассматри-вать не
как феномены сознания, а как феномены языка. Это значит, что мы будем
отстаивать точку зрения, в со-ответствии с которой в XX веке 'сойти с ума' -
это то же самое, что перейти с одного языка на другой, обра-титься к особой
языковой игре или целой семье языко-вых игр. Нашу позицию в данном случае не
следует пу-тать с позицией Фуко. Скорее наша позиция (если ос-тавлять за
скобками то новое, что мы привносим в нее, рассуждая в терминах философии
текста) - это вполне
320
ортодоксальная
аналитико-философская позиция в духе лингвистической относительности Уорфа,
позднего Вит-генштейна и его учеников - представителей послевоен-ного
направления аналитической философии, называе-мой лингвистической терапией. Суть
последней в том, что задача философа, подобно задаче психоаналитика, - лишить
философский дискурс иллюзий его истинности [Грязное 1991]. В двух
словах такой взгляд на философ-ские проблемы можно сформулировать как идею
'прин-ципиальной координации' языкового и психического ас-пектов деятельности
человеческого сознания. (Основа-телем такого взгляда на проблему психопатологии
может считаться Уильям Джеймс, одним из первых фи-лософов заговоривший на языке
XX века и утверждав-ший, что первична не эмоция, порождающая слово или жест, а
первичны слово или жест, которые в свою оче-редь вторичны в качестве
коммуникативной диалогичес-кой реакции на слова или жесты речевого партнера.)
Для того чтобы
разобраться в этой проблеме и по-смотреть, как устроены различные психотические
язы-ки, мы решили провести сам по себе в некотором смыс-ле психотический
эксперимент, суть которого заключа-лась в том, что мы взяли некий художественный
текст, заведомо не психопатический и даже по преимуществу не невротический
(хотя, по-видимому, таких просто не бывает) и затем постепенно превратили этот
текст сна-чала в эксплицитно невротический, затем в паранояльный,
маниакально-депрессивный и наконец шизофре-нический. Для того чтобы с подобным
текстом легко было работать, ясно, что он должен быть небольшим. Для того же,
чтобы он хотя бы на первый взгляд казал-ся не относящимся к сфере
художественной патопсихо-логии, ясно, что это скорее всего должно быть произве-дение
XIX века и, в-третьих, желательно, конечно, что-
321
бы это был хрестоматийно
известный текст. Мы выбра-ли следующий:
(Быль)
Купила мать слив и хотела их дать детям после обе-да. Они
лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и все нюхал их. И очень они ему
нравились. Очень хоте-лось съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого не было
в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла
сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу.
За обедом отец и говорит: 'А что, дети, не съел ли
кто-нибудь одну сливу?' Все сказали: 'Нет'. Ваня по-краснел, как рак, и тоже
сказал: 'Нет, я не ел'.
Тогда отец сказал: 'Что съел кто-нибудь из вас, это
нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сли-вах есть косточки, и кто не
умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь'.
Ваня побледнел и сказал: 'Нет, я косточку бросил за
окошко'.
И все засмеялись, а Ваня заплакал.
Мы не могли не
начать с того, чтобы не посмотреть морфологию этого текста, оставив его
нетронутым хотя бы внешне. Картина, представившаяся нашему взору, была
достаточно красочной и оставляла всякие иллюзии по поводу того, что может быть 'здоровый' художест-венный текст.
'Косточка' прежде всего представляет собой полную развертку Эдиповой ситуации.
Авторитар-ная (фаллическая - термин Лакана - шизофреногенная - термин
Кемпинского) мать - слабый, пытающий-ся при помощи лжи навести порядок отец,
угрожающий
322
кастрацией-смертью - мальчик
Ваня, судя по всему 3-5 летний, и его желание съесть сливу как желание инцеста
с матерью. Сливы, 'этот смутный объект желания', - часть матери - ее грудь - ее
половые органы, к кото-рым Ваня принюхивается (копрофагия). Сливы - это по
этимологии нечто сияющее. Бедный Ваня. Ананкастическая мать 'сочла сливы' и
'сказала отцу'. И хотя реаль-но Ваня не ел косточку, но страх символической
смерти-кастрации гораздо сильнее реального поступка. Заме-тим, что для отца
важна именно не слива, а косточка. Плохо есть тайком сливы (плохо желать
матери) но про-глотить косточку - это уже страшно, потому карается смертью.
Именно поглощение косточки воспринимает-ся как инцест. Проглатывание в
мифологической тради-ции играет огромную роль. От проглатывания чего-либо
родились многие мифологические герои: так, Кухулин рождается от того, что его
мать выпила воду с насеко-мым. Конечно, чрезвычайно важно, что рассказ называ-ется
не 'Слива', а 'Косточка', потому что косточка - это то, что содержит в себе семя. Проглотив косточку, Ваня совершил бы
символический обряд совокупления с матерью, более того, оплодотворения матери.
(Характер-но, что Ваня сначала покраснел - стыд за инцест, а по-том побледнел -
страх кастрации.)
Мифология
косточки - кости - зерна - зерныш-ка - семечка дает обширный интертекстуальный
кон-текст, связывающий поведение Вани с известным ком-плексом, отсылающим к
работе Фрейда 'По ту сторону принципа удовольствия', с комплексом
эроса-танатоса, которому почему-то в свое время не дали имени собст-венного.
Назовем его 'комплексом Персефоны'.
'В гомеровском
гимне "К Деметре" рассказывается о том, как Персефона вместе с
подругами играла на лугу,
323
собирала цветы. Из расселины
земли появился Аид и ум-чал Персефону на золотой колеснице в царство мертвых [...].
Горевавшая Деметра (мать Персефоны. - В. Р.)
на-слала на землю засуху и неурожай, и Зевс был вынужден послать Гермеса с
приказанием Аиду вывести Персефо-ну на свет. Аид отправил Персефону к матери,
но дал вкусить ей насильно зернышко граната, чтобы она не за-была царство
смерти и снова вернулась к нему. Деметра, узнав о коварстве Аида, поняла, что
отныне ее дочь треть года будет находиться среди мертвых, а две трети с мате-рью,
радость которой вернет земле изобилие' [Лосев 1991: 438].
В
тексте Толстого 'Косточка' содержится и идея пер-вородного греха - слива как
плод с древа познания до-бра и зла, но также и мизансцена тайной вечери. - Один
из вас съел сливу - один из вас предаст меня. - Нет, я выбросил косточку за
окошко. - Не я ли, Господи?
Что такое
косточка? Косточка - это семя плода. То есть то, что кто-то из вас, дети,
возжелал тела матери своей, это нехорошо, но это не беда, беда в том, что в
сливах есть косточки, то есть отец боится символическо-го инцеста и карает за
него даже не кастрацией, а просто смертью. Причем здесь не годится 'истинно, истинно
говорю' и т. д. За поедание плодов с древа познания до-бра и зла (то есть того,
что можно и того, что нельзя - и в этом весь поздний Толстой) вердикт один -
изгна-ние из Рая, то есть смертность. Видно, и Толстому в дет-стве что-то такое
померещилось, а потом в 70-е годы XIX века настолько отозвалось, что он
отказался от сек-са вообще (мало ли что?!).
В русской
литературе косточка как элемент 'ком-плекса Персефоны', амбивалентно
объединяющего лю-бовь и смерть, присутствует, например, в повести Пуш-
324
кина 'Выстрел': '...видя
предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки...', 'Он стоял под пис-толетом,
выбирая из фуражки спелые черешни и выпле-вывая косточки, которые долетали до
меня'.
Вишневая
косточка играет такую же роль в одно-именном рассказе Юрия Олеши. Там герой
зарывает в землю вишневую косточку - символ неразделенной любви, - чтобы на
этом месте выросло вишневое дере-во любви разделенной. В рассказе же Олеши
'Любовь' таким символом выступает абрикосовая косточка (сам абрикос напоминает
герою ягодицы). В 'Трех толстя-ках' Суок рассказывает наследнику Тутти (Суок
заме-щает куклу, в которую он влюблен и которая оказывает-ся его сестрой -
мотив инцеста) о том, как она насвис-тывала вальс на двенадцати абрикосовых
косточках.
Этот приблизительный
и намеренно эскизный 'пси-хоанализ' мы провели лишь для того, чтобы показать,
как много можно 'вытащить' из на первый взгляд не-винного текста - поскольку мы
намерены 'вытащить' из него гораздо больше.
Данная
процедура, которую мы намереваемся неод-нократно проделать с 'былью' Толстого,
на первый взгляд напоминает пародию, однако фундаментально она противоположна
пародии, так как последняя заост-ряет в тексте то безусловное, что в нем есть,
наша же методика препарирования показывает то, чего в тексте безусловно нет, но
могло бы быть при определенных ус-ловиях.
Для того чтобы
превратить рассказ Толстого в невро-тический дискурс (а он и так, как мы
убедились, импли-цитно представляет собой невротический дискурс), нужно
переписать его (в плане выражения) при помощи стиля 'поток сознания' и (в плане
содержания) придать
325
ему характерную невротическую
тоску по утраченному желанию. Можно пойти по двум путям: либо сконстру-ировать
этот текст на манер Джойса или Пруста в духе 'Психотического дискурса', либо
сконструировать его при помощи абстрактных правил. Наиболее проста об-работка
данного текста в духе Пруста, если в качестве субъекта повествования усилить
роль повествователя и эксплицировать его латентные воспоминания, пользу-ясь
выражением Фрейда, эксплицировать 'невротичес-кую семейную драму'.
Вспомним
фрагмент из Пруста, который мы приво-дили в разделе 'Психотический дискурс':
'...без
какого-либо разрыва непрерывности - я сра-зу же вслед тому прошлому прилип к
минуте, когда моя бабушка наклонилась надо мной. То "я", которым я
был тогда и которое давно исчезло, снова было рядом со мной, настолько, что я
будто слышал непосредственно прозвучавшие слова...
Я снова
полностью был тем существом, которое стремилось укрыться в объятиях своей
бабушки, сте-реть поцелуями следы ее горестей, существом, вообра-зить себе
которое, когда я был тем или иным из тех, что во мне сменились, мне было бы так
же трудно, как труд-ны были усилия, впрочем, бесплодные, вновь ощутить желания
и радости одного из тех "я", которым по край-ней мере на какое-то
время я был.'
Когда я вспоминаю запах тех слив, которые купила тогда
мать и хотела их дать детям после обеда и ко-торые лежали на тарелке, а я
никогда не ел слив и по-этому все нюхал их, и их запах до того мне нравился,
326
что
хотелось немедленно съесть одну сливу, вкусить хотя бы одну частичку матери, и
я все ходил и ходил мимо слив, и наконец, когда никого не было в горнице, я не
выдержал, схватил одну сливу и впился в нее...
Но мать, как она обычно поступала в подобных слу-чаях,
перед обедом сочла сливы и увидала, что одной не хватает, и, конечно, сказала
отцу об этом, и отец, не-смотря на всю свою мягкость, уступая ей, за обедом
стал выяснять, не съел ли кто-нибудь из нас одну сли-ву, и все, разумеется,
сказали, что нет, и я тоже ска-зал, что я не ел, хотя краска стыда залила меня
с ног до головы. И тогда отец сказал, что если съел кто-то из нас, съел эту
поистине несчастную сливу, то это, разумеется, нехорошо, но беда вовсе не в
этом, беда в том, что в сливах есть косточки, и кто не умеет их есть и
проглотит косточку, тот через день умрет, и что он очень этого боится. Ужас от
этого невинного обмана отца (после этого, не раз желая умереть, сколько
сливовых косточек я проглотил!) настолько парализовал мое сознание, что я
побледнел и как бы по-мимо своей воли выговорил роковые слова о том, что я не
проглатывал косточки, а выбросил ее за окошко (в тот - первый! -раз это было
правдой).
Смех матери, отца и братьев оглушил меня.
Я горь-ко зарыдал и выбежал вон из горницы.
Воздержимся
пока от комментария, который, впро-чем, может быть здесь и вовсе не нужен, но
для контра-ста препарируем теперь текст Л. Н. Толстого в духе джойсовского
'Улисса':
'Ах и море море алое как огонь и роскошные закаты и фиговые деревья в
садах Аламеды да и все причудли-вые улочки и розовые желтые голубые домики
аллеи
327
роз и жасмин герань кактусы и
Гибралтар где я была де-вушкой и Горным цветком да когда я приколола в воло-сы
розу как делают андалузские девушки или алую мне приколоть да и как он целовал
меня под Мавританской стеной и я подумала не все ли равно он или другой и тогда
сказала ему глазами чтобы он снова спросил да и тогда он спросил меня не хочу
ли я да сказать да мой горный цветок и сначала я обвила его руками да и при-влекла
к себе так что он почувствовал мои груди их аро-мат да и сердце у него
колотилось безумно и да я сказа-ла да я хочу Да.'
Да сливы причудливые оливкового цвета купленные матерью
когда Стивен был еще совсем хотела их дать детям после обеда лежали переливаясь
на тарелке Стивен никогда не ел слив никогда не ел и все нюхал их очень
нравились ему все ходил и нюхал копрофагия очень хотелось съесть все ходил мимо
слив и нюхал и когда никого не было в горнице не удержался схватил одну и съел
перед обедом мать сочла сливы милая навязчивая привычка все пересчитывать
Стивен их все нюхал и нюхал сказала отцу за обедом отец А что дети не съел ли
кто-нибудь из вас все сказали Нет а Стивен все ню-хал и нюхал и покраснел как
рак и тоже сказал нет я не ел тогда отец Что съел кто-нибудь из вас это нехоро-шо
но не в том а что в сливах есть косточки и кто не умеет их есть и проглотит то
через день умрет беспо-воротно И Стивен побледнел как свежее ирландское
полотенце и давясь и отплевываясь и вновь вдыхая аро-мат материнской груди и
смех всеобщий вокруг и соб-ственное рыдание предчувствуя неумолимо Да он ска-зал
Да за окошко ее выплюнул безвозвратно
328
Мы видим, что те
психоаналитические мотивы, кото-рые были нами выявлены при первоначальном
анализе, заострились, хотя мы не ставили это своей целью. Же-лание,
направленное на мать, и законодательная роль отца стали очевидными, чувство
вины и переживание любви как смерти и позора сделались ясными. Но гораз-до
важнее для нас тот результат, что исходный травма-тический смысл текста, будучи
глубинным в генеративистском понимании слова 'глубинный', остался неза-тронутым.
Глубинная структура: 'мальчик - желание сливы (матери) - нарушение запрета -
законорегулирующая функция отца - всеобщее осуждение - фрустрация' или более
коротко: 'мальчик - желание мате-ри - угроза смерти со стороны отца -
фрустрация', - осталась незатронутой.
Что это означает для нас? Это
может означать следу-ющее. Любая травма формируется в бессознательном, поскольку
в бессознательном содержится Эдипова (в данном случае) ситуация (как во второй,
краткой фор-мулировке глубинной структуры текста, которая пред-ставляет собой
обыкновенную формулу развертки Эди-пова комплекса). Но при этом реальный невроз
(или психоз), по-видимому, формируется не на уровне глу-бинной структуры, не в
бессознательном (как вроде бы думали Фрейд и Лакан), а при переходе от
глубинной структуры к поверхностной, то есть когда текст обрета-ет реальные
слова и в зависимости от того, какие слова будут окружать бессознательное. От
того, среди каких слов и предложений будет жить бессознательное чело-века после
полученной травмы, будет зависеть то, в ка-кую именно форму психического
отклонения воплотит-ся изначальная травма-смысл-глубинная структура. В этом
плане ключевой тезис Лакана - 'Бессознательное структурируется как язык' -
следует дополнить тези-
329
сом, в соответствии с которым
этот язык, смыслы (озна-чающие) которого накоплены в бессознательном, реали-зуется
в полубессознательной ли 'пустой речи' или осознанной 'полной речи' на уровне
сознания. Из это-го же следует, что сама болезнь, сам симптом, также мо-жет
реализоваться лишь на уровне речи, и что, стало быть, психическое заболевание -
это лишь болезнь ре-чи, заболевание речью, что мы и стремимся показать.
Прежде чем
перейти к моделированию психотичес-кого дискурса, построим невротический
дискурс-3, не опирающийся на стиль какого-либо конкретного писа-теля, но при
этом имитирующий на уровне речи какой-нибудь конкретный невроз. Лучше всего, если
это будет невроз навязчивости, так как от навязчивости легко бу-дет перейти к
паранояльному бреду, поскольку послед-ний является наиболее полным воплощением
и одно-временно бредовым отрицанием идеи навязчивости [Рыбальский 7993]
Невроз
навязчивости (обсессивный невроз, невроз навязчивых состояний) заключается в
том, что человек как бы против своей воли все время сосредоточен на со-вершении
одного и того же действия или мысли об этом действии при полном осознании
чуждости и бессмыс-ленности этого действия или мыслей о нем. Например, больному
нужно десятки раз в день мыть руки (пример В. Франкла) или каким-то образом
манипулировать с числом 'три' (пример П. В. Волкова [Волков 1992]).
Наконец-то мать купила слив. Она хотела их дать детям
после обеда. После обеда - так долго ждать! Сливы - они лежали на тарелке. Ваня
никогда-никогда не ел слив, лишь какое-то неясное волнующее воспоми-
330
нание
тревожило и мучило его. И вот наконец сбылось. Но как долго ждать конца обеда!
И как не хочется де-литься с братьями! И он все нюхал и нюхал сливы. Но еще
больше Ване хотелось съесть их все, одну за дру-гой, немедленно, не дожидаясь
обеда, не делясь с бра-тьями, съесть их все дочиста, смакуя каждую сливу,
облизывая ее снизу доверху, обтирая языком каждую косточку (он знал, что в
сливах есть косточки и что их не в коем случае нельзя есть, но почему, почему
нельзя?). Он все ходил и ходил мимо слив. И вот когда никого не было в горнице,
он не удержался, схватил одну сливу и съел. Медленно, как будто боясь чего-то,
облизал ее и потом вдруг плотоядно вонзил зубы в пряную мякоть.
Перед обедом мать сочла сливы и увидела, что ни одной нет.
Она сказала отцу.
За обедом, нарушая гнетущее молчание, отец, угрю-мо
сгорбившись перед пустой тарелкой из-под слив, на-конец нерешительно сказал: 'А
что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?' И все закричали, зашумели:
'Нет, нет, зачем нам сливы, это не мы, это не мы ели'. Они
кричали и шумели, указывая глазами отцу на Ваню. Ваня покраснел как рак и
отчетливо произнес: 'Да не ел я ваши паршивые сливы'.
Тогда отец сказал: 'Что съел кто-нибудь из вас, это
нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сли-вах есть косточки, и кто не
умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь'.
Ваня побледнел и, с трудом выговаривая
слова, про-изнес: 'Нет - я не такой идиот, как вы думаете, - я все косточки
выбросил за окошко'.
Горница сотряслась от злорадного смеха.
Ваня пре-зрительно отвернулся и сплюнул за окно последнюю ко-сточку, которую до
последнего момента держал во рту на всякий случай.
331
Чем
обсессивный невроз отличается от паранояльного бреда? В первом случае картина
реальности сохра-няется, хотя и сильно заслонена обсессией. Ваня пони-мает язык
реальности, он отдает себе отчет, что нельзя, нехорошо есть сливы тайком, но
навязчивость, зарабо-танная им, как видно, на оральной стадии развития, взя-ла
верх, принцип удовольствия победил принцип реаль-ности. Ваня также отдает себе
отчет в совершенном про-ступке, но полученное удовольствие настолько сильнее
порицания со стороны братьев и отца (что уж тут думать о матери, вообще
непонятно!), что он в буквальном смысле готов плевать на социальные нормы.
Не так себя
ведет параноик. Он в гораздо меньшей степени связан с реальностью, хотя и не
порывает с нею вовсе, как психотик. Паранояльный бред отличается от
психотического бреда прежде всего своей внутренней логичностью,
систематичностью. Ложной будет только посылка, из которой формируется бред. В
остальном он может выглядеть вполне правдоподобно, поэтому его порой трудно
отличить от обсессии или сверхценной идеи.
И наконец
последнее и, может быть, главное от-личие невроза навязчивых состояний от
паранояльного бреда состоит в том, что сколь бы ни была тяжка обсессия,
невротик всегда сознает ее нелепость и навязанность. Параноик же твердо уверен
в истинности того, что он утверждает в своем бреде, каким бы нелепым он ни
казался со стороны.
По-видимому, в
паранояльной версии 'Косточки' Л. Н. Толстого Ваня склонен будет видеть
какой-то зло-качественный мотив в покупке матерью слив. В плане выражения в
паранояльном дискурсе должна нарастать зловещая логизированность повествования,
и, конечно, с каждым новым шагом по направлению от 'нормаль-
332
ного' дискурса к дискурсу
психотическому (венцом здесь безусловно должна быть шизофрения) текст будет все
больше и больше отличаться от исходного, препари-рование будет все более
радикальным. Ничего не поде-лаешь - такова логика нарастающего безумия.
Мать купила слив. Но Ваня знал, что мать не жела-ет ему
злого. Это отец давно хочет отравить его из ревности к матери. Мать - лишь
слепое орудие в ру-ках отца. Наивная, она хотела дать сливы детям после обеда.
Но Ваня знал, что сливы отравлены. Если про-глотить косточку, которая
содержится внутри каж-дой сливы, как однажды сказал Ване отец, издеваясь над
ним, то через день умрешь. Вот она - смерть, ду-мал Ваня. Сливы лежали на
тарелке. И хотя Ваня ни-когда не ел слив, он понимал, что приговор над ним уже
произнесен, - он знал, что ему не совладать с отцом. Он подошел и понюхал
сливы. Даже на запах было ясно, что это отрава. Два инстинкта боролись в Ване -
ин-стинкт жизни и инстинкт смерти. Первый говорил ему - не трогай их, беги,
спасайся, прочь отсюда! Второй нашептывал коварно прямо в ухо Ване, чтобы он
непременно попробовал хотя бы одну сливу. Да, отец отравил их, но бороться с
отцом бесполезно, он всеси-лен. К тому же Ване почему-то очень нравились эти
кусочки отравы. 'Да, это, смерть, - думал Ваня, - отец победил. Бедная моя
матушка!'
Неотвратимо тянуло съесть. Он молча и подозри-тельно ходил
мимо слив. Когда никого не было в горни-це, инстинкт смерти победил. Ваня не
удержался, схватил одну сливу и с мысленными проклятиями отцу съел.
333
Перед обедом отец (о! он все предусмотрел, каждую мелочь)
заставил мать счесть сливы. Мать, не пони-мая, зачем это нужно, но, привыкнув
во всем подчи-няться отцу, послушно сочла сливы. Одной сливы не было. Она уже
давно переваривалась в Ванином кишеч-нике.
За обедом отец выдал тайну слив. Он уже ничего не терял и
открыто ждал своего триумфа. 'А что, де-ти, - начал он как ни в чем не бывало,
- не съел ли кто-нибудь из вас одну сливу?' Все сказали: 'Нет'. Ва-ня
покраснел, как рак, и, трясясь от страха, тоже ска-зал: 'Нет, я не ел'. Было
слышно, как мать облегченно вздохнула.
Тогда отец открыл главное: 'Что съел кто-нибудь из вас, -
произнес он, недобро улыбаясь и пристально глядя на Ваню, - это нехорошо; но не
в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и кто не умеет их есть и
проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь'.
Ваня побледнел и сказал: 'Нет, я косточку бросил за
окошко'.
Отец усмехнулся. Мать закрыла лицо руками. Дети дружно
засмеялись. В животе у Вани что-то оборва-лось.
Чтобы не
перегружать исследование, мы не будем приводить примеры 'Косточки-5' и
'Косточки-6' - маниакально-депрессивного психоза в гипоманиакальной и
депрессивной фазе. В первом случае в плане со-держания подчеркивается тематика
величия, получен-ного от сока съеденной сливы, во втором - бред пре-следования
и вины за якобы проглоченную косточку. Однако, как писал Блейлер, 'все симптомы
маниакаль-но-депрессивного психоза могут наблюдаться и при ши-
334
зофрении, но специфические
симптомы шизофрении не бывают при первой болезни' [Блейлер 1993: 357].
Шизофрения -
главное психическое заболевание XX века, поистине королева безумия. Это
заболевание настолько сложное и разнообразное, что однозначно определить его
невозможно. Уникальность и особое положение шизофрении показывает хотя бы то,
что ес-ли паранойя каким-то образом связана с неврозом на-вязчивости, а
маниакально-депрессивный психоз - с депрессивным неврозом, то никакого аналога
шизофре-нии в сфере малой психиатрии подыскать невозможно.
По-видимому, шизофрению, паранойю
и маниакаль-но-депрессивный психоз можно разграничить следую-щим образом. При
паранойе бред центрируется вокруг Я, при шизофрении Я расщепляется или
становится равным всему универсуму, генерализуется. Шизофре-нический бред - это
бред о мире, в то время как паранояльный бред всегда индивидуален. При маниакально-депрессивном
психозе нет той генерализованности, харизматичности, онтологичности и
апокалиптичности, которые так характерны для шизофрении. То есть при паранойе Я
- центр бреда, а при шизофрении Я рас-щепляется на пассивно-активные
трансформации (то есть 'я бью' становится неотличимым от 'меня бьют' и от 'мной
бьют'), Я смешивается с миром. При мани-акально-депрессивном психозе Я как
субъект активно (это роднит МДП с паранойей) , но как агент Я пассив-но (это
роднит МДП с шизофренией, хотя никаких трансформаций здесь, конечно, не
происходит).
Важнейшим признаком шизофрении,
как пишет Блейлер, является расстройство ассоциаций. 'Нормаль-ные сочетания
идей теряют свою прочность, их место занимают всякие другие. Следующие друг за
другом
335
звенья могут, таким образом, не
иметь отношения одно к другому' [Блейлер 1993: 305]. Ясно, что данная осо-бенность
является одной из наиболее четких при опре-делении и вычленении
шизофренического дискурса.
Ср. пример шизофренической речи из книги [Кемпинский 1998]
'Больная, находившаяся в состоянии спутанности, на вопрос: "Где
пани сегодня была?" отвечала: "Имела, а не была... Спрашивали меня,
чтобы пошла и сегодня к оптыде оптре птрыфифи, а мне тоже там. Разве доктор... Но
нет, нам... Как же с ним... Это было неинтересно с теми. Какое-то молочко,
молочко и яблоки, кажется, что-то, какое-то, яблоки, яблоки, вместе
соединенные, ну а больше всего боюсь то..."' -
с фрагментом из
сорокинской 'Нормы':
'Бурцев открыл
журнал:
- Длронго наоенр крире
качественно опное. И гногрпно номера онаренр при от оанренр каждого на своем
месте. В орнрпнре лшон щоароенр долг, говоря раоренр ранр. Вот оптернр рмиапин
наре. Мне кажется оенрнранп оанрен делать...
Он опустился на стул.
Александр Павлович поднял голову:
- Онранпкнр вопросы опренпанр
Бурцев?'
Следующая особенность шизофрении по Блейлеру - неустойчивость аффектов.
Например, то, что у здорового человека вызывает радость, у шизофреника вызывает
гнев, и наоборот (паратимия). Аффекты теряют единство. 'Одна больная убила
своего ребенка, которого она люби-ла, так как это был ее ребенок, и ненавидела,
так как он
336
происходил от нелюбимого мужа;
после этого она неде-лями находилась в таком состоянии, что глазами она в от-чаянии
плакала, а ртом смеялась' [Блейлер: 312].
Важнейшей
особенностью шизофрении является ау-тизм. 'Шизофреники теряют контакт с
действительнос-тью [...]. Больная думает, что врач хочет на ней женить-ся.
Ежедневно он ее в этом разубеждает, но это безус-пешно. Другая поет на концерте
в больнице, но слишком долго. Публика шумит; больную это мало тро-гает; когда
она кончает, она идет на свое место вполне удовлетворенная' [Блейлер: 314].
Не менее важна
шизофреническая амбивалентность, неподчинение мышления шизофреника законам
бинар-ной логики. Больной может в одно и то же время ду-мать - 'я такой же
человек, как и вы' и 'я не такой че-ловек, как вы' [Блейлер: 312]
Шизофреники
испытывают широкий спектр разного рода галлюцинаций - слуховые, зрительные,
осяза-тельные, обонятельные и вкусовые.
Остановимся
также на речевых признаках шизо-френии, которые помогут нам 'синтезировать'
шизо-френический дискурс. Это перескакивание с темы на тему: 'Слова не
связываются в предложении; иногда больной громким голосом пропевает их,
повторяя один и тот же фрагмент мелодии' [Кемпинский 1998:
33]. Хаотичность, бесцельность речи,
производные от нарушения нормального действия ассоциаций. 'Сло-весный салат' -
феномен, при котором 'речь состоит из отдельных, не связанных в предложение
слов, пред-ставляющих главным образом неологизмы и персеверирующие
высказывания, или окрики, или даже отдель-ные слоги' [Кемпинский 1998: 39].
Персеверация - автоматическое бессмысленное повторение какого-ли-бо движения
или слова - вообще крайне характерна
337
для шизофрении. Это связано с так
называемым синдро-мом Кандинского-Клерамбо, или 'синдромом психоло-гического
автоматизма', одним из наиболее фундамен-тальных феноменов при образовании
шизофренического бреда. Для наших целей в синдроме Кандинского-Кле-рамбо важно
отметить следующую его важнейшую черту - вынужденность, отчужденность мышления
от сознания субъекта, как будто его сознанием кто-то управляет [Рыбальский
1983: 72]. (А. Кемпинский спра-ведливо связывает психический
автоматизм шизофре-ников с автоматическим письмом сюрреалистов: сюрре-алистический
дискурс - ярко выраженный психотиче-ский дискурс.)
Наконец укажем
важнейшие тематические особен-ности шизофренического бреда: представление об
уве-личении и уменьшении собственного тела, превраще-ние в других людей, в
чудовищ и неодушевленные предметы; транзитивизм, например, представление, в
соответствии с которым в тело или сознание субъекта кто-то входит;
представление о лучах или волнах, про-низывающих мозг (так, говорящие лучи,
которые пере-дают субъекту божественную истину, - один из клю-чевых образов
знаменитых психотических мемуаров Шрёбера, исследованных Фрейдом и Лаканом).
Чрезвы-чайно характерна при шизофрении гипертрофия сферы 'они' и редукция сферы
я - ты - мы, что позволяет го-ворить о десубъективизации и генерализации
шизофре-нического мира. В этическом плане важно отметить альтруизм шизофреника,
его стремление к правде [Кем-пинский 1998: 162, 165].
В
онтологическом плане шизофреник смешивает прошлое и настоящее, здесь и там; в
качестве заверше-ния течения болезни его могут настигнуть полнейшие хаос и пустота.
338
Мать купила слив, слив для бачка, сливокупание, отец, я
слышал много раз, что если не умрет, то оста-нется одно, Ваня никогда
сливопусканья этого, они хо-тели Васю опустить, им смертию кость угрожала, я слышу
слив прибоя заунывный, очень хотелось съесть, съесть, очень хотелось, съесть,
съесть, лежали на та-релке, съесть, тех слив, мамулечка, не перечтешь тай-ком,
деткам, мама, дай деткам, да святится Имя От-ца, он много раз, много раз хотел,
съесть, съесть, хотел съесть, мать купила слив для бачка, а он хотел съесть,
съесть, сожрать, растерзать, перемолола ему косточ-ки, а тело выбросили за
окошко, разумеется, на десерт, после обеда, сливокопание, мальчик съел сливу,
слива съедена мальчиком, сливой съело мальчика, слива разъе-ла внутренности
мальчика, кишки мальчика раздуло от запаха сливы, он нюхал их, а они нюхали
его, надобно вам сказать, что в сливе заложено все мироздание, и пото-му, если
ее слить тайком, перед обедом, когда в горнице никого, а косточку выбросить за
окошко ретроактивно, это тело матери, и все нюхал-нюхал, но не удержался, и все
сказали, нет, сказали, нет, слив больше нет, отец заботливо, что если
ненароком, но все казали, что слив больше нет, как рак за обедом, мать продала
отцу не-сколько слив, перед обедом сочла детей, видит, одного нет, она сказала
отцу, отец покраснел, как рак, я кос-точки выбросил в отхожее место, в конце
концов, од-ним больше, одним меньше, все засмеялись, засмеялись, засмеялись,
тут все, доктор, засмеялись, просто все обсмеялись, чуть с кровати не упали, а
Ваня заплакал.
Мы не должны
переоценивать результаты нашего эксперимента, но тем не менее из проведения его
явст-
339
вует, что как бы ни различались
поверхностные психи-ческие структуры высказывания, во всех патологичес-ких
типах дискурса: нормальном, невротическом, обсессивном, паранояльном и
шизофреническом - сохра-няется одна и та же глубинная структура, тема дискурса:
покупка слив как попытка соблазнения мате-рью Вани, желание Ваней матери-сливы,
съедание сли-вы как нарушение запрета на инцест - разоблачение и месть отца. А
раз так, раз любая глубинная структура изначально безразлична к тому, является
ли высказы-вание нормальным или патологичным, то концепция безумия может быть
не только фукианской (безумие распространяется и дифференцируется по мере рас-пространения
соответствующих понятий и социальных институций [Фуко 1997]), но и уорфианской: мы видим какое-то
девиационное поведение и даем ему название.
Мы слышим непривычную речь и определяем ее как речь сумасшедшего. При
этом у нас нет никаких гипо-тез относительно того, что происходит у этого
человека в сознании, - и, поскольку глубинная структура без-различна к тому,
патологическим или нормальным явля-ется дискурс, а последнее проявляется только
на уровне поверхностной структуры, то, стало быть, безумие - это просто факт
языка, а не сознания.
Но что же получается, значит, настоящие шизофре-ники, которые лежат в
больнице, - это не сумасшед-шие: научите их говорить правильно - и они будут
здоровыми? Именно так. Но беда в том, что научить их говорить нормально
невозможно. Значит, они все-таки нормальные сумасшедшие. И тогда получается,
что сумасшедший - это тот, кто не умеет нормально говорить. Это, конечно,
скорее точка зрения аналити-ческой философии безумия (если бы таковая сущест-вовала).
340
Но мы не правы, когда
противопоставляем 'биоло-гический' психоанализ и 'структурный' психоанализ.
Мать и отец в Эдиповом комплексе - это языковые позиции. Мать - источник
потребности, а затем - желания. Отец - Закон (недаром говорят '.буква зако-на'; одно из излюбленных словечек
Лакана - 'Ин-станция буквы в бессознательном'). Эдипов треуголь-ник - это
треугольник Фреге: знак - означаемое - означающее.
Когда мы противопоставляем
психическое заболева-ние экзогенное, например травматический невроз или
пресенильный психоз, эндогенному, то мы думаем об эндогенном, генетически
обусловленном заболевании как о чем-то стопроцентно-биологическом, забывая, что
генетический код - это тоже язык, и, стало быть, эндо-генные заболевания также
носят знаковый характер.
Но покинем хотя бы на время
ортодоксальную стра-тегию аналитической философии и предположим, что каждая
языковая игра так или иначе связана, условно говоря, с биологией. Чем более
примитивна в семиоти-ческом смысле языковая игра, тем явственнее ее связь с
биологией. Когда человеку больно, он кричит и стонет, когда ему хорошо, он
улыбается. Это самая прямая связь с биологией. Наиболее явственное усложнение
подобной связи - конверсия. Например, когда убивают христианского мученика, он
улыбается. Так сказать, 'Хватило бы улыбки, / Когда под ребра бьют'.
Более сложные
опосредования: как связана с биоло-гией лекция профессора? Можно сказать, что у
профес-сора природная 'биологическая' тяга читать лекции. Так же, как у вора -
воровать и у убийцы - убивать. Но все равно здесь связь с биологией более
опосредованна, чем желание алкоголика напиваться или нарко-мана колоться.
341
Из этих различных
опосредованностей между рече-выми действиями и биологией и состоит в сущности
че-ловеческая культура. Культура - это система различно-го типа связей между
биологией и знаковой системой. Если бы все типы связей были одними и теми же,
то ни-какой культуры вообще не было бы. Например, если бы черный цвет
однозначно во всех культурах означал тра-ур и мы связали бы это с тем, что
черное наводит тоску, проделали бы соответствующие тесты, которые под-твердили
бы это наше наблюдение, то в этом случае элиминировалось бы противопоставление
между теми культурами, у которых черный цвет действительно оз-начает траур, и
теми, у которых траурный цвет - бе-лый. То есть подобные культуры просто в
таком случае не считались бы культурами.
Поэтому неверно противопоставлять 'биологизатора' Фрейда 'лингвисту'
Лакану. В этом смысле Лакан вовсе не лукавил, когда говорил, что он не
придумывал ничего нового, а просто договаривал то, чего Фрейд не договорил.
Мы говорим о шизофрении как об объективном пси-хическом заболевании,
как о состоянии сознания. Но можно ли называть Гельдерлина шизофреником, если
термин 'шизофрения' был изобретен через много лет после его смерти?
Кажется, что можно сказать: 'Достоевский никогда не ездил на БМВ'. На
самом деле эта фраза прагматиче-ски бессмысленна, потому что к ней невозможно
подо-брать актуальный контекст употребления. Чем же тогда она отличается от
предложения: 'Во времена Достоев-ского не было автомобилей'? Тем, что последняя
фраза может иметь какой-то приемлемый контекст.
Мы можем сказать: 'Во времена Гельдерлина не бы-ло слова
"шизофрения", но если подбирать современ-
342
ный эквивалент к тем симптомам,
которые проявлялись у Гельдерлина, то понятие "шизофрения" к нему
подой-дет больше всего'. Что неправильного в таком рассуж-дении? Уверены ли мы,
что симптомы такой сложной болезни, как шизофрения, существуют изолированно от
того культурного и социального контекста, при котором это слово возникло? Разве
мы не согласимся с тем, что шизофрения - это болезнь XX века, но не потому, что
ее так назвали в XX веке, а скорее потому, что она чрез-вычайно характерна для
самой сути XX века, и потому-то ее и выделили и описали только в XX веке. То
есть слово 'шизофрения' появилось до того, как появилась болезнь шизофрения.
Но пример с Гельдерлином не
вполне показателен, это все-таки поэт, каким-то образом причастный куль-турным
ценностям XX века (хотя бы тем, что его психи-ческую болезнь задним числом
назвали шизофренией). Но что если сказать, например, что у вождя племени на
острове Пасхи обнаружилась шизофрения? Нелепость этого примера с очевидностью
доказывает нашу право-ту в том, что понятие шизофрения в очень большой сте-пени
является культурно опосредованным.
Сложнее обстоит
дело с типологией характеров, иду-щих от Кречмера. Характер - совокупность
каких-то чисто физиологических и психологических, соматичес-ких характеристик.
И все же мы считаем неправильным говорить, что Юлий Цезарь был эпилептоид, а
Фома Аквинский - шизоид-аутист. Потому же, почему не яв-ляется истинным
предложение: 'Достоевский никогда не ездил на БМВ'. Нет, так сказать,
оперативного пово-да, чтобы назвать Аквинского шизоидом. Тогда так не говорили.
Нет слова - нет и характера.
В своей книге
'Язык и мышление' Хомский писал:
343
'Нормальное
использование языка носит новатор-ский характер в том смысле, что многое из
того, что мы говорим в ходе нормального использования языка, явля-ется
совершенно новым, а не повторением чего-либо слышанного раньше и даже не
является чем-то "подоб-ным" по "модели" тем предложениям и
текстам, которые мы слышали в прошлом' [Хомский 1972: 23].
В свете
вышеизложенных размышлений о языковом происхождении безумия более чем уместным
будет за-кончить это исследование словами автора фундамен-тального труда
'Бред', профессора М. И. Рыбальского:
'Таким образом,
бред может и должен рассматри-ваться как проявление патологического творчества'
[Рыбальский
1993: 53].
В 1925 году
Фрейд опубликовал одну из самых ко-ротких (не более пяти страниц), но
несомненно одну из самых глубоких и значительных своих статей 'Verneinung'
('Отрицание'). Статья эта не привлекала к себе интересов широкой публики до тех
пор, пока Ла-кан не попросил Жана Ипполита на одном из своих зна-менитых
семинаров выступить с ее устным коммента-рием [Ипполит 1998]. После
этого (1953 год) статья Фрейда стала культовой.
На первый взгляд эта работа
посвящена важному, но вполне частному наблюдению о том, что если в про-цессе
анализа пациент что-то горячо отрицает, то это верный признак того, что его
высказывание надо пони-мать с противоположным знаком. Например, если па-циент
говорит: 'Я видел во сне такого-то человека. Вам интересно, кто бы это мог
быть. Это была точно не моя мать'. И вот, говорит Фрейд, можно не сомне-ваться,
что это точно была именно его мать [Freud 1989: 667].
Здесь анализ
Фрейда, говорит Ипполит, приобретает обобщенный философский смысл. Отрицание
(Ипполит с Лаканом считали, что слово Verneinung точнее перево-дить на
французский язык не как negation, но как denegation; в новейшем русском
переводе - 'запирательст-во'), которое является завуалированным утверждением,
по Фрейду, служит основанием всякого мышления, кото-
345
рое сначала осуществляет выброс
(Ausstossung) некое-го содержания, но тем самым подготавливает почву для
последующего принятия этого содержания. Внеш-нее становится внутренним. Подобно
тому как сказано в Библии - время разбрасывать камни и время соби-рать камни.
Как ребенок сначала разбрасывает игруш-ки, чтобы отделить свое тело от внешнего
мира, а по-том собирает их, чтобы вступить в контакт с внешним миром.
Отрицая, субъект тем самым уничтожает
вытесне-ние, но еще не выводит вытесненный материал из бес-сознательного,
однако непосредственно подготавливает его к этому выводу.
В настоящем разделе мы коснемся
тех аспектов фрей-довского понятия Verneinung, которые связаны с функ-ционированием
речевой деятельности, с логико-фило-софской проблематикой и философией текста.
Мы
начнем с того, что в свете высказанных замеча-ний дадим интерпретацию
евангельской истории отре-чения Петра. (Кстати говоря, слово 'отречение' пред-ставляется
вовсе не плохим кандидатом на перевод фрейдовского Verneinung. Во всяком
случае, 'отрече-ние' так же сохраняет лексико-семантическую связь с
'отрицанием', как лакановско-ипполитовское denegation - с negation.) Наш вопрос
будет заключаться в сле-дующем: почему Иисус простил Петра, который, не-смотря
на предупреждение, трижды публично отрекся от Него? Ответить на этот вопрос
поможет интерпрета-ция механизма фрейдовского Verneinung'a, механизма
отрицания/отречения.
Прежде,
однако, напомним те события, которые предшествовали отречению Петра.
346
На тайной вечере перед Пасхой
Иисус объявил уче-никам, что один из них предаст Его, на что каждый (включая
Иуду) стал говорить: 'Не я ли. Господи?'
'При сем и Иуда,
предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус
говорит ему: ты сказал' [Мтф. 26, 25].
Иисус в данном
случае выступил в роли аналитика, дезавуировав Verneinung Иуды. Спрашивается,
зачем Иуда задавал этот вопрос, ведь он знал, что он преда-тель? Он не хотел
выделять себя из других учеников, чтобы не выдать себя (кто не спрашивает, тот
знает). Но скорее он вытеснил, во всяком случае на этот мо-мент, свое знание в
бессознательное. Слишком уж не-приятным было это знание, чтобы носить его
постоян-но в сознании. А может быть, если принять апокрифи-ческую версию
предательства Иуды, по которой Иуда совершил предательство, чтобы помочь Иисусу
прой-ти весь путь и окончательно утвердиться, вся эта сце-на предстает как
тестирование Иисуса со стороны Иу-ды. То есть вопрос 'Не я ли, Равви?'
означает: 'Ты знаешь, что я тот, кто должен помочь тебе в трудную минуту?' А
ответ 'Ты сказал' означает нечто вроде 'Знаю, не приставай'. То есть в таком
случае описан-ная сцена представляется чем-то вроде обмена паро-лем и отзывом.
После этого
Иисус говорит ученикам, что все они в эту ночь 'соблазнятся о нем'. На что Петр
отвечает что кто угодно, только не он:
'Петр сказал ему в
ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь.
Иисус сказал
ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды
отречешь-ся от Меня' [Мтф. 26, 33-34].
347
Утром Иисуса арестовывают, причем
Петр ведет се-бя при аресте крайне агрессивно - он отсекает у раба
первосвященника ухо (которое Иисус тут же благопо-лучно водворяет назад).
Вероятно, этот эпизод можно интерпретировать как манифестацию комплекса кастра-ции,
бессознательную готовность Петра к тому, чтобы его через очень короткое время в
нравственном смысле кастрировали, 'опустили'. И вот когда Иисуса уводят в
преторию, и разыгрывается знаменитый эпизод с отре-чением:
'Петр
же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с
Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты гово-ришь. Когда же он выходил за
ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: этот был с Иисусом Назореем.
И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека. Немного спустя
подошли стоявшие там и сказали Петру:
точно и ты из них и речь твоя
обличает тебя.
Тогда он начал
клясться и божиться, что не знает Се-го Человека. И вдруг запел петух.
И вспомнил Петр слово, сказанное
ему Иисусом:
прежде нежели пропоет петух,
трижды отречешься от меня. И вышед вон, плакал горько' [Мтф. 26, 69-75].
Вот такая история. Заметим, насколько психоанали-тически (по-фрейдовски
и по-лакановски) звучит фраза 'и речь твоя обличает тебя'. То есть ты говоришь,
что не знаешь, и это означает, что знаешь (Фрейд). Но то, что ты знаешь, может
быть выявлено лишь в режиме твоей речи, адресованной Другому (Лакан). (Хотя, ко-нечно,
на поверхности данная фраза означала лишь то, что Петр говорил на диалекте
галилеян, поэтому его речь его и изобличала.)
348
Для того чтобы понять, почему
после такого преда-тельства Иисус не только простил Петра, но и сохра-нил все
его привилегии как первозванного апостола и назначил его держателем ключей от
рая, необходима психоаналитическая интерпретация личности самого Иисуса.
Вспомним прежде всего
обстоятельства Его рожде-ния. Несомненно, слухи о странной беременности Ма-рии
и о том, что Иосиф Плотник не настоящий отец Ии-суса, не могли не дойти до Него
еще в юности и нару-шить нормальное развитие в Нем Эдипова комплекса. Вместо
этого у Иисуса произошла диссоциация с роди-телями. Он был с ними холоден, жил
своей духовной жизнью, никакой разнонаправленной динамики отноше-ний к отцу и
матери у Него не было. Все это оттого, что Он очень рано поверил в то, что
настоящий Его Отец - это Бог, и отождествил Себя с Богом-Отцом. На этой почве у
Иисуса возник психоз, связанный с бредом вели-чия. (О связи психоза с проблемой
Отца см. с. 302-308 настоящего исследования)
(Трактовка
Иисуса как психотика и соответственно Его учения как бреда в клиническом
смысле, несмотря на свою кажущуюся шокирующей экстравагантность, вовсе не
означает отрицания (Verneinung) Его состоя-тельности как пророка и Сына Божия.
В конце концов и Магомет был эпилептик, и Будда умер от кишечного ко-лита -
никто на это не смотрит.)
Отсутствие
нормальных отношений с родителями приводит к тому, что Иисус так и не доходит в
своем сексуальном развитии до генитальной стадии. Как лю-бой психотик, отрицающий
реальность [Freud 1981], Он
отрицает также и прежде всего сексуальную реаль-ность. Он вообще, по-видимому,
не понимает, не чувст-вует, что такое сексуальные отношения - их тревожной
349
динамики, их напряженности и
амбивалентности (в смысле противоположной направленности к жизни и к смерти).
Потому Он с такой легкостью прощает блудниц. Для Него согрешить действием -
гораздо мень-шее зло, чем согрешить в мыслях (отсюда знаменитая максима о том,
что согрешит тот, кто уже только по-смотрит с вожделением на жену брата
своего). Поэто-му Он так агрессивно относится к иудейским интел-лектуалам -
книжникам и фарисеям, - которые как раз больше всего греховны своими мыслями и
слова-ми, но не поступками.
Итак, Иисус, так сказать,
выстраивает свои отноше-ния с людьми не по горизонтали, а по вертикали. От От-ца
- к Сыну, от Учителя - к ученикам. Поэтому при отсутствии нормальной
генитальной фиксации у Иису-са между Ним и Его учениками устанавливаются моно-эротические
отношения, все время подчеркивается любовность этих отношений. Так, Иоанн все
время, говоря о себе самом в третьем лице, называет себя 'учеником, которого
Господь любил, и у которого он возлежал на груди'. Иисус же трижды спрашивает у
Петра в конце Евангелия от Иоанна, любит ли Петр Его, так что даже на третий
раз Петр обижается. То есть психотически по-нятое отношение Бога-Отца к себе
Иисус переносит, проецирует на своих учеников, применительно к кото-рым Он сам
выступает как Учитель, то есть духовный Отец. Ученики заменяют Ему детей, и во
всей Его ма-ленькой общине Он культивирует внесексуальные отно-шения родителей,
братьев и детей:
'Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним.
И некто сказал Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая
говорить с Тобою.
350
Он же сказал в ответ: кто Матерь
Моя и кто братья Мои?
И указав рукою
Своею на учеников своих, сказал:
вот матерь Моя и братья Мои;
Ибо кто будет исполнять волю Отца
Моего Небесно-го, тот мне брат и сестра и матерь' [Мтф. 12, 46-50].
Почему Иисус
простил Петра? Прежде всего потому, что Петр был одним из его любимых детей
(ср. притчу о блудном сыне).
Но этим дело, конечно, не
ограничивается. Здесь важ-но отметить, что Иисус живет в телеологическом време-ни,
а не в детерминистском, то есть в таком времени, где не нарастает, а
исчерпывается энтропия (подробно см. раздел 'Время и текст'). Сущность такого
времени не только в том, что оно течет в обратную сторону по отно-шению к
детерминистскому времени, но в том, что буду-щее в таком времени встает на
место прошлого, то есть будущее известно, как известен автору финал романа.
Иисус (благодаря ли психотическому бреду или Божест-венному откровению - это
лишь суть дополнительные языки описания одного и того же явления) точно знает,
что произойдет в будущем с Ним и со всеми другими людьми, в частности, конечно,
с наиболее близкими.
Иисус живет внутри исторической драмы, причем на-ходится в самой ее
кульминации (завязкой этой Драмы было грехопадение, а развязкой - Второе
пришествие) миссия Иисуса - искупление первородного греха - яв-ляется
кульминацией. Такова историко-философская кон-цепция Святого Августина, кстати,
одного из создателей концепции телеологического времени [Августин 1906].
Но Иисус -
человек, по крайней мере наполовину. Поэтому знание наиболее мучительных мест
своей бу-дущей биографии Его тяготит. И перед самым концом
351
Он на несколько секунд не
выдерживает и, в этот мо-мент воспринимая течение времени по-человечески в
детерминистском энтропийном ключе, он молит Своего Отца 'пронести эту чашу мимо
Него'. Впрочем, Он тут же спохватывается, вспоминая, что 'Продуман распоря-док
действий / И неотвратим конец пути', и говорит Бо-гу: 'Да не будет моя воля, но
Твоя'. И вот, может быть, когда на Тайной Вечере Иисус 'раздавал всем сестрам
по серьгам', когда Он объявил Петру, что тот отречется от Него, может быть, в
тот момент Он и не собирался прощать Петра, но теперь, Сам пережив минуту слабо-сти,
Он не может не простить его.
Но и этим, конечно, все не
исчерпывается. Самое главное - в механизме самого отречения,
самогоVerneinung'a. Согласно Фрейду, отрицание - это лишь форма утверждения, не
просто его обратная сторона, но его предварительное условие; отрицая, сознание
'от-брасывает от себя'; утверждая, оно вбирает в себя. Для того чтобы что-то
принять, нужно сначала это отбро-сить, осознать его в качестве отброшенного;
для того, чтобы родиться, нужно сначала умереть - это непо-средственно следует
из концепции Фрейда и его учени-цы Сабины Шпильрейн [Фрейд 1990d, Шпильрейн 1995]. И это же соответствует идеологии самих
Евангелий:
'Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зер-но, падши в землю, не
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода' [Иоанн 12, 24].
И вот в соответствии с этой логикой, отрекаясь от Иисуса, отбрасывая Иисуса в акте Verneinung'a, Петр тем
самым бессознательно подтверждает себя в качест-ве ученика Иисуса, подтверждает
свою готовность при-нять Его в свое
сознание (ср. известный пример из ра-
352
боты Фрейда 'По ту сторону
принципа удовольствия', когда ребенок сначала отбрасывает
игрушки от себя, чтобы потом их принять [Фрейд 1990d]) и в будущем принять за Него
мученическую смерть. Именно поэтому Иисус, зная, что Петру предстоит
мученическая смерть за Него, спокойно смотрел на этот своеобразный экза-мен
отречения, экзамен, своеобразие которого состоит в том, что проваливший его тем
самым наиболее успешно его сдает. Для того чтобы воскреснуть для новой жизни
без Иисуса, без Его отеческой поддержки, но для
Иису-са и во Имя Иисуса, Петр должен был умереть для ста-рой жизни, пройдя этот
позорный экзамен.
Таким образом, Verneinung - нечто
вроде обряда инициации, нечто вроде переправы через реку, отделяю-щую мир
мертвых от мира живых.
До сих пор из
нашего изложения и тех представлений, которые были изложены Фрейдом в статье
'Verneinung', следовало, что отрицательное суждение является чем-то более
фундаментальным по сравнению с утвердитель-ным. Между тем с логической точки
зрения это как буд-то бы не так. Во всяком случае, если представить себе су-ществование
'элементарных пропозиций' в духе 'Логи-ко-философского трактата', то есть таких
пропозиций, которые содержат простое имя и простой предикат и не зависят от
других пропозиций, то в этом случае отрица-ние любой элементарной пропозиции
само не будет эле-ментарной пропозицией, поскольку само отрицание яв-ляется
знаком логической операции, или оператором, преобразующим элементарные
пропозиции в неэлемен-тарные. С этой точки зрения получается, что отрицание
менее фундаментально, чем утверждение, и производно от него. 'Возможность
отрицания, - говорится в 'Трак-
353
тате' - уже заключена в
утверждении' (5.44). Но далее говорится: 'Положительная Пропозиция предполагает существование
отрицательной Пропозиции и наоборот'.
А в 'Философских исследованиях' утверждается следу-ющее: 'Возникает чувство,
будто отрицательное предло-жение для того, чтобы отрицать некоторое
предложение, должно сначала сделать его в определенном смысле ис-тинным' (�
447). Это уже вовсе в духе фрейдовского Verneinung.
В чем же дело? Кажется, что дело
в том, что, как ни странно, отрицание в логике существует только на бума-ге. То
есть с логической точки зрения отрицать ничего нельзя, любое отрицание является
утверждением. Как это понять? Я хочу сказать, что, отрицая, мы тем не ме-нее
всегда утверждаем некий позитивный факт, а не не-кий отрицательный факт.
Отрицательных фактов не су-ществует. Если я говорю: 'Я не хочу есть', то я не
отри-цаю факт своего желания есть, а скорее утверждаю факт своего нежелания
есть. Потому что 'нежелание есть' не является негативной сущностью, как может
показаться. Это позитивная сущность, которая объясняется либо мо-ей сытостью,
либо болезнью, либо диетой, или же, на-оборот, желанием приберечь силы для
вечерней трапезы в кругу друзей. Когда я говорю 'Я не люблю Серванте-са', это
означает, что чтение книг Сервантеса наводит на меня скуку, или я предпочитаю
ему Кальдерона, или я вообще считаю испанскую литературу не заслуживаю-щей
внимания.
Когда Магритт под картиной, на
которой изображена курительная трубка, делает подпись 'Это не трубка', то, как
мне кажется, он исходит именно из такого пози-тивно-образующего понимания
отрицания (как извест-но, все сюрреалисты были чрезвычайно внимательны к
психоанализу). То есть художник понимает, что пер-
354
вый вопрос, который возникает при
отрицании очевид-ного - что это не трубка, - будет заключаться в следу-ющем: 'А
что это такое?', 'Что он этим хочет ска-зать?', то есть нечто утвердительное по
своей сути.
Но что из того, что каждое
отрицание - это по сути утверждение чего-то другого, как правило, вовсе не про-тивоположного,
но смежного? Для понимания статьи Фрейда это означает следующее. Отрицание 'Это
точно не была моя мать' в общем-то означает не 'Это точно была моя мать', но
скорее нечто вроде: 'Мое бессозна-тельное уверено, что это была моя мать, но я
предпочи-таю думать иначе. Я предпочитаю думать, что это другая женщина,
которую зовут так-то и так-то'. То есть если мы возвратимся к нашему примеру с
отречением Петра, то получится, что, когда Петр отрекся и сказал 'Я не знаю
этого человека', он не просто имел в виду 'Я знаю этого человека', но нечто
более сложное. Нечто вроде:
'Мое бессознательное утверждает,
что я знаю этого че-ловека, но я предпочитаю думать иначе. Мое "собствен-ное
я" противится признанию этого человека. Я здесь просто так, пришел
погреться. Я хочу жить!' Итак, 'Я не знаю этого человека' означает 'Я хочу
жить'. Разве не смерти боялся Петр, боясь признаться, что он являет-ся учеником
Иисуса? И разве не жизнь он утверждает в
своем отречении в причастности к ученикам Иисуса?
Но какую жизнь он утверждает? Он
утверждает жизнь вне Иисуса. А что
утверждают своим отрицанием клиенты психоаналитика? Они утверждают свое жела-ние
продолжать, так сказать, жизнь-внутри-болезни, по-тому что (как и Петр), если
они признают, что 'это была их мать', они невольно сделают шаг к
выздоровлению-через-смерть, чего, естественно, их сознание не хочет.
Итак, что же скрывает Verneinung?
Он скрывает под-линную скрытую реальность здоровья-смерти под по-
355
кровом мнимой реальности
болезни-жизни. Отрицание отрицает подлинную смертную реальность (я не хочу есть
- на самом деле я хочу есть, потому что иначе я умру, но я не хочу умирать,
поэтому лучше не думать о еде (сексе, труде,...). 'Это не моя мать - и на самом
де-ле это моя мать, но я не хочу думать о своей матери, по-тому что это значит
думать о смерти'.
В сущности любое отрицание
отрицает, тщится от-рицать существование чего-либо. Невозможность по-следнего
показывает всю тщетность отрицания как борьбы за жизнь и противостояния
смертной истине.
Невозможность логически отрицать
существование (конечно, смерти) была известна давно. Известный любитель
поотрицать Уиллард Куайн писал по этому поводу:
'Это
старая загадка Платона о небытии. Небытие должно в некотором смысле быть, в
противном случае получается, что есть то, чего нет. Эта запутанная докт-рина
получила прозвище бороды Платона; исторически она оказалась стойкой, частенько
затупляя острие брит-вы Оккама. [...] Возьмем, к примеру. Пегаса. Если бы
Пегаса не было, то употребляя это слово, мы бы говори-ли ни о чем.
Следовательно, было бы нелепо даже гово-рить о том, что Пегаса нет' [Quine 1953:
2].
А вот что
писал на этот счет Дж. Э. Мур:
'Но значение предложения "Некоторые ручные тиг-ры не
существуют", если оно вообще тут есть, конечно, не является вполне ясным.
Это еще одно сомнительное и загадочное выражение. Имеет ли оно вообще значе-ние?
А если имеет, то в чем оно состоит? Если оно име-ет какое-то значение, то
понятно, что оно должно озна-
356
чать то же самое, что 'Имеются
некоторые ручные тиг-ры, которые не существуют'. Но имеет ли это предло-жение
какое-либо значение? Возможно ли, чтобы име-лось некоторое количество ручных
тигров, которые бы не существовали?' [Moore 1959].
И наконец:
'Если объект,
удовлетворяющий свойству Ф, есть объект, удовлетворяющий свойству Ф, тогда
имеется не-что, которое есть объект, удовлетворяющий Ф' [Целищев 1976: 2(5].
Другими словами,
если крылатый конь является кры-латым конем, то существует такой объект, как
крылатый конь.
Итак, отрицать
небытие бесполезно. Поэтому Verneinung всегда - лишь временное средство,
некоторый при-вал на пути к осознанию смертной жизни. 'Бессозна-тельное никогда
не говорит нет', - замечает Жан Иппо-лит, подводя итоги своему комментарию
фрейдовской статьи [Ипполит 1998: 404]. Бессознательное
всегда го-ворит: 'Да!' (как Молли Блум). В бессознательном все-гда одно и то же
- могила, утроба, запоздалый инцест с матушкой (которая, конечно, не что иное,
как мать-сыра-земля), в бессознательном ты всегда (наконец-то!) убива-ешь
своего отца, и желанная Смерть приходит к тебе в образе Марии Казарес, и ты не
знаешь, как с ней нате-шиться.
Универсальность
Verneinung'a обусловлена его несо-мненной связью с Эдиповым комплексом. Фрейд
не пи-шет об этом в эксплицитной форме. Однако в неявном виде эта связь
обнаруживается им на каждом шагу, на-
357
пример при выявлении динамики
соотношения Эдипова комплекса и комплекса кастрации. Так, в работе 'До-стоевский
и отцеубийство' Фрейд пишет следующее:
'В определенный момент ребенок начинает понимать, что попытка устранить
отца как соперника угрожала бы ему кастрацией. Стало быть, из-за страха
кастрации, то есть в интересах сохранения своего мужского начала, ре-бенок отказывается (отрекается. - курсив мой. - В. Р.) от желания обладать матерью и устранить
отца. Насколь-ко это желание сохраняется в бессознательном, оно обра-зует
чувство вины' [Фрейд 1995 f: 288].
От того,
насколько сильно это чувство вины, оно преображается в невротический отказ от
реальности в пользу фантазии или психотическое отрицание реаль-ности в пользу
символической реальности бреда. Если чувство вины сильно, но при этом личность,
которая эту вину испытывает, является творчески одаренной, то, пройдя через
испытания и наказания со стороны симво-лического отца (например, как в случае с
Достоевским, царя), она, эта личность, проецирует свое чувство вины на свое
творчество, как это произошло с романом 'Бра-тья Карамазовы'.
Как известно,
в 'Братьях Карамазовых' в убийстве отца замешаны все четыре брага. Непосредственным
ис-полнителем был Павел (Смердяков); идейным вдохнови-телем - Иван;
покушавшимся на убийство - Дмитрий;
и Алексей, по планам
Достоевского, долженствующий соединиться с народовольцами и убить царя (что для
До-стоевского - как и для Фрэзера - то же самое, что от-ца). Алексей получался
самым главным затаенным убий-цей. В общем все хотят смерти отца, и это понятно.
Ин-тереснее другое. Что в романе точно до конца не
358
известно, кто на самом деле убил
отца. Ведь кроме сви-детельства почти помешанного Смердякова совсем поме-шанному
Ивану Карамазову, после чего первый покон-чил с собой, а второй окончательно
сошел с ума, ничего нет. В романе господствует неопределенность по вопро-су
убийства отца, такая же неопределенность и неизвест-ность господствует в
сознании человека по поводу Эдипова комплекса. Даже если человеку приходит
мысль о том, что он хочет убить отца, он скорее всего отгоняет ее как
чудовищную и не соответствующую нормам морали, даже если этот человек -
3-летний ребенок. И в конце концов ребенок отрекается от этого желания,
отрицает его. Примерно такую картину всеобщей неопределенно-сти и намеков,
замешанных на Verneinung'e, мы видим и в романе Достоевского. Достаточно
вспомнить, напри-мер, следующую знаменитую сцену:
'- Я одно только знаю, - все так же почти шепо-том проговорил Алеша. -
Убил отца не ты.
- 'Не ты'! Что такое не ты? -
остолбенел Иван.
- Не ты убил отца, не ты! - твердо повторил Алеша.
С полминуты
длилось молчание.
- Да я и сам знаю, что не я, ты бредишь? - бледно и искривленно
усмехнувшись, проговорил Иван. Он как бы впился глазами в Алешу. Оба опять
стояли у фонаря.
- Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты.
- Когда я говорил?.. Я в Москве был... Когда я гово-рил? - совсем
потерянно пролепетал Иван.
- Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные
два месяца, - по-прежнему тихо и раздельно продолжал Алеша. Но говорил он уже
как бы вне себя, как бы не своею волей, повинуясь какому -
359
то непреодолимому велению. - Ты
обвинял себя и признавался себе, что убийца никто, как ты. Но убил не ты, ты
ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, не ты!'
В этой сцене
демонстрируется утверждение через отрицание, то есть Verneinung. Неудача
речевого акта Алексея Карамазова заключается в том, что говорить человеку, что
не он сделал что-либо, можно только, под-разумевая, что он это и сделал потому,
что в противном случае не имеет смысла говорить об этом вообще. Как ребенок,
которого застигают на месте 'преступления', обычно говорит: 'Это не я сделал',
что означает в сущ-ности первый шаг к признанию того, что это сделал именно он.
Как в сцене между Раскольниковым и Порфирием Петровичем, когда Порфирий впервые
напря-мую обвиняет его в убийстве старушки. Раскольников реагирует словами 'Это
не я убил', что является пре-людией к дальнейшему признанию и покаянию.
В процитированной же сцене смысл речевого акта Алеши Карамазова,
учитывая то, что говорилось выше о том, что все братья причастны к убийству
отца, состо-ит в том, что он своим обращением-в-отрицании в сущ-ности не больше
и не меньше, как признается в своем собственном соучастии в убийстве отца.
Потому что ведь что может означать, что отца убил 'не ты'? Не ты, потому что
тебе и так плохо, и не Смердяков, он просто (твой) инструмент, и не брат
Дмитрий, он слишком глуп. Тогда кто же остается? Я. Потому что я слишком
добренький и на меня (кроме Шерлока Холмса) никто не подумает.
Сравним это с гораздо более прозрачной сценой по-сещения Иваном
Смердякова, когда последний демон-стрирует, как будто пародируя предшествующую
встре-
360
чу с братом Алексеем, откровенный
ход - вначале от-рицание, но тут же вслед за ним утверждение:
'- Говорю вам,
нечего вам бояться. Ничего на вас не покажу, нет улик. Ишь руки трясутся. С
чего у вас пальцы-то ходят? Идите домой, не вы убили.
Иван вздрогнул,
ему вспомнился Алеша.
- Я знаю, что не я... - пролепетал было он.
- Зна-е-те? - опять подхватил Смердяков. [...]
- ан вот вы-то и убили,
коль так, - яростно про-шептал он ему'.
Если бы мы
преподавали в школе малолетних психо-аналитиков, мы бы рассказали эту историю
так. Жили-были четыре брата. У них был Эдипов комплекс. Все они хотели убить
своего папу, но не знали, как это сделать. Самый глупый брат Дмитрий просто
набросился на папу и стал его избивать. Его посадили в тюрьму. Самый соци-ально
неполноценный брат Смердяков страдал от эпи-лепсии, что бывает, если детки
неправильно переносят комплекс кастрации. Вот он и упал в погреб, а самому
умному брату Иванушке, сказал, что это он папу замо-чил. Думал-думал брат
Иванушка, и тут у него оконча-тельно полетела цепочка означающих и совсем
съехала крыша. И сошел Иванушка с ума. А самый хитрый брат Алексей Федорович и
в тюрьму не попал, и с ума не со-шел, и не повесился, а спокойно дожил до
генитальной фазы, женился на Лизе Хохлаковой, но, как это обычно и бывает у
интеллигентных людей, старые комплексы ожи-ли, он стал революционером и завалил
царя-батюшку. Так кто же убил отца, дети? Правильно, вы и убили-с. Но не менее
интересна ситуация, состоящая в том, что сам ребенок, находящийся в Эдиповой
стадии, не
361
сознает этого и тем самым
отрицает ее, придумывая взамен нелепые истории про жирафов, как пятилетний Ганс
из знаменитой статьи [Фрейд 1990],
в которых мо-делирует непонятные ему самому влечения. Но именно потому, что
отрицание - это первая и главная стадия на пути к принятию чего бы то ни было,
мы вообще можем отмечать такие вещи, какие аналитик замечает в своей практике у
невротиков, или такие, которые мы отмеча-ем в художественных произведениях.
Если бы невротик или писатель не отрицали бы этих 'ужасных вещей', мы бы не
смогли их зафиксировать. (Аналогичным об-разом, когда взрослый человек
отрицает, отвергает пси-хоанализ, выражая твердую убежденность, что не верит в
него, это, по всей видимости, означает, что он-то ско-рее всего больше других в
нем нуждается.)
Если же мы возьмем ситуацию
самого царя Эдипа, как она описана Софоклом, то можно задать вопрос, имеется ли
здесь Verneinung? Мы безусловно можем сказать, что следующие два предложения
правильно от-ражают положение дел, которое имело место до развяз-ки трагедии
Эдипа:
(1) Эдип не знал, что человек, которого
он убил на дороге, и был его отец.
(2) Эдип не знал, что царица Фив Иокаста,
на кото-рой он женился, и есть его мать.
Можно ли
сказать, что Эдип отрицал эти утвержде-ния? Эксплицитно он их не отрицал. У
него не было по-вода их отрицать. Но если бы у него спросили, знает ли он, что
человек, которого он убил на дороге, был его отец, а Иокаста его мать, он бы
отрицал не только свое знание, но и само содержание этих высказываний. В сущности,
дальнейшее узнавание страшной правды и
362
выкалывание
себе глаз (закономерная с точки зрения психоанализа смена Эдипова комплекса
комплексом ка-страции) и было заменой отрицания, представленного в форме
неведения, утверждением, являющимся в форме знания.
Можно высказать предположение, в
соответствии с ко-торым в основе всякого художественного и бытового сюжета, то
есть в основе любой интриги как смены по-лярных модальностей (неведения -
знания, запрещен-ного - должного, дурного - хорошего, невозможно-го -
необходимого, прошлого - будущего, здесь - ни-где) (см. раздел
'Повествовательные миры'), лежит Verneinung. Предположение это будет выглядеть
тем ме-нее рискованным, чем скорее мы вспомним, что сам Фрейд, а за ним его
комментатор Жан Ипполит считали, что Verneinung - основа всякого мышления.
В основе любой рассказываемой
истории (story, но возможно, что и history) лежит некий отказ: в сказке это
отказ не нарушать запрет, в трагедии отказ верить тому, что очевидно, в комедии
отказ признать в переодетой девушке своего сына, в романе - впрочем, роман уже
сам по себе настолько психоаналитический жанр, что вряд ли имеет смысл на нем
останавливаться. Первый же из известных романов - 'Дафнис и Хлоя' - по-строен
на отказе понимать различие между полами и на дальнейшем мучительном принятии
этого различия. Интересно, что отрицание играет большую роль в по-эзии. Сама
фигура отказа 'Нет, я не...' или просто 'Я не...' представляет собой locus
communis начала лири-ческого стихотворения.
Нет, я не
Байрон, я другой...
Нет, нет,
напрасны ваши пени...
Нет, нет, не
должен я, не смею, не могу...
363
Нет, никогда
средь бурных дней... Нет, поздно, милый друг, узнал я наслажденье... Нет, я не
дорожу мятежным наслажденьем... Нет, я не льстец, когда царю... Нет, не тебя так
пылко я люблю... Нет, не могу я видеть вас... Я не ценю красот природы... Я не
ищу гармонии в природе... Я не увижу знаменитой Федры... Нет, никогда ничей я
не был современник... Я тебя никогда не увижу... Я не искал в цветущие
мгновенья... Я не поклонник радости предвзятой... Я не хочу средь юношей
тепличных... Я не люблю жестокой бани... Нет, все-таки у них там нет... Я не
хочу в угоду русским...
(Примеры из
Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Забо-лоцкого, Мандельштама и Пригова.)
Почти
в каждом из этих примеров обнаруживается в той или иной мере эксплицитности
фигура речи, в со-ответствии с которой то, что вначале отрицается, потом не
просто утверждается, но в детальнейших подробно-стях, или скорее то, о чем поэт
вроде бы даже и гово-рить не хочет, об этом он именно и говорит. В наиболее
явном виде это содержится в стихотворении 'Я не уви-жу знаменитой Федры...'.
После данного заявления по-эт объясняет, как именно он ее не увидит - 'с прокоп-ченной
высокой галереи / При свете оплывающих све-чей', он не услышит 'обращенный к
рампе / Двойною рифмой оперенный стих / 'Как эти покрывала мне по-стылы...' и
так далее.
364
Поэзия имеет две особенности в
ряду других художе-ственных родов и жанров. Во-первых, она неглубока,
во-вторых, она гораздо ближе к обыденной речи, чем, на-пример, художественная
проза. Первое не нуждается в доказательстве, второе мы пытались обосновать в [Руд-нев 1996Ь].
Благодаря этому второму свойству поэзия повторяет обычный прием
полубытовой-полуторжест-венной риторики Verneinung'a, когда говорится 'Об этом
мы говорить не будем', а затем говорится именно об этом. Нечто вроде 'Мы уже не
будем говорить о том, что NN совершил то-то и то-то (далее подробно говорится о
том, что совершил NN), и уж тем более не станем рас-пространяться о тех
замечательных книгах, которые на-писал NN (далее идет подробнейший рассказ о
каждой книге, написанной NN), и т. д.'. Здесь Verneinung прояв-ляется на таком
мелководье, что мы не станем анализи-ровать этот материал, а лучше вернемся к
Эдипову ком-плексу и зададим такой вопрос: всякое ли отрицание ав-томатически
представляет собой Verneinung? Предположим, кому-то говорят:
- Я сегодня в метро видел твою мать с молодым незнакомым
мужчиной. На что следует ответ:
- Ты ошибся, это не могла быть моя мать! Сравним это с
другим обменом репликами, когда один говорит:
- Я сегодня был в кино с твоей матерью. А другой ему
отвечает:
- Это не могла быть моя мать, она весь день была дома.
И в первом, и
во втором случаях возможна ошибка (тот, кто говорил, что видел мать в метро,
мог обознать-
365
ся; наоборот, во втором случае
ошибиться мог сын - мать могла делать вид, что смотрит в спальне телевизор, а
сама улизнула в кино - зарождение детективной ин-триги). В первом случае -
классическое отрицание, кроющееся в нежелании допустить возможность, что мать
была где-то с молодым мужчиной. Это отрицание опирается не на факты, но лишь на
эмоции. Это и есть фрейдовское отрицание-отбрасывание, построенное на ревности
к матери. Во втором случае отрицание опира-ется на факты. Но велика ли цена этим
фактам? Не есть ли они, эти факты, просто желание сына, чтобы мать была всегда
рядом, была дома? Не принимает ли сын, подобно любому невротику, желаемое за
действитель-ное, воображаемое за реальное?
Ведь каждый невротик отрицает
реальность в пользу воображаемого, поэтому чаще всего именно невротик, то есть
человек, не уверенный в себе, дефензивный, 'за-комплексованный', и говорит: 'Не
знаю'. Человек, уве-ренный в себе, авторитарный или истерический скорее
что-нибудь придумает в ответ на какой-либо вопрос, чем скажет: 'Не знаю'. Есть,
правда, одно исключение, ситуация, при которой уверенный человек скорее отве-тит
отрицанием, а невротичный не решится на отрица-ние. Это тот случай, когда нас
спрашивают нечто вроде 'Ну ты, разумеется, видел этот знаменитый фильм?'. В
этом случае невротик скорее кивнет, а 'Нет, не видел' ответит человек,
уверенный в себе. Но в ответе невро-тика все равно скрывается отрицание,
отречение от правды по принципу: 'Я не могу признаться в своем не-вежестве, я
буду отрицать свое невежество'. Невротики всегда чего-то не могут, чего-то не
хотят, через что-то не в состоянии перешагнуть и т. д. и т. п. Поэтому невро-тик
должен пройти порой через целый каскад отрица-ний, прежде чем что-то примет.
366
Таким образом, очевидно, что на
вопрос, бывает ли отрицание, которое не является Verneinung'ом, нельзя ответить
в отрыве от контекста (в духе виттенштейновских теорий языковых игр и значения
как употребле-ния). Допустим, я говорю: 'Я никогда не был в Пари-же'.
Предположим, что это правда. Ну и что с того? Оп-ределить, является ли это
отрицание Verneinung'ом, можно только в зависимости от того, что это за разго-вор,
что за 'базар' и как он пойдет дальше. Допустим, дальше меня спрашивают: 'А в
Мюнхене тебе доводи-лось бывать?' 'Нет, не доводилось и в Мюнхене'. Да-лее
пытливый собеседник выясняет, что я не бывал ни в Нью-Йорке, ни в Бремене, ни в
Эдинбурге, что я вооб-ще никогда не бывал за границей. Конечно, в этом слу-чае
мои ответы представляют собой Verneinung. Я как бы отбрасываю от себя идею поездки
за границу, негативистски оставаясь на
одном месте.
Но попробуем
представить себе менее тривиальную ситуацию, когда ответ 'Я никогда не бывал в
Париже' не является явным
Verneinung'ом. Допустим, я говорю:
'Нет, я никогда не бывал в
Париже, но я так мечтаю об этом!' Здесь я не скрываю своего сожаления о том,
что никогда не бывал в Париже, и, возможно, с гордостью прибавлю, что зато я
бывал в Лондоне и в Вене.
Является ли в этом случае мой
ответ Verneinung'ом? В определенном смысле все же 'Да'. Здесь скрытым
утверждением является то, что в своих фантазиях я дав-но был в Париже, но в
реальности не могу туда поехать (из-за отсутствия денег, времени, здоровья и т.
п.).
А если человек утверждает, что он
никогда не был в Париже, в то время как на самом деле он там неодно-кратно
бывал? Как соотносится Verneinung с ситуацией лжи и обмана? Допустим, этот
человек не хочет, чтобы другие знали о том, что он был в Париже, из-за того,
что
367
пребывание в Париже было у этого
человека связано с какими-то преступными махинациями.
Здесь
вспоминается типовой разговор на уроке меж-ду учительницей и
бездельником-учеником.
Учительница: Сидоров! Ученик: Что? Я ничего не делаю.
Учительница: Вот это-то и плохо, что ты ничего не делаешь.
Ученик отрицал
наличие каких-то дурных действий со своей стороны, но благодаря оборотническому
дейст-вию отрицания он на самом деле подтвердил лишь от-сутствие каких-либо
позитивных действий.
Когда человек,
'наследивший' в Париже, говорит, что он там вовсе не был, он как бы говорит: 'Я
ничего не делаю'. Что означает: 'Я-таки был в Париже и про-вернул там хорошее
дельце'.
Таким образом,
Verneinung выступает и как своеоб-разный детектор лжи, от которого не уйдешь,
как ни ста-райся. Единственная возможность - это вообще не от-крывать рта. Но
там, где нет речи, нет и психоанализа.
В заключение
рассмотрим особую обращенную фор-му отрицания, которая до такой степени
является вопло-щением сути Verneinung'a, что, кажется, отрицает его самое.
Рассмотрим следующие примеры.
В конце первого
тома 'Войны и мира', после того, как Наташа Ростова зарекомендовала себя, по
понятиям автора, как последняя шлюха, Пьер Безухов, утешая ее, употребляет
следующий оборот:
'Если
бы я был не я, а красивейший и достойней-ший, то на коленях просил бы руки
вашей'.
368
Здесь налицо обращенное
отрицание, которое оста-ется в пресуппозиции: 'Я не достойнейший и не краси-вейший,
поэтому не могу просить руки вашей'. Налицо здесь также Verneinung - на самом
деле Пьер хочет просить ее руки. И самое главное, что впоследствии это
обращенное отрицание превращается в прямое утверж-дение - Пьер в конце романа
действительно просит ру-ки Наташи, и они становятся мужем и женой. Это ред-кий
случай счастливого Verneinung'a.
Следующий
пример, построенный по такой же ри-торической схеме, - начало сказки Пушкина о
царе Салтане:
Три девицы под окном Пряли поздно вечерком. 'Кабы я была
царица, - Говорит одна девица, - То на весь крещеный мир Приготовила б я пир'.
'Кабы я была царица, - Говорит ее сестрица, - То на весь бы мир одна Наткала я
полотна'. 'Кабы я была царица, - Третья молвила сестрица, - Я б для
батюшки-царя Родила богатыря'.
В отличие от
Наташи Ростовой у царя, который, как известно, подслушивал этот обмен
репликами, был вы-бор. По сути здесь не что иное, как брачный тест: 'Что бы ты
сделала, если бы была царицей?' Но в пресуппо-зиции все то же отрицание: 'Я -
не царица'. Естест-венно, царь выбирает девушку, которая обещает родить
богатыря, и отрицание переходит в утверждение.
369
Третий пример
- самый трудный. Он тоже из Пуш-кина - маленькая трагедия 'Каменный гость'.
Когда Дона Анна (разговор происходит неподалеку от места захоронения Дона
Альвара - Командора) в ответ на слова Дон Гуана, что он хочет умереть, а она
будет топ-тать ногами уже место его захоронения, говорит: 'Вы не в своем уме'.
Дон Гуан отвечает следующее:
Иль желать Кончины, Дона Анна, знак
безумства? Когда б я был безумец, я б хотел В живых остаться, я б имел надежду
Любовью нежной тронуть ваше сердце;
Когда б я был безумец, я бы ночи Стал провождать у вашего
балкона, Тревожа серенадами ваш сон, Не стал бы я скрываться, я напротив
Старался быть везде б замечен вами;
Когда б я был безумец, я б не стал Страдать в безмолвии...
Здесь
опять-таки обращенное отрицание: 'Я не безу-мец, потому что вместо всего
перечисленного я предпо-читаю, чтобы вы затаптывали место моего захоронения'. И
так же, как в двух предыдущих случаях, отрицание оборачивается утверждением
очень скоро, правда, в от-личие от этих случаев, чрезвычайно трагически. В
том-то и дело, что Дон Гуан действительно безумец, психотик, приглашающий
статую в гости (разве нормальный чело-век может так поступить?), более того,
статуя соглашает-ся прийти к нему в гости и, более того, действительно приходит
(разворачивание психотического бреда). Как убедительно показал И. Д. Ермаков,
все эти печальные и отчасти сверхъестественные события произошли оттого, что
любовь Дон Гуана к Доне Анне носила безусловный
370
инцестуальный характер, поскольку
Командор воплоща-ет мертвого Отца (предваряя Лакана, Ермаков называет статую
Командора 'imago отца'; подробнее о Ермакове и Лакане см. [Кацис-Руднев,
1999]), а Дона Анна
соответ-ственно мать [Ермаков 1999]. Выбирая жизнь и Дону Ан-ну,
Дон Гуан как психотик, зачеркивающий жизнь (отри-цающий реальность),
закономерно получает смерть. То есть его просьба о смерти искренна.
Но ведь любой психотик найдет вам
тысячу доводов, весьма убедительных и логичных, что он не сумасшед-ший. Дон
Гуан же поступает в соответствии с установ-ками Виктора Франкла, который
советовал обсессивному пациенту, беспрестанно мывшему руки, помыть их еще раз.
Раз налицо психотические симптомы, надо их усилить:
Статуя.
Брось ее,
Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан.
Дон Гуан.
Я? нет. Я звал тебя и рад, что вижу.
('Дрожал ли он? О нет, о нет!').
Обретая
свое бытие-к-смерти, Дон Гуан теряет Дону Анну, но зато в смертной истине
избывает свое безумие.
И еще один
пример оттуда же. (Вообще этот оборот пронизывает всю трагедию.)
Когда б я вас обманывать хотел, Признался ль я, сказал ли
я то имя, Которого не можете вы слышать? Где ж видно тут обдуманность,
коварство?
Пресуппозиция -
'Я не хотел вас обманывать, пото-му что в противном случае, я не открыл бы, что
я и есть убийца вашего мужа Дон Гуан'. На самом деле, конеч-
371
но, он именно хотел обманывать,
во всяком случае, 'пу-дрить мозги', только наиболее утонченным способом. И Дона
Анна это понимает, недаром в ответ на этот мо-нолог она задумчиво говорит: 'Кто
знает вас?' Есть та-кое психологическое правило, в соответствии с которым самым
надежным видом вранья является правда. Имен-но этим правилом воспользовался
сумасшедший Дон Гуан со своем психозом и со своим влечением к смерти, Дон Гуан,
которому надоело, что вокруг его любовниц умирают другие мужчины (Дон Альвар,
Дон Карлос), теперь он сам хочет попробовать сыграть в русскую ру-летку. И в
этой игре 'ужасная, убийственная тайна' действительно становится главным
козырем. Что толку, если бы он завладел Доной Анной под именем какого-то там
Дона Диего де Кальвадо! Ну, еще одна. А тут пришла ему охота потягаться с
собственными галлюци-нациями, 'до полной гибели всерьез'. Ведь характерно, что
психотик в отличие от невротика очень уважает правду. И иногда эта правда даже
совпадает с реальнос-тью, но не тогда, когда вы приглашаете статую постоять на
часах у ее собственного дома, а когда вы открываете своей возлюбленной
'ужасную, убийственную тайну', при этом в общем приблизительно представляя, чем
все это может кончиться.
Чтобы
не заканчивать на мрачной ноте, приведем в качестве последнего примера
обращенного отрицания стихотворение Державина 'Шуточное желание':
Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках,
--Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
На моих сидеть ветвях.
372
Пусть сидели бы и пели,
Вили гнезда и свистели,
Выводили и птенъцов;
Никогда б я не сгибался, -
Вечно ими любовался,
Был счастливей всех сучков.
Комментарии,
конечно, излишни.
Констатируя безусловный
эротический характер всех приведенных в этой главке примеров, можно было бы
сказать, что шило Verneinung'a не утаишь в мешке ника-ких деепричастных
оборотов. И если вы хотите что-то скрыть, то ни в коем случае не отрицайте
этого, лучше вообще молчите. Молчание на допросе - гораздо более успешная
тактика, чем тотальное отрицание, - всегда найдется ушлый следователь,
проучившийся три года в Институте психоанализа, который в два счета поймает вас
на Verneinung'e.
Ибо последовательное отрицание
всех пропозиций приводит только к утверждению наиболее общей фор-мы пропозиции [Витгенштейн
1958].
1.
Агату Кристи исключили из клуба детективных писателей, возможно, за ее лучший
роман - 'Убийство Роджера Экройда'. В этом романе убийцей оказывается сам
рассказчик, доктор Шепард. Но рассказчик строит свое описание событий так,
чтобы оправдать себя и за-мести следы, то есть так, как будто он не знает (как
не знает этого до самого конца и читатель), кто убийца. Эркюль Пуаро
догадывается о том, каково истинное поло-жение вещей, и доктору Шепарду
приходится заканчи-вать свою рукопись (совпадающую с романом) призна-нием, что
он сам совершил убийство.
2. При этом
можно сказать, что в начале своего рас-сказа доктор в определенном смысле
действительно не знает, что он убийца. Конечно, не в том смысле, что он,
например, совершил убийство в бессознательном со-стоянии. Нет, он убил вполне
осознанно и начал пи-сать свою рукопись с тем, чтобы замести следы. Но он начал
писать ее так, как писал бы ее человек, который действительно не знает, кто
убийца. Именно в этом смысле можно сказать, что он, находясь в своем амп-луа
рассказчика, в начале своего повествования не зна-ет, что он убийца. В этом
смысл его повествования, его цель. И в этом феноменологическая загадка этого по-вествования.
3. Если бы
была фабула, то есть если бы то, что на-зывают фабулой, соответствовало бы
некой дискурсив-
374
ной реальности, то можно было бы
сказать, что рассказ-чик доктор Шепард, прекрасно зная, что он убийца, строит
свою стратегию рассказчика на том, что он лжи-во исходит из установки, что он
не знает, кто убийца. Но с феноменологической точки зрения до тех пор, пока
читатель не дойдет до конца рукописи (= романа), он не узнает, что это обман, и
поэтому этот дискурс имеет смысл только при том условии, что внутри него
рассказ-чик ведет себя так, как будто он не знает, кто убийца, и узнает о том,
что убийца он сам, только к концу расска-за, убежденный доводами Пуаро.
4. Почему
фабульная точка зрения бессмысленна, в частности в данном случае? Потому что
она выстраи-вает схему совершенно другого повествования: рас-сказа о том, как
доктор Шепард пытался обмануть следствие. И читатели, зная об этом, следят за
ходом его уловок.
5. Но нельзя
строить схему рассказчика, исходя при этом из схемы не его рассказа. Рассказ
задуман докто-ром Шепардом для того, чтобы убедить следствие в сво-ей
невиновности. И в этом качестве (в качестве рассказ-чика) он выступает как
невиновный, во всяком случае, не как виновный. Феноменологический смысл
рассказа состоит, как кажется, в том - ив том смысле Агату Кристи правильно
выгнали из клуба, - что рассказчик по ходу действия узнает, что убийцей
оказывается он сам. Рассказчику приходится на ходу перестраивать тип своего
повествования. Теперь он косвенно признает, что всегда знал, что он убийца. Но
тем не менее он не был рассказчиком-убийцей.
6. В литературе все делается для читателя. Если ис-ходить из этого, то
феноменологический смысл повест-вования состоит в том, что читатель, поскольку
он до-вольно естественным образом отождествляет себя с
375
рассказчиком,
читатель, так сказать a priori находящий-ся на стороне рассказчика, как будто
узнает, что он - читатель - и есть убийца. Это довольно сильный прагматический
шок или, если угодно, прагматическое озарение: 'Я был на его стороне, на
протяжении всего повествования я думал его мыслями, всей душой был с ним, он же
сам оказался убийцей. Вернее, он заявля-ет о себе нечто вроде - "да, мне
приходится признать, что я убийца", - и мы видим, что он все время обма-нывал
нас, и поэтому это ощущение тождества с ним равносильно по меньшей мере тайному
соучастию в его преступлении. Но доктор Шепард не обманывал нас, в его планы не
входило обманывать нас. Он лишь пытался обмануть себя самого, свою
субъективность. Поэтому здесь возникает странное трагическое ощуще-ние
прагмасемантической фрустрации: "Я (читатель) пытался обмануть себя, но
теперь я понимаю, что это мне не удалось, и поэтому на самом деле я (читатель)
- убийца"'.
7. Именно за
это исключили Агату Кристи: читатель не должен чувствовать себя убийцей, это
выходит за рамки детективного жанра. Но теперь уже ничего не по-делаешь. Это
осознание себя убийцей вдруг оказалось одним из самых потаенных и потому
фундаментальных экзистенциальных переживаний. Смысл отсутствия фа-булы, смысл
феноменологической оболочки мира в том, что меня можно убедить в том, что я
убийца. И тогда уже трудно разубедить в обратном.
8. Итак, под
воздействием какого-то знания или да-же, можно сказать, под воздействием
некоего эстетиче-ского внушения я вдруг начинаю осознавать, что истина состоит
в том, что я - убийца.
9. [...]
376
10. Просто в
одно прекрасное утро я просыпаюсь и понимаю, что я убийца. Что именно в этом
состоит ис-тина. Или глубокой ночью, прочитав роман Агаты Кри-сти, я вдруг
понимаю, меня охватывает ужас нового оза-рения, смысл которого в том, что я
убийца. При этом я не узнал о себе ничего нового, никаких новых фактов. Нельзя
даже сказать, что я узнал, что всегда был убий-цей или начиная с какого-то
времени. Нет, я чувствую, что истина состоит в том, что я сейчас понял, что я
убийца. В моем случае все гораздо сложнее. Я просто почему-то понимаю, что я убийца.
Может быть, даже не важно, кого я убил и когда. Важно, что это понимание пришло
ко мне. Оно может уйти, развеяться при свете дня, но оно может и остаться. Нет,
я не сошел с ума. Просто я, привыкший вести дискурс своей жизни от первого
лица, вдруг обнаруживаю, что здесь как-то не все в порядке. Что дело не
сводится к простой последо-вательности фактов. Конечно, я давно подозревал, что
так называемое линейное развертывание моей жизни есть только поверхностная
сторона дела. Что то, каким образом я живу, имеет нелинейный и системный харак-тер.
И что наивно думать, что я понимал или буду пони-мать все узлы этой системы.
11. Так кого
же я убил? Я не знаю этого. И не чувст-во вины или отчаяния за совершенное
преступление на-чинает преследовать меня, но возникает некое странное чувство
ответственности. Самое важное в этом опыте то, что я чувствую, что мое
осознание себя убийцей в каком-то фундаментальном смысле, так сказать, 'ста-вит
все на места', что-то достраивает, ранее мне не сов-сем понятное.
12. Я же, по-видимому,
не до конца вкладывал пра-вильный смысл в понимание того, что значит быть 'я',
своих прагматических перспектив и возможностей. Я,
377
в частности, не предполагал, что
так бывает, что снача-ла тебе ничего не известно, а потом ты вдруг понима-ешь,
что ты убийца, и это понимание каким-то стран-ным образом достраивает твою
картину мира. 'Ах вот оно что, - думаешь ты, - теперь это мне гораздо яс-нее'.
Хотя тайна, конечно, лишь приоткрывается, поз-воляет, так сказать, лишь
заглянуть на себя в щелку. И конечно, я вообще могу забыть про это понимание.
Но если я не забыл его сразу, как мимолетный сон, то я не могу не придать ему
никакого значения.
13. Можно
сказать: просто я анализирую состояние человека, которому вдруг неизвестно
почему взбрело в голову, что он убийца. Но это не так. Нет, это я анализи-рую
свое состояние, когда мне внезапно взбрело в голо-ву, что я убийца. И также
нельзя сказать: я представляю себе, что я убийца. Или: что, если я кого-то
убью? Убил, убью или убил бы при определенных обстоятельствах (в другом
воплощении; в альтернативном возможном мире). Все это здесь несущественно.
Фактом этого 'са-мораскрытия' я вообще зачеркиваю значимость каких-либо
последовательностей и модальностей. В этот миг я переживаю жизнь как целостную
систему. После чего я могу, если захочу, каким-то образом попытаться объяс-нить
свои поступки, которые раньше мне были не впол-не понятны.
14. Как если
бы вдруг человек понял, что он негр. Он, возможно, подумал бы тогда: 'Ах вот
откуда моя любовь к джазу', - или что-нибудь в этом роде. И это совсем не то,
как если бы ему сказали, что на самом де-ле он незаконный сын Нельсона Манделы.
Нет, просто негр. И я не узнал об этом, я скорее именно понял это. Может быть,
это и не так на самом деле, но мне почему-то сейчас кажется, что это так.
378
15. Есть
детское правило при чтении беллетристики:
если рассказ ведется от первого
лица, то, значит, герой в конце останется жив. Это правило можно как-то кос-венно
обойти, но нарушить его напрямик довольно трудно. Как если бы я сказал: что с
того, что я веду рас-сказ от первого лица, все равно я погибну. Но конец мо-его
рассказа не может совпасть с моей смертью. Я мо-гу, конечно, написать: 'Я умер
такого-то числа в три часа дня', но это будет так или иначе просто пошлый трюк.
16. С
убийством дело обстоит иначе. Здесь никогда нельзя быть до конца уверенным.
Помню, как я обрадо-вался, когда узнал, что И. Анненский и Л. Шестов счи-тали,
что Раскольников на самом деле не убивал стару-ху, что все это было лишь
наваждение, а потом следова-тель просто спровоцировал его, поймал на пушку.
Ведь когда Раскольников спрашивает: 'Так кто же убил?', то нельзя сказать, что
он спрашивает неискренне.
17. Точно так
же у меня всегда вызывала какое-то со-мнительное ощущение развязка романа
'Братья Карама-зовы': что убил Смердяков. Меня это подспудно никог-да не
удовлетворяло. Ведь кроме свидетельства почти помешанного Смердякова совсем
помешанному Ивану Карамазову, после чего первый покончил с собой, а вто-рой
окончательно сошел с ума, ничего нет. Вероятно, правильнее сказать, что в
'Братьях Карамазовых' оста-лось неизвестным, кто убил Федора Павловича. Конеч-но,
принятие такого решения во многом разрушает тра-диционные представления о том,
как устроена прагмасемантика художественного текста в XIX веке. И если
Анненский и Шестов почти наверняка согласились бы со мной, то ни один критик
XIX века, даже самый умный (например, Н. Н. Страхов или Константин Леонтьев),
просто не понял бы, о чем идет речь.
379
18. Так же как
в случае с 'Братьями Карамазовыми', у меня появилось ощущение
удовлетворенности. В том случае это была удовлетворенность от понимания того,
что не обязательно отца убил Смердяков. В моем случае осознания себя убийцей я
почувствовал удовлетворе-ние, как если бы я стал лучше понимать, что я собой
представляю и что собой представляет жизнь вокруг меня, мир, в котором я живу.
Конечно, для описания этого опыта не хватает соответствующей языковой при-вычки.
Например, я могу сказать, что я понял 'прагма-тическую неоднозначность
субъекта' или что 'расши-рились границы моего понимания своего сознания', но
это, конечно, совсем не будет отражать сути того, что я пережил.
19. Можно
сказать, что описываемый опыт вообще не имеет никакого отношения к
эпистемическому; что я не узнал чего-либо, мне не была сообщена какая-то информация.
И также неверно было бы сказать, что я 'отождествил себя' с убийцей. Я
безусловно нечто по-нял, нечто важное, может быть, даже самое важное за всю
свою жизнь.
20. Пожалуй, я
могу сказать, что я, возможно, уловил какую-то мельчайшую частицу 'нового
мышления'. То есть я хочу сказать, что, может быть, когда-нибудь выра-жение
'осознать себя убийцей' будет таким же обыден-ным, какими сейчас являются
выражения вроде 'ком-плекс неполноценности' или 'контрперенос'.
21. [...]
22. Вот,
пожалуй, неотъемлемая черта, присущая то-му переживанию, действительно во
многом определяю-щая мое самоощущение последнего времени: 'Со мной может
случиться все что угодно'.
23. Можно было
бы сказать, что такое переживание близко к переживанию сновидения. Действительно,
380
'все что угодно' случается прежде
всего во сне. Правда также и то, что именно во сне опыт осознания себя убийцей
наиболее естествен и правдоподобен. Однако, как правило, переживание себя
убийцей в сновидении связано либо с чувством резиньяции, либо, наоборот, с
агрессивной жаждой деструктивности. В своем опыте я не чувствовал ни раскаянья,
ни жажды крови, ни жела-ния скрыться. Наоборот, скорее мне показалось на мгно-венье,
что мне открылось нечто важное, и я испытал при этом даже нечто вроде чувства
торжества, во всяком слу-чае, удовлетворения.
24. Такого
рода удовлетворение мог бы испытать че-ловек, который окончательно понял, что у
него смер-тельная болезнь. Здесь нет места чувству раскаянья или попыткам
убежать, но зато, как можно предполо-жить, может быть такое чувство, что в
определенном смысле все стало на свои места, все разъяснено, точки над i
расставлены. Смертельно больной отныне чувст-вует некий позитивный груз
ответственности перед не-избежной и близкой смертью, в то время как ответст-венность
перед жизнью, так долго тяготившая его, те-перь неактуальна.
25. Так же и в
моем переживании первым был не ужас и не раскаяние, а нечто вроде того, что
теперь можно наконец перестать думать о карьере, об амбици-ях и следует
готовить себя к чему-то значительному. К некой таинственной, находящейся за
пределами обы-денной жизни ответственности.
26. Кроме
того, согласившись, что описываемый опыт в чем-то был сродни обычному опыту
сновиде-ния, следовало бы как-то указать на то, что если уж воспринимать этот
опыт хотя бы отчасти и косвенно в свете некой новой парадигмальности, то и
понимание феномена сновидения также должно быть соответст-
381
венным образом изменено в свете
этой новой парадигмальности. К сновидению здесь уже нельзя относиться как к субституту
чего-либо, как к чему-либо по преиму-ществу символическому. К сновидению в
данном слу-чае уместно было бы отнестись как к непосредственно-му опыту, как,
например, к опыту созерцания незнако-мой местности.
27. Так, мне теперь кажется, что
если мне приснилось, скажем, что я пролезаю в узкую трубу, то совершенно
бессмысленно рассуждать, что это субститут полового акта или метафора 'тесных
врат познания'. Рассуждать так в данном случае - все равно что исследовать
совре-менную литературу методами Проппа и Шкловского. В определенном смысле это
все равно, приснилось ли мне, что я убийца, или я это понял наяву, хотя я бы
стал про-тестовать, если бы мой опыт стали называть опытом ми-фологического
снятия оппозиций. Я продолжаю пони-мать, что сон и явь - это разные вещи
(разные жанры). В данном случае их противопоставление просто несуще-ственно.
28. Итак, я думаю, что безусловно
со мной может слу-читься все что угодно. И поэтому если оказывается, что может
случиться и так, что я оказываюсь убийцей, то моя мысль может в этом случае
идти по двум направлениям. Во-первых, например, по направлению того чувства спо-койной
ответственности, которое я уже упомянул. Так сказать, теперь мне понятно, что
делать дальше, хотя что именно, уже другой вопрос. Во-вторых, я, вероятно, мо-гу
подумать так: 'Хорошо, допустим, я действительно убийца, хотя я не знаю, кого,
когда и зачем я убил. Я знал, что со мной может случиться все что угодно. Вот
оно и случилось. Но ведь в этом случае, когда со мной случи-лось нечто из
разряда "всего что угодно", я в определен-ном смысле не обязан больше
жить и думать по тем при-
382
вычным для меня законам мышления,
по которым я жил в преддверии того, что со мной произошло. То есть если мне
вдруг 'ни с того ни с сего' приходит в голову, что я убийца, то либо я (со
своих старых ментальных позиций) отметаю значимость этого опыта, либо пытаюсь
отмести (в определенном смысле должен отмести) эти устарев-шие ментальные
установки.
29. И наверно, одной из таких
установок является, например, та, что если человек - убийца, то он должен
чувствовать раскаяние, угрызения совести, страх нака-зания, желание скрыться,
замести следы и тому подоб-ное. От этого языка старых установок, вероятно, до-вольно
трудно отказаться. Но мне нечего будет делать с этим новым опытом, если я буду
подходить к нему со старыми ментальными мерками. Если я хочу двигаться хоть в
каком-то направлении и попытаться принять этот кажущийся абсурдным опыт, то я
должен отказаться от многого.
30. Например, от того, что 'Я
знаю, что это моя ру-ка'. Возможно, в этом случае пропозиция 'Идет дождь, но я
так не считаю' перестанет быть парадоксом. И мо-жет быть, даже ее можно будет
переименовать из 'пара-докса Мура' в 'закон Мура'.
31. Но пока я не забыл свой 'старый язык' и слова 'я понял, что я
убийца' не потеряли для меня своего шо-кирующего оттенка, встает проблема
генетической свя-зи между тем, что значили эти слова в моем 'старом языке', и
тем, что они должны означать на моем новом языке.
32. Вероятно, следует подумать о том, в какой мере опыт, описываемый
мной, является кафкианским. Прежде всего кафкианский опыт подразумевает, что
происшедший эксцесс не отменяет, а, наоборот, укреп-ляет обыденные логические
связи. Пропорции, может
383
быть, искажаются до
неузнаваемости, но в этих изме-нившихся пропорциях еще яснее проступает логичес-кий
каркас старого мира. В этом суть экспрессионист-ского опыта.
33. В
переживании, которое пытаюсь описать я, не происходит искажения мира, напротив,
на миг начинает казаться, что наконец-то в мире появляется некая ос-мысленность
и структурированность. Появляется ощу-щение, что я понял нечто, чего пока не
понимают дру-гие. И скорее не про меня, а про себя самих.
34. Можно ли
сказать тогда, что то, что я понял или ощутил, есть понимание или ощущение
того, что 'каж-дый человек убийца'? Но, во всяком случае, это не то же самое,
как если бы я открыл у себя какой-то неизве-стный до сих пор орган и на
основании этого делаю за-ключение, что, вероятно, у каждого человека есть такой
орган. В определенном смысле я вообще здесь не делаю никаких заключений.
35. Как если бы я открыл 'бессознательное' и сде-лал бы вывод, что у
всех людей есть (и скорее всего всегда было) 'бессознательное'. В моем опыте
нет ме-ста обобщению, квантификации. Тайна в отличие от за-гадки не
предполагает логического обобщения. Навер-ное, каждый может заглянуть в тайну,
но вся тайна ни-когда не может открыться, сколько бы в нее ни заглядывали. В
этом смысле открытие бессознательно-го не было 'тайным' открытием, оно было
скорее зага-дочным открытием. Что касается тайны, то можно только ждать и
надеяться, что она когда-то откроется целиком (или, наоборот, надеяться, что
этого никогда не произойдет).
36. То, что я понял или почувствовал, не объединяет и не разъединяет
меня с миром. Я не жду на этот счет никаких санкций от мира. Скорее этот опыт
подразуме-
384
вает, что я (вероятнее всего
случайно) заглянул в тай-ную лабораторию изменения мира.
37. И все же если я пока
употребляю какие-то слова, я должен попытаться разобраться, соотносится ли хоть
как-то их значение с тем значением, которое, так ска-зать, было у них раньше. И
если 'быть убийцей' в мо-ем смысле не имеет ничего общего с выражением 'быть
убийцей' в общепринятом смысле, то дальнейшее рас-смотрение смысла этого
выражения вообще вряд ли имело бы смысл.
38. Но ведь я не говорю, что мир
изменился в одно-часье и, стало быть, в одночасье изменилось значение всех
слов. Я рассматриваю слова просто потому, что у меня пока нет другого способа
самопознания.
39. И в этом смысле мой опыт
принадлежит к анали-тическому опыту. Но поскольку я не уверен, что слова в
процессе этого опыта не изменяют своих значений, то вернее будет этот опыт
назвать постаналитическим.
40. И поскольку я не отрицаю, что
осознание чего-либо, выраженное в словах, может повлечь за собой ка-кие-то значимые,
может быть, даже катастрофические социально-психологические последствия, то мой
опыт в широком смысле является частью экзистенциального опыта. Но поскольку я
не знаю, о каких последствиях может идти речь и можно ли их называть
последствия-ми в старом смысле слова, то этот опыт скорее является
постэкзистенциальным.
41. И если экзистенциализм и
аналитическая фило-софия в их классических проявлениях не имели друг к другу
никакого отношения - они говорили на совер-шенно разных языках и, вероятно, не
принимали друг друга всерьез, если вообще подозревали о существова-нии друг
друга, - то в моем случае аналитический опыт, опыт рассмотрения слов,
практически совпадает с
385
экзистенциальным опытом, опытом
внутренних катаст-рофических интенций. Как если бы можно было приве-сти, так
сказать, Витгенштейна и Камю к общему зна-менателю.
42. Но ведь я не говорю, что мне
пришла в голову ги-потеза, что слово 'убийца' или выражение 'быть убий-цей'
применительно ко мне непременно должно изме-нить свое значение. Я вообще не
думал в момент пере-живания этого опыта о том, какие значения имеют или могут
иметь слова или выражения. Разговор о значени-ях не является непосредственной
частью этого опыта. Просто в силу необходимости говорить на более или менее
привычном языке, чтобы быть хотя бы отчасти понятым и хотя бы самим собой, я
пытаюсь разбирать-ся в значениях и, возможно, сталкиваюсь с тем, что те-перь
язык, на котором я привык говорить, скорее всего непригоден.
43. И вообще говоря, я не могу
сказать, что этот опыт заключался в том, что я нечто открыл или меня нечто
осенило. Скорее нечто оказалось другим, не таким или не совсем таким, как я
представлял себе это ранее. Как будто я шел по знакомому коридору и вдруг
увидел со-вершенно незнакомую дверь, а открыв ее, обнаружил совершенно
неизвестную мне комнату. Вероятно, я мог бы тогда подумать: 'Оказывается, здесь
какая-то комна-та'. Может быть, мне показалось тогда, померещилось, что там
есть неизвестная дверь и за ней комната, но в описываемом случае, как уже
говорилось, это не имеет значения. 'Мне померещилось, почудилось, что я убий-ца.
И, может быть, каждый человек - убийца (или часть людей, не считающих себя
убийцами, на самом деле убийцы), но только люди не подозревают об этом'. Тут
избыточны и неуместны слова 'померещилось' или 'почудилось'. Разве можно
сказать: 'Мне померещи-
386
лось, что у меня болит зуб'? Не
будет ли это означать просто, что я почувствовал, может быть, на короткое
мгновение зубную боль, которая сразу прошла? Пере-живание, о котором я говорю,
происходило в каком-то особом режиме, когда 'на самом деле' или 'не на са-мом
деле' не играет никакой роли.
44. Если
человеку приснился страшный сон, то ему продолжает быть страшно и в первые
секунды, когда он уже проснулся. Нечто из сна настигает его.
45. Все это
так, но все-таки не может быть, чтобы я совершенно не представлял себе и не мог
выразить в словах если не само содержание этого опыта, то по крайней мере то,
каким мне виделось тогда это состо-яние, когда я почувствовал или понял, что я
убийца. Что хотя бы приблизительно значило для меня тогда выражение 'быть
убийцей' применительно ко мне? Пожалуй, самым отличительным семантическим ком-понентом
этого состояния было то, что я почувствовал себя не случайным убийцей. То есть,
говоря точнее, это состояние не было тем, не казалось похожим на то, какое мог
бы испытывать человек, который стал убий-цей случайно, по воле обстоятельств,
или даже то, ко-торое испытывал бы человек, который, подобно рас-сказчику
романа Агаты Кристи, совершил обдуманное убийство.
46. В моем случае это было скорее
некое ощущение себя убийцей как моего постоянного состояния или свойства (для
чего даже не обязательно в актуальном смысле совершать убийство), состояния
'быть убий-цей' как чего-то неотъемлемо присущего моей личнос-ти, как моей
прирожденной профессии, призвания или судьбы.
47. Как в даосском мировосприятии
любое призва-ние должно быть оценено имманентно независимо от
387
тех поверхностных
социально-психологических по-следствий, которые с ним связаны. Убийца при таком
понимании должен быть хорошим убийцей, как должен быть хорошим мясник или
актер. И убийца должен вы-полнять свою работу как можно лучше, раз ему уготова-на
такая социальная роль (вероятно, в таком ракурсе наиболее адекватно было бы
рассмотреть, например, фигуру Басаева).
48. Другой признак, который,
может быть, и являет-ся самым главным, хотя я не уверен, присутствовал ли он в
моем опыте в явном виде, - это понимание не-разрывности состояний 'быть
убийцей' и 'быть жерт-вой'. Возможно, именно в этом пункте моих рассужде-ний
кто-то, кого они до этого шокировали, отчасти примирится с ними, и наоборот,
тот, кого заинтригова-ла их необычность, будет в значительной мере разоча-рован.
49. Я сказал, что состояния 'быть
убийцей' и 'быть жертвой' понимались (понимаются) мной как нечто не-разрывное.
Но это неточное утверждение. Прежде всего это не значит вовсе, что я ощущал
(ощутил), что 'быть убийцей' и 'быть жертвой' - это одно и то же. Не оз-начает
это также и того, что одно состояние переходит в другое или что одно может быть
рассмотрено как дру-гое. И в этом смысле, если мой опыт в каком-то важном виде
был сродни кафкианскому опыту, то он в той же мере совершенно противоположен
борхесианскому опыту (я имею в виду, например, идею, что Иуда и Хри-стос - это
одно; и тому подобное); хотя скорее всего он, так сказать, сильно отталкивался
именно от борхе-сианского опыта (а не от кафкианского). Главное отли-чие моего
опыта от борхесианского опыта - в культур-ной редуцированности (в
противоположность культур-ной перенасыщенности борхесианского опыта). Это
388
был, так сказать,
пост-постмодернистский опыт, опыт отказа от культурной опосредованности каждого
ду-шевного движения. Поэтому я с большой неохотой при-вожу здесь культурно
значимые примеры. И в этом смысле роман Агаты Кристи здесь гораздо более умес-тен,
чем, скажем, 'Бхагавадгита'.
50. Возможно,
наиболее точным было бы сказать, что 'быть убийцей' и 'быть жертвой' -
состояния со-знания, находящиеся естественным образом на одной плоскости:
убийца и жертва связаны между собой, как черное и белое, правое и левое, истина
и ложь.
51. При этом
ясно, что ощущение себя жертвой мо-жет быть состоянием длительным и привычным
для многих людей. И в этом смысле ощущение жертвы бо-лее фундаментально. Но
именно в силу своей фунда-ментальности и немаргинальности это состояние созна-ния
философски гораздо менее интересно.
52. Но дело
здесь не в том, что ощутить себя убийцей в каком-то смысле более маргинально,
более смело и от-ветственно, чем ощутить (ощущать) себя жертвой. Воз-можно,
более или менее правильным было бы сказать, что, ощутив себя убийцей, я не то
чтобы перестал ощу-щать себя жертвой, а скорее момент, когда я ощутил се-бя
убийцей, проходил на фоне того, что я ощущал себя жертвой. Тут важно именно
противопоставление аспектуальности (совершенного и несовершенного видов) этих
состояний. Жертвой можно было бы ощущать себя постоянно. Убийцей можно (нужно?)
было ощутить се-бя мгновенно и в то же время внемоментно. Ощущение себя жертвой
может быть аморфным и широким, ощу-щение себя убийцей должно быть острым и
резким, как удар ножа убийцы.
53. И, конечно, важно то, что
ощущение себя жерт-вой социально гораздо более приемлемо, чем ощуще-
389
ние себя убийцей. Жертва
находится в социальном и психологическом смыслах в более благоприятном по-ложении.
Она вправе претендовать на сочувствие. Жертва, несмотря на свою аморфность,
более, так ска-зать, популярна.
54. Лучше
сказать, что убийца и жертва тянутся друг к другу. Они, так сказать, объединены
одним общим де-лом. В каком-то смысле убийца и жертва - такие же партнеры, как
врач и пациент, писатель и читатель. И только убийца может до конца понять
жертву. Они инте-ресны друг другу, актуальны друг для друга. При этом как
только убийца по отношению к жертве перестает быть убийцей, и наоборот, они
теряют интерес друг к Другу.
55. В
определенном смысле можно сказать, что ощу-щение себя убийцей - это прежде
всего ощущение се-бя не-жертвой. Вероятно, для личности, долгое время ощущавшей
себя жертвой (например, просто жертвой обстоятельств), стать просто немаркированным
сред-ним членом этой оппозиции труднее, чем стать марки-рованным
противоположным ее членом. Жертва пере-стает быть жертвой путем бунта - раб
закономерно превращается в насильника и убийцу. Раб не может стать просто
обычным человеком, так как привычка к рабству выработала у него необратимые
порочные уста-новки раба. Ему психологически гораздо проще повер-нуть на 180° и
стать разбойником. Отряды убийц ком-плектуются из толпы жертв.
56. Но значит
ли это, что в моем сознании произошла такая или подобная работа: превращение
жертвы в убийцу? Разумеется, опыт, который я пытаюсь описать, ничего общего не
имеет с этим рассуждением. Если го-ворить грубо и прямолинейно, то мой опыт
заключался не в том, что я раньше был жертвой, а превратился в
390
убийцу, но скорее в том, что я
осознал, что в определен-ном смысле всегда был убийцей.
57. Но было ли
при этом состояние жертвы иллюзи-ей или неким 'ментальным заблуждением'? Я
склонен думать, что это не так. Здесь раз и навсегда надо отка-заться от
фабульности мышления, от 'раньше' и 'поз-же'. Можно было бы сказать, что я
'одновременно' на-ходился в состоянии жертвы и одновременно это было некоей
метафизической ширмой. Так сказать, в сердце раба всегда дремал убийца.
58. Но что же
получается? Что быть убийцей и быть жертвой - такие же внешние качества, как
быть бед-ным или богатым? Ведь ничего особенного нет в том, чтобы сказать, что
я всегда был беден, но одновременно в моем сердце дремал богач. Но нельзя
забывать при этом того важного факта, что если богач - это тот, у ко-го много
денег, то убийца - это не тот, кто убил много людей. И даже нельзя сказать, что
убийца - это тот, кто убил одного человека, если он сделал это без злого
умысла, по стечению обстоятельств или в порядке за-щиты своей жизни или
достоинства.
59. Я прихожу к тому, что я скорее не знаю, кто такой убийца. В конце
концов, скорее всего я точно знал, да-же, вероятно, в тот момент, когда ощутил
себя убийцей, что я не убил ни одного человека. То есть вполне воз-можно, что я
никого не убивал. Но почему же в таком случае я почувствовал, что я убийца?
'Что я хотел этим сказать?' Не о своей готовности к убийству. Не о своей
обреченности на убийство. Не о своей агрессивности. Скорее это было ощущение
нового призвания, нового служения, нового состояния души.
60. А что почувствовал Христос в тот момент, когда осознал, что он Сын
Божий? Вернее, как он мог почув-ствовать, что он Сын Божий? В Евангелиях нигде
не
391
говорится, что Святой дух сходил
на Него Самого, в то время как и деве Марии, и Иосифу Обручнику не раз являлся
Ангел, свидетельствуя, что их сын - Мессия. Но как и когда это понял сам Иисус?
61. Однако при
чем здесь вообще Иисус Христос? Но ведь если в его жизни, в юности или, по всей
видимос-ти, даже в отрочестве был некий опыт осознания своего служения, своей
избранности, то этот опыт в опреде-ленном смысле должен был быть аналогичен
тому, ко-торый описывался здесь. И разве Иисус не любил боль-ше блудниц и
мытарей, чем книжников и фарисеев?
62. Опыт,
который пережил я и о котором пытался го-ворить, мог быть аналогичен опыту
Иисуса (если такой опыт вообще имел место) в том, что в обоих случаях, как
можно предположить, было ощущение открывшей-ся тайны (в моем случае лишь на миг
приоткрывшейся), связанное с идеей новой жизни и новой ответственнос-ти. Ощущение
(в моем случае секундарное) своей от-торженности от людей, но (в моем случае
это неочевид-но) во имя людей.
63. Потому что
я почувствовал себя убийцей, но, ко-нечно, не убийцей-злодеем. И, как я уже
говорил, я в сущности пришел к тому, что я не знаю, кто такой убий-ца, кого и
зачем он убивает и убивает ли вообще. В оп-ределенном смысле ощутить себя
убийцей означало ощутить свой Крест.
64. Ведь даже
если мне действительно предстоит со-вершить убийство, то ясно, что речь не идет
об обыкно-венном уголовном преступлении. Но даже если речь идет об обыкновенном
уголовном преступлении, то и в этом случае может идти речь об опыте некоей
духовной чистоты.
65. Услышать или увидеть, узреть пусть на мгнове-нье и по ничтожному
поводу крохотную частицу воз-
392
можной истины и, прислушавшись
(приглядевшись) к ней, продолжать жить, сохраняя память о пей, пока не появится
Тот, в чьей руке лопата, которой веют хлеб, ко-торый очистит гумно Свое и
соберет Пшеницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
66. И ясно,
что стремление к экстремальности и чис-тоте опыта (каким бы страшным или
фантастическим он ни казался) не может и не должно находить отклика. 'Мы играли
вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали' [Мтф. 11, 17].
Август (курфюрст
Саксонский) 234
Августин 17-18, 27, 155, 231, 351
Аверинцев С. С. 140
Акутагава Р. 146-149
Андреев Л. Н. 243
Андреев Д. Л. 300
Анненский И. Ф. 379
Ахматова А. А. 73, 81, 125, 283
Байрон Дж. Г.
251
Балли Ш. 20
Барбаросса Ф. 218
Барбюс А. 309
Барт Р.
182,239
Бархударов А. С. 84
Басаев Ш. 388
Бах И. С. 230
Бахтин М. М.
32,58,99,104,199-200,211, 267, 300-301
Беккег С. 46, 237, 347
Белинков А. 287
Белинский В. Г. 53, 195, 197
Белый А. 192, 242, 289-290, 315
Бем А. Л. 201
Бергман И. 216
Бергсон А. 15
Бердяев Н. А. 29
394
Берлиоз Г.
245
Бестужев-Марлинский
А. А. 171
Бетховен Л.
ван 172
Бисмарк О.
243
Блейк Р. 156
Блейлер Э.
194, 314, 334-336
Блэйк Р. 156
(см. Блейк Р.)
Блок А. А.
164, 261
Бодрийяр Ж.
73
Больцман Л.
12, 29
Бор Н. 9,
11, 29
Борхес Х. Л.
, 31-32, 81, 84-85, 95,148-150,154,212, 239, 283
Брехт Б. 43
Брод М.74-75, 78
Булгаков М. А. 62-63, 81, 255,
259, 280, 314-315
Бунюэль Л. 66, 279, 296, 301
Бурлюк Д. Д.
284
Бурно M.E.I
94, 313
Вагнер Р. 172
Вайда А. 216,
283
Вайнингер О.
237
Вандервекен
П. 114
Васмут Э. 14
Введенский А.
А. 46, 165, 285, 287, 307, 312
Веберн А.
295
Вендлер З.
46-48
Вергилий
Публий Варрон 231
Веспасиан
Флавий 234
Виан Б. 279,
298
Винер Н. 13,
22
Витгенштейн
Л. 9-11, 20, 30, 54, 56-58, 66-67, 94,
144, 162,193,226. 234, 247,266, 269, 273, 301, 386
395
Волков П. В.
330
Вригт Г. X.
фон 69, 105
Вулф Т. 279
Выготский Л.
С. 191
Вяземский П.
А. 182
Гали Б.
241-242, 244
Галковский Д. Е. 37, 283
Гамкрелидзе Т. В. 135
Гарибальди Дж. 231
Гаспаров Б. М. 74, 81, 171, 239,
254-255
Гейзенберг В. 9, 11,67
Гелиодор 99
Гессе Г. 258, 279
Гёдель К. 9, 67
Гёльдерлин И.-Х. Ф. 342-343
Гоголь Н. В. 86, 136, 196-197,
237, 243, 251-252, 264,
277
Годар Ж-Л. 283
Голсуорси Дж. 309
Гончаров И. А. 86, 192
Греймас А. 189
Гроф С. 71, 255
Гуковский Г. А. 187, 191, 197,
270
Гумилев Л. Н. 71, 180
Дали С.
295-296,306
Даммит М. 69
Данн Дж. У. 30-32, 150
Данте Алигьери 196
Декарт Р. 240-241
Делёз Ж. 239
Демокрит 141
Державин Г. Р. 166, 242, 372
396
Деррида Ж.
74, 239
Джеймс У. 321
Джойс Дж.73,153,165,192,279,281,
283, 326, 328
Джойс М. 82
Диоген
Лаэрций 23, 163
Диоген
Синопский 23
Долежел Л.
93
Достоевский Ф.М. 123, 137,
168,192,196,205,237,242, 252, 267, 290, 342, 358-359
Драйзер Т. 309
Дэвидсон Д. 42
Дюма А. 118,240
Евклид 154 Екатерина
II 234
Ельцин Б. Н.
228-230, 234
Ермаков И.
Д. 370-371
Ерофеев Венедикт
312
Ерофеев
Виктор 279
Есенская М.
74
Жанна д'Арк 227
Жижек С. 250
Жириновский
В. В. 229-230
Жолковский
А. К. 247, 254, 256
Заболоцкий Н. А.
287, 364
Завалишин Д.И.71,
182
Замятин Е.
И. 258
Золян С. Т.
61
Иванов В. В. 135
Ивин А. А.
105
397
Иенсен Р. 279, 300
Иисус Христос 23, 115, 148-149,
153, 215, 389, 391, 346-353
ИнгарденР. 19, 172, 190
Ионеско Э. 46, 296, 237
Ипполит Ж.345, 357, 363
Казарес М. 357
Калинин М. И. 235
Каллен У. 277
Кальдерой П. 354
Камю А. 237, 287, 385
Кандинский В. X. 338
Канетти Э. 280
Каплан Д. 67
Карамзин Н. М. 104
Катон Утический 23, 234
Кафка Ф. 74-76, 280, 286-287,
290-291, 294, 301-304, 312-316
Кац Дж. 175
Кельвин У. 28
Кемпинский А. 322, 338
Кёйпер Ф. Б. Я. 257
Кин Э. 236
Клаузиус Р.
Ю. Э. 29
Клерамбо Г.
338 Кокто Ж. 208
Конан-Дойл
А. 79, 83, 100, 177
Кортасар X.
81,83,239
Крафт-Эбинг
Р. 294
КречмерЭ.
194,343
Крипке С. А.
36,67, 126
Кристи А.
65, 374, 387-388
Кромвель О.
230
398
Крученых А. Е. 284
Крылов А. С. 157
Куайн У. В. О. 78, 128, 132, 356
Лакан Ж.239,247,249-250,252,
263,269,272, 274-275, 277, 279-280, 282, 291, 301-304, 307, 322, 329, 339,
341-342, 345, 348, 370-371
Лакан Э. 306
Лао-цзы 23
ЛапласП. 20, 160
Леви-СтросК. 123, 142, 256-257,
267
Лейбниц Г. В. 67
Ленин В. И. 308
Леонтьев К. Н. 379
Лермонтов М.Ю. 89,192, 196, 364
Лесков Н. С. 171, 192,243
Лист Ф. 240-241
Лихачев Д. С. 43, 105
Ломоносов М. В. 166, 230, 324
Лонг 100
Лосев А. Ф. 225
Лотман Ю. М. 23-24, 63, 72, 105,
181-182, 187, 192, 270
Дурия А.Р. 139
Лютер М. 234
Магритт Р. 295, 354
Майринк Г. 280
Макферсон Дж. 50
Малкольм Н. 167, 301
Мамлеев Ю. 279
Мандела Н. 299,378
Мандельштам О. Э. 73, 81, 283,
364
Манн Т. 73,81.113,192,258,279
399
Маркес Г. Г. 32, 156
Марр Н. Я. 300
Маяковский В. В. 252, 307
Менандр 137
Менделеев Д. И. 309
Миллер Б. 179
Милн А.240
Монтегю Р. 67
Монтескье Ш. 24
Морозов Н. А. 70
Моуди Р. 72, 208, 212
Мукаржовский Я. 51
Мунк Э. 295
Мур Дж. Э. 54, 66, 176, 356, 383
Мэтьюрин Ч. 63
Набоков В. В.279,
283, 312
Наполеон Бонапарт 227
Некрасов Н.А. 117, 199
Никитин А. 52
Николаева Т. М. 70
Ницше Ф. 29
Ньютон И. 99, 154
Оккам У. 83
Олби Э. 42
Олдингтон Р. 258
Олеша Ю. К. 287, 325
Остин Дж. 67
Островский А. Н. 86, 192, 200, 210
Павич М. 85
Панкеев С. 255, 267
Парамонов Б. М. 260
Пастернак Б.
Л. 64 Петр I 227
Пилат Понтий
159, 230, 255, 283
Пиндар 234
Писарев Д.
И. 238, 260
Питт У. мл.
227
Плавт 137
Платон 26-27
Платонов А.
П. 279, 314
Поппер К.
40, 190
Постников М.
М. 70
ПотебняА.А.
171
Потоцкий Я.
63
Прайор А. Н. 106
Пригов Д.А.291,364
Пропп В. Я.72,101,139, 160, 164,
170, 267, 382
Пруст М.73, 279, 281-282, 301,
327
Пушкин А. С. 28, 41, 45, 52-53,
86, 89, 106, 118, 166, 192,195-196,218, 239,241,245, 247-248,254,256,270, 290,
307, 324,364,369
Рабле Ф. 267
Радищев А.
Н. 23, 104, 234 Ранк О.251,255, 258 Рассел Б. 68, 176
Рейхенбах Г.
12-13, 16, 25, 33, 205
РиманФ.Б. 154
Роб-Грийе А.
314
Робеспьер М.
218
Романов
Алексей Михайлович 44
Руссо Ж-Ж. 24
Рыбальский
М.И. 344
400
Сартр Ж.П. 151
Светоний Гай
Транквилл 140, 154, 163
Свифт Дж. 104
Серафимович
А. С. 201
Сервантес М.
137, 354
Серль Дж. Р.
66, 114,236
Сеше А. 20 Сковорода
Г. 244
Смоктуновский
И. Ф. 236
Собчак А. Б.
245
Соколов С. 83
Сократ 23,
218
Солженицын А.
И. 37
Сологуб Ф.
К.. 192
Сорокин В. Г. 85,
87,279,293-294,297,299, 307,319-320
Соссюр Ф. де 20
Софокл 97,
118, 138, 140-141, 251, 362
Сталин И. В.
308
Стейнбек Дж.
309
Степанов Ю.
С. 131, 134
Стерн Л. 104,
195
Столыпин П.
А. 234
Стравинский
И. Ф. 279
Страхов Н. Н.
379
Сусанин И.
225
Тарановский
К.Ф. 73, 283
Тарковский А. А. 156
Тейяр де Шарден П. 30
Тодоров Ц.36,51-52
Тойнби А. Дж. 29
Толстой
Л. Н. 23, 27, 43, 45, 49, 79, 117-118, 123, 151, 153, 171, 192, 199-200, 208,
210, 237, 253,299,322,324, 328,332
402
Топоров В.Н. 104, 199, 200, 209
Тоффлер А. 72
Трифонов Ю. Н. 309
Трубецкой Н. С. 52
Тургенев И. С. 27, 190, 192,
197-198, 237, 243-244
Тынянов Ю.Н.
27, 51,251 Тютчев Ф. И. 164
Уайльд О.18 Уайтхед
А. Н. 67
Уолпи Э. 151
Уорф Б. Л. 34 ,
321
Успенский В. А.
156
Успенский Г. И.
192
Уэллс Г. 99
Фабри 3. 215
Фассбиндер Р.
В. 228, 239
Фаулз Дж. 279,
283
Федоров И. 84
Федоров Н.Ф. 29
Фейнман Р. П. 33
Фейхтерлебен Г.
277
Феллини Ф.283
Фицжеральд Ф.
С. 258
Фодор Дж. 175
Фолкнер У. 151,
153, 160, 166. 192, 258, 279, 292-293, 317-318
Фома Аквинский
343
Фоменко А. Т. 70
Франкл В.330,371
Фреге Г. 38-40, 48, 69, 124, 126,
341
Фрезер Дж. Дж. 139, 358
403
Фрейд 3. 23, 28, 212, 231, 246,
249-251, 253-254, 257, 260, 266-270, 272, 274-275, 279-280, 291, 301, 316, 323,
326,329,338,342,345,348,352-353, 355, 357-358, 363
Фрейденберг О. М. 171, 300
Фуко М. 182,320
Хаксли О. 259
Хармс Д.И.
285-287, 314
Хёйзинга Й.
29
Хемингуэй Э.
258
Хендемит П.
279
Хинтикка Я.
48, 67, 105
Хичкок А. 300
Хлебников В.
237, 284
Хомский Н.
343
Цезарь Гай Юлий
140, 343
Чаадаев П. Я.
170
Чайковский П. И. 64
Чернышевская О. С. 261
Чернышевский Н. Г. 197, 200,
234-235, 261
Честертон Г. К. 119
Чехов А. П. 86
Чехов М. А. 236
Чижевский Д. 201-202
Шаброль К. 149
Шаляпин Ф. И. 42
Шекспир У 101, 137-138, 160, 251
Шенберг А. 295
Шестов Л. В. 379
Шкловский В. Б.51,103,168, 264,
267,382
Шпенглер О. 29
404
Шпильрейн С. Н. 352
Шрёбер Д. 338
Штюкельберг Э. К. Г. 33
Щеглов Ю. К.
255 Щерба Л. В. 96
эддингтон. а. 15
Эйнштейн А.
154
Эйхенбаум Б.
М. 51, 196, 264 Эко У. 83, 182, 212
Элиаде М.29
Элиот Т. С.
81
Эсхил 118
Юнг К. Г. 29,
272
Якобсон Р. О.
51, 187-188, 192
Якубинский Л. П.
53
Яну арий Св. 231
Принятые
сокращения:
МН - Мифы народов мира. Т., М.,
1982.
НЛ - Новое в зарубежной
лингвистике, вып., М. Семиотика - Семиотика / Под ред. Ю. С. Степанова. М.,
1983.
УЗ - Ученые записки Тартуского
ун-та, вып., Тарту.
ФЛЯ - Философия. Логика. Язык /
Под ред. Д. П. Гор-ского и В. В. Петрова. М., 1987. ХЖ - Художественный журнал,
вып., М.
Абаев Н. В. Чань-буддизм и культура психической дея-тельности в
средневековом Китае. М., 1983.
Августин. Блаженного Августина Епископа Ипоний-ского
'Исповедь'. К., 1880.
Августин. Творения Блаженного Августина. К., 1906.
Аверинцев С. С. Вода// МН, 1, 1982.
Аверинцев С. С. Греческая литература и ближневос-точная
словесность // Типология и взаимодействие литератур древнего Востока. М.,
1971.
Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе //
Античность и современность. М., 1972.
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литера-туры. М.,1977.
Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 1976.
406
Арутюнова Н. Д. Типы
языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
Аскин Я. Ф. Проблема
времени: Ее философское ис-толкование. М.,1966.
Бахтин М. М. Проблемы
поэтики Достоевского. М., 1963.
Бахтин М. М. Франсуа Рабле
и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
Бахтин М. М. Вопросы
литературы и эстетики. М., 1976.
Бахтин М. М. Эстетика
словесного творчества. М., 1979.
Белинков А. Сдача и гибель
советского интеллигента: Юрий Олеша. М., 1997.
Бем А. Л. У истоков
творчества Достоевского. Прага, 1936.
Бенвенист Э. Общая
лингвистика. М., 1974.
Бергсон А. Творческая
эволюция. М.; Спб., 1914.
Бердяев Н. А. Смысл
истории: Опыт философии чело-веческой судьбы. Берлин, 1923.
Блейлер Э. Аутистическое
мышление. Одесса, 1927.
Блейлер Э. Руководство по
психиатрии. М., 1993.
Больцман Л. Лекции по
теории газов. М., 1956.
Бодрийар Ж. Войны в заливе
не было // ХЖ, 3,1993.
Бор Н. Атомная физика и
человеческое познание. М., 1961.
Брюнсвик Р. М. Дополнение
к статье Фрейда 'Из исто-рии одного детского невроза' // Человек-Волк и Зиг-мунд
Фрейд. К., 1996.
Бубенцова К. Приключения
мистера Эдипа в стране большевиков // На посту, ? 2, 1998.
Бурно М. Е. Трудный
характер и пьянство. Киев, 1991.
Вайль П., Генис А. Родная
речь. М., 1991.
407
Веберн А. Лекции о музыке.
Письма. М, 1975.
Вежбицка А. Дескрипция или
цитация // НЛ, 13, 1982.
Вежбицка А. Речевые акты
// НЛ, 16, 1985.
Вендлер 3. Иллокутивное
самоубийство // НЛ, 16,1985.
Вендлер 3. Причинные
отношения // НЛ, 18,1986.
Вернадский В. И.
Размышления натуралиста: Прост-ранство и время в неживой и живой природе. М., 1975.
Веселовский А. Н.
Историческая поэтика. М., 1989. Винер Н. Кибернетика, или управление и
связь в жи-вотном и машине. М., 1968.
Витгенштейн Л.
Логико-философский трактат. М., 1958.
Витгенштейн Л. О
достоверности / Пер. А.Ф. Грязнова // Вопр. философии, ? 4,1984.
Витгенштейн Л. Лекция об
этике // Даугава, ? 2,1989.
Витгенштейн Л. Культура и
ценности // Даугава, ? 2, 1992.
Витгенштейн Л. Избранные
философские работы. Ч. 1. М., 1994.
Волков П. В. Навязчивости
и 'падшая вера' // Москов-ский психотерапевтический журнал, ? 1,1992.
Волков П. В. Рессентимент,
резиньяция и психоз // Там же, ? 2,1993.
Вригт Г. фон. Нормы,
истина и логика // Вригт Г. фон. Логико-философские исследования. М., 1986а.
Вригт Г. фон. Логика
истины // Там же, 1986b.
Выготский Л. С.
Мышление и речь. Л., 1934.
Выготский Л. С. Психология
искусства. М., 1965.
Гаспаров Б. М. Из курса
лекций по синтаксису совре-менного русского языка: Простое предложение. Тар-ту,
1971.
408
Гаспаров Б. М. Некоторые
дескриптивные проблемы музыкальной семантики // УЗ, 411,1977.
Гаспаров Б. М.
Литературные лейтмотивы. М., 1995.
Гаспаров М. Л. Светоний и
его книга // Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1991.
Генис А.
'Полдень' Майкла Джойса // Иностр. лит., ? 4, 1994.
Гейзенберг В. Физика и
философия. М., 1963.
Гейзенберг В. Шаги за
горизонт. М., 1987.
Гершкович Ф. Тональные
основы Шёнберговой додекафонии // Гершкович Ф. О музыке. М., 1991.
Гинзбург Л. Я. Из старых
записей // Гинзбург Л. Я. Ли-тература в поисках реальности. М., 1986.
Голосовкер Я. Э. Логика
мифа. М., 1987.
Греймас А. Договор
веридикции // Язык. Наука. Фило-софия. Вильнюс, 1986.
Гроф С. За пределами
мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психоанализе. М., 1992.
Грюнбаум Л. Философские
проблемы пространства и времени. М., 1969.
Грязнов А. Ф. Язык и
деятельность: Критический ана-лиз витгенштейнианства. М., 1991.
Гуковский Г. А. Пушкин и
проблемы реалистического стиля. Л., 1967.
Гуковский Г. А. Реализм
Гоголя. М.; Л., 1959.
Гумилев Л. Н.
Поиски вымышленного царства. М., 1970.
Гумилев Л. Н.
Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990.
Гумилев Л. Н. Этнос и
категория времени // Гуми-лев Л. Н. Этнос и этносфера. М., 1994.
Гуревич А. Я. Категория
средневековой культуры. М., 1972.
Даммит М. Что такое теория
значения // ФЛЯ, 1987.
409
Данн Дж. У. Серийное мироздание [фрагмент] // Дауга-ва, ? 3,1992.
Данн Дж. У. Художник и
картина // ХЖ, 8, 1995.
Деглин В. О., Балонов Л. Я.,
Долинина И. Б. Язык и функциональная асимметрия мозга //УЗ, 43, 636, 1983.
Диоген Лаэрций. О жизни, учениях и изречениях зна-менитых
философов. М., 1979.
Дэвидсон Д. Общение и конвенциональность // ФЛЯ, 1987.
Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // НЛ, 1, 1960.
Ермаков И. Д. Психоанализ искусства: Пушкин; Го-голь;
Достоевский. М., 1999.
Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М., 1982.
Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Л., 1976.
Жолковский А. К. Инварианты Пушкина // УЗ, 467, 1979.
Жолковский А. К. Морфология и исторические корни 'После бала'
// Даугава, ? 12,1990.
Зарецкий В. А. Образ как информация // Вопр. лит., ? 2, 1963.
Зарецкий В. А. Ритм и смысл в поэтических текстах // УЗ,181,1965.
Зимовец С. Молчание Герасима: Психоаналитические и философские
эссе о русской культуре. М., 1996.
Золян С. Т. 'Вот я весь...': К анализу 'Гамлета' Пас-тернака //
Даугава, ? 11, 1988.
Золян С. Т. Семантика и структура поэтического текс-та. Ереван,
1991.
Иванов В. В. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знако-вых систем.
М., 1978.
410
Ивин А. А. Основания
логики оценок. М., 1971.
Ингарден Р. Исследования
по эстетике. М., 1962.
Ипполит Ж. Устный
комментарий к статье Фрейда 'Verneinung' // Лакан Ж. Семинары. Кн. 1. Работы
Фрейда по технике психоанализа (1953/54). М., 1998.
Казарян В. Г. Относительно
представления об обрат-ном течении времени // Вопр. философии, ? 3,1970.
Карнап Р. Значение и
необходимость: Исследование по семантике и модальной логике. М., 1959.
Кацис Л. Ф.,
Руднев В. П. Две правды о
профессоре Ермакове // Логос, 5(16), 1999.
Кемпинский А. Психология
шизофрении. М., 1998.
Кёйпер Ф. Б. Я. Космогония
и зачатие // Кёйпер Ф. Б. Я. Труды по ведийской мифологии. М., 1986.
Кларк Г. Г., Карлсон Т. Б.
Слушающие и речевой акт // НЛ, 17,1986.
Конрад Н. И. Полибий и
Сыма Цянь // Конрад Н.И. За-пад и Восток. М., 1972.
Кречмер Э. Строение тела и
характер. М.; Л., 1930.
Крипке С. Семантическое
рассмотрение модальной логики // Семантика модальных и интенсиональных логик.
М., 1981.
Крипке С. Тождество и
необходимость // НЛ, 13,1982.
Крипке С. Загадка
контекстов мнения // НЛ, 18, 1986.
Куайн У. В. О.
Референция и модальность // НЛ, 13, 1982.
Лакан Ж. Функция и поле
речи и языка в психоанали-зе. М., 1995.
Лакан Ж. Инстанция буквы в
бессознательном, или судьба разума после Фрейда. М., 1997.
Лакан Ж. Семинары. Кн. 1.
Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/54). М., 1998.
411
Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанали-зу. М.,
1996.
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1994.
Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.
Левин Ю. И. Повествовательная структура как генера-тор смысла:
Текст в тексте у Борхеса // УЗ, 567, 1981.
Левинтон Г. А. Инцест // МН, 1,1982.
Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1982.
Линский Л. Референция и референты // НЛ, 13,1982.
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1972.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Высокая клас-сика. М.,
1974.
Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1976.
Лосев А. Ф. О пропозициональных функциях древней-ших
лексических структур // Лосев А. Ф. Знак. Сим-вол. Миф. Тр. по языкознанию. М.,
1982а.
Лосев А. Ф. О типах грамматического предложения в связи с
историей мышления // Там же, 1982b.
Лосев А. Ф. Персефона // Мифологический словарь. М.,1991.
Лотман М. Ю. От составителя // Учебный материал по анализу
поэтических текстов. Таллин, 1982.
Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэти-ке. Тарту, 1964.
Лотман Ю. М. Проблема значения во вторичных моде-лирующих системах
// УЗ, 181,1965а.
Лотман Ю. М. О понятии географического пространст-ва в русских
средневековых текстах //УЗ, 181,1965b.
Лотман Ю. М. Художественная структура 'Евгения Онегина'//УЗ,
184,1966.
Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни (Бы-
412
товое поведение
как историко-психологическая кате-гория) // Лит. наследие декабристов. М.,
1971.
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.
Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста: Структура стиха. Л.,
1972.
Лотман Ю. М. О двух моделях коммуникации в систе-ме культуры //
УЗ, 308,1973.
Лотман Ю. М. Тема карт и карточной игры в русской литературе
XIX в. // УЗ, 365,1975а.
Лотман
Ю. М. О Хлестакове // УЗ, 369,1975b.
Лотман Ю. М. Роман в стихах А.С. Пушкина 'Евгений Онегин'.
Тарту, 1976.
Лотман Ю. М. Культура как коллективный интеллект и проблема
искусственного разума. М., 1977а.
Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской литературе
XVIII в. // УЗ, 411,1977b.
Лотман Ю. М. Место киноискусства в механизме куль-туры // Там
же. 1977с.
Лотман Ю. М. Феномен культуры // УЗ, 463,1978а.
Лотман Ю. М. Динамическая модель семиотической системы // Там
же. 1978b.
Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина 'Евгений Оне-гин':
Комментарий. Л., 1980.
Лотман
Ю. М. Текст в тексте // УЗ, 567,1981.
Лотман Ю. М. Редакционное примечание // УЗ, 576, 1982.
Лотман Ю. М. О Семиосфере // УЗ, 641, 1984.
Лотман Ю. М. Заметки о художественном пространст-ве // УЗ, 720,1986.
Лотман
Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987.
Лотман
Ю. М. Беседы о русской культуре. Л., 1994.
413
Лотман Ю. М., Минц 3. Г. Литература и мифология / УЗ, 546,1981.
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф - имя - куль-тура // 23,308,1973.
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моде-лей в русской
культуре // УЗ, 414, 1977.
Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. М., 1968.
Лурия А. Р. Этапы пройденного пути. М., 1982.
Льюис К. Виды значений // Семиотика, 1983.
Майоров Г. Г. Формирование средневековой филосо-фии: Латинская
патристика. М., 1979.
Малкольм Н. Мур и Витгенштейн о значении выраже-ния 'Я знаю' //
ФЛЯ, 1987.
Малкольм Н. Состояние сна. М., 1993.
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976.
Мещанинов И. И. Проблемы развития языка. Л., 1975.
Михайлова Т. А. Нечто о пространственной модели времени //
Семиотика и информатика, вып. 34. М., 1995.
Моуди Р. Жизнь после жизни. М., 1991.
Мукаржовский Я. Эстетическая функция, норма и цен-ность как
социальные факты // УЗ, 365, 1975.
Налимов В. В. Вероятностная модель языка: О соотно-шении
естественных и искусственных языков. М., 1979.
Невелева С. Л. О композиции древнейшего эпического текста в
связи с архаическими обрядовыми представ-лениями // Архаический ритуал в
раннелитературных памятниках. М., 1988.
Немировский И. В. Библейские аллюзии в 'Медном всаднике'
Пушкина // Русская литература, ? 5, 1988.
414
Николаева Т. М. 'Событие' как категория текста и его
грамматические характеристики // Структура текста. М.,1980.
Николаева Т. М. Лингвистическая демагогия // Праг-матика и
проблемы интенсиональности. М., 1988.
Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Статистическое иссле-дование
событийных и биографических параллелей на материале английской хронологии и
истории // Семиотика и информатика, вып. 34, М., 1995.
Остин Дж. Слово как действие // НЛ, 17,1986.
Парамонов Б. Конец стиля. М., 1997.
Патнем X. Значение и референция // НЛ, 13, 1982.
Петровский М. А. Морфология новеллы // Учебный материал по
анализу произведений художественной прозы. Таллин, 1979.
Платон. Тимей // Платон. Соч. в 3 т. Т .3, ч. 1. М., 1971.
Подорога В. Ф. Кафка. Конструкция сновидений // Ло-гос, ? 5,1994.
Померанц Г. С. Традиции и непосредственность в буд-дизме чань
(дзэн) // Роль традиции в истории и куль-туре Китая. М., 1972.
Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.
Постников М. М., Фоменко А. Т. Новые методики ана-лиза
нарративно-цифрового материала древней исто-рии // УЗ, 576,1982.
Пригожий И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант: К ре-шению
парадокса времени. М., 1994.
Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969.
Пропп В. Я. Ритуальный смех в фольклоре // Пропп В. Я. Фольклор
и действительность. Л., 1976а.
Пропп В. Я. Мотив чудесного рождения // Там же, 1976b.
Пропп В. Я. Эдип в свете фольклора // Там же, 1976с.
415
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
Пятигорский А. М. Некоторые общие замечания о тек-сте как
разновидности сигнала // Структурно-типо-логические исследования. М., 1962.
Пятигорский А. М. Некоторые общие замечания о мифологии с точки
зрения психолога // УЗ, 181, 1965
Пятигорский А. М. О некоторых теоретических пред-посылках
семиотики // Сб. статей по вторичным мо-делирующим системам. Тарту, 1973.
Пятигорский А. М. Философия одного переулка. М., 1990
Райхман Дж. Постмодернизм в номиналистской систе-ме координат
// Флэш Арт, ? 1, 1989.
Ранк О. Миф о рождении героя // Между Эдипом и Озирисом:
Становление психоаналитической кон-цепции мифа. Львов; М., 1998.
Рассел Б. Человеческое познание: Его сфера и границы. М.,1957.
Рассел Б. Дескрипции // НЛ, 13, 1982.
Ревзин И. И. Субъективная позиция исследователя в семиотике //
УЗ, 284, 1971.
Ревзин И. И. Современная
структурная лингвистика: Проблемы и методы. М., 1977.
Ревзина О. Г., Ревзин И. И. Семиотический эксперимент на сцене
(Нарушение постулатов нормального обще-ния как драматургический прием) // УЗ,
284, 1971.
Рейхенбах Г. Направление времени. М., 1962.
Рорти
Р. Случайность, ирония, солидарность. М., 1996.
Руднев В. П. Строфика и метрика: Проблема функци-онального
изоморфизма // Wiener slawistischee Almanach, В. 17, 1985.
416
Руднев В. П. Стих и культура // Тыняновский сб.: Вто-рые
Тыняновские чтения. Рига, 1986.
Руднев В. Прагматика анекдота // Даугава, ? 6, 1990а.
Руднев В. П. Модернизм // Русская альтернативная по-этика, М.,1990Ь.
Руднев В. Серийное мышление // Даугава, ? 3, 1992а.
Руднев В. Франц Кафка: Речевые действия автора и ге-роев // Там
же, ? 4, 1992Ь.
Руднев В. П. Модернистская и авангардистская лич-ность как
культурно-психологический феномен // Русский авангард в кругу европейской
культуры. М., 1993а.
Руднев В. П. Сновидение и реальность // Малкольм Н. Состояние
сна. М., 1993b.
Руднев В. Введение в прагмасемантику 'Винни Пу-ха' // Винни Пух
и философия обыденного языка. М.,1994а.
Руднев В. П. Сновидение и событие // Сон - семиоти-ческое окно:
XXVI Випперовские чтения. М., 1994b.
Руднев В. П. Поэтика 'Грозы' А. Н. Островского // Се-миотика и
информатика, вып. 38. М., 1995а.
Руднев В. П. Витгенштейн: - вскользь, по касатель-ной // ХЖ, 8,
1995b.
Руднев В. П. Первобытное сознание: взгляд из 1990-х годов //
Там же, 1995с.
Руднев В. П. Конец поствыживания [рец. на кн.:] Соро-кин В.
Норма. Роман. М., 1994 // Там же, 9, 1996а.
Руднев В. П. Морфология реальности: Исследования по 'философии
текста'. М., 1996b.
Руднев В. П. Словарь культуры XX века: Ключевые по-нятия
и тексты. М, 1997.
Русская разговорная речь: Антология / Под ред. Е. А. Земской.
М., 1978.
417
Рыбальский М. И. Иллюзии и галлюцинации: Систе-матика,
семиотика, нозологическая принадлежность. М.,1983.
Рыбальский М. И. Бред: Систематика, семиотика, но-зологическая
принадлежность бредовых, навязчи-вых, сверхценных идей. М., 1993.
Рыклин М. Революция на обоях // Роб-Грийе А. Проект революции в
Нью-Йорке. М., 1996.
Рюиз Р. Субъектные отношения в кинематографе // Ар-сенал, 1.
Рига, 1988.
Сааринен Э. О метатеории и методологии семантики // НЛ, 18,
1986.
Сапогов В. А. Строительная жертва как архетип поэмы Некрасова
'Железная дорога' // Литературный про-цесс и литературная эволюция. Таллин,
1988.
Семенцов В. С. 'Бхагавадгита' в традиции и в совре-менной
научной критике. М., 1985.
Серль Дж. Референция как речевой акт // НЛ, 13, 1982.
Серль Дж. Что такое речевой акт? // НЛ, 17, 1986а.
Серль Дж. Классификация иллокутивных актов // Там же, 1986b.
Скотт Д. Советы по модальной логике // Семантика мо-дальных и
интенсиональных логик. М., 1981.
Смирнов И. П. Психодиахронологика: Психоистория русской
литературы от романтизма до наших дней. М,1994.
Соссюр Ф. де. Тр. по языкознанию. М., 1977.
Спивак Д. Л. Язык при измененных состояниях созна-ния. Л,
1989.
Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения (Семиологическая
грамматика). М., 1981.
Степанов Ю. С. В мире семиотики // Семиотика. М., 1983.
418
Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: Се-миотические
проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
Степанов Ю. С. Индоевропейское предложение. М., 1989.
Стросон П. Ф. О референции
// НЛ, 13, 1982.
Судзуки Д. Т.
Основы дзэн-буддизма. Бишкек, 1993.
Тейяр де Шарден П. Феномен
человека. М., 1987.
Тименчик Р. Д.
Автометаописание у Ахматовой // Russian Literature, 2, 1976.
Тименчик Р. Д. К символике
трамвая в русской поэзии // УЗ, 754,1987.
Тодоров Ц. Понятие
литературы // Семиотика, 1983а.
Тодоров Ц. Семиотика
литературы // Там же, 1983b.
Томашевский Б. В. Теория
литературы. Поэтика. М.; Л., 1927.
Топоров В. Н. О числовых
моделях в архаических текс-тах // Структура текста. М., 1980.
Топоров В. Н. Древо
мировое // МН, 1, 1982.
Топоров В. Н. Пространство
и текст // Текст: семанти-ка и структура. М., 1983.
Топоров В. Н. О ритуале: Введение в проблематику // Архаический
ритуал в философских и раннелитературных памятниках. М., 1988.
Топоров В. Н. Миф. Ритуал.
Символ. Образ: Исследо-вания в области мифопоэтического. М., 1995а.
Топоров В. Н. Петербург и
'Петербургский текст рус-ской литературы' // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ.
Образ: Исследования в области мифопоэти-ческого. М., 1995b.
Топоров В. Н. 'Господин
Прохарчин': К анализу пе-тербургской повести Достоевского // Там же, 1995с.
Топоров В. Н. О структуре
романа Достоевского в свя-
419
зи с
архаичными схемами мифологического мышле-ния ('Преступление и наказание') //
Там же, 1995с.
Топоров В. Н. Об индивидуальных образах простран-ства:
'Феномен' Батенькова // Там же, 1995d.
Топоров В. Н. О 'психофизиологическом' компоненте поэзии
Мандельштама // Там же, 1995е.
Топоров В. Н. О 'поэтическом' комплексе моря и его
психофизиологических основах // Там же, 1995Г
Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960.
Трубецкой Н. С. 'Хожение за три моря' Афанасия Ни-китина как
литературный памятник // Семиотика, 1983.
Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь (К теории паро-дии) //
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.,1977а.
Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции // Там же, 1977b.
Тынянов Ю. Н. Сюжет 'Горя от ума' // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его
современники. Л., 1967.
Уитроу Дж. Естественная философия времени. М., 1964.
Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // НЛ,
2, 1962а.
Уорф Б. Л. Наука и языкознание. О двух ошибочных воззрениях на
речь, характеризующих систему есте-ственной логики, и о том, как слова и обычаи
влияют на мышление // Там же, 1962b.
Федоров Н. Ф. Соч. М., 1982.
Фолкнер У. Собр. соч. В 6 т. Т. 1. М., 1985.
Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика, вып. 8. М., 1978.
Фреге
Г. Мысль: Логическое исследование // ФЛЯ, 1987.
Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989.
420
Фрейд 3. Толкование
сновидений. Ереван, 1991.
Фрейд 3. Психопатология
обыденной жизни // Фрейд 3. Психология бессознательного. М., 1990а.
Фрейд 3. Анализ фобии
пятилетнего мальчика // Там же, 1990b.
Фрейд 3. Я и Оно // Там
же, 1990с. Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия // Там же, 1990d.
Фрейд 3. Остроумие и его
отношение к бессознательно-му // Фрейд 3. Художник и фантазирование. М.,
1995а. Фрейд 3. Бред и сны в 'Градиве' Р. Иенсена // Там же, 1995b.
Фрейд 3. Скорбь и
меланхолия // Там же, 1995с.
Фрейд 3. Царь Эдип и
Гамлет // Там же, 1995d.
Фрейд 3. Жуткое // Там же,
1995е.
Фрейд 3. Достоевский и
отцеубийство // Там же, 1995f.
Фрейд 3. Случай
Человека-Волка (Из истории одного детского невроза) // Человек-Волк и Зигмунд
Фрейд. К., 1996.
Фрейденберг
О. М. Поэтика сюжета и жанра: Период
античной литературы. Л., 1936.
Фрейденберг О. М.
Происхождение пародии // УЗ, 308, 1973а.
Фрейденберг О. М.
Происхождение литературной ин-триги // Там же, 1973b.
Фрейденберг О. М. Миф и
литература древности. М., 1978.
Фрейденберг О. М. Миф и
театр. М., 1989.
Фрэзер Дж. Дж. Золотая
ветвь: Исследование магии и религии. М., 1980.
Фуко
М. История безумия в классическую эпоху.
М., 1997.
421
Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Новая технокра-тическая
волна на Западе. М., 1986.
Хёйзинга И. Homo ludens. M., 1992.
Хилпинен П. Р. Семантика императивов и деонтичес-кая логика //
НЛ, 18, 1986.
Хинтикка Я. Вопрос о вопросах // Логика и методоло-гия науки.
М., 1980.
Хинтикка Я. Логика в философии - философская ло-гика //
Хинтикка Я. Логико-эпистемологические ис-следования. М., 1980а.
Хинтикка Я. Семантика пропозициональных устано-вок // Там же,
1980Ь.
Хинтикка Я. Виды модальностей // Семантика модаль-ных и
интенсиональных логик. М., 1981.
Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр: Краткая история
времени. М., 1990.
Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972.
Целищев В. В. Логика существования. Новосибирск, 1976
Чернов И. А. Из лекций по теоретическому литературо-ведению. 1.
Барокко: Литература. Литературоведение. Тарту, 1976.
Чёрч А. Введение в математическую логику. М., 1959.
Шапир М. И. Что такое авангард? // Даугава, ? 10, 1990а.
Шапир М. И. Metrum et rhytmos sub specie semioticae // Там же,
1990b.
Шеннон К. Работы по теории информации и киберне-тике. М.,1963.
Шифрин Б. Интимизация в культуре // Даугава, ? 8, 1989.
422
Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая фи-лософия: Избр.
тексты. М., 1993а.
Шлик М. О фундаменте познания // Там же, 1993Ь.
Шкловский В. О теории прозы. Л., 1925.
Шкловский В. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого 'Война и
мир'. Л., 1928.
Шпенглер О. Закат Европы,
М., 1991.
Шпильрейн С. Деструкция
как причина становления // Логос, 5, 1994.
Шуцкий Ю. К. Китайская
классическая книга перемен. М., 1993.
Щерба Л. В. О трояком
аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л. В.
Языковая система и речевая деятельность. Л, 1974.
Эйнштейн А. Физика и
реальность. М., 1965.
Эйхенбаум Б. М. Молодой
Толстой. Пг., 1926.
Эйхенбаум Б. М. Лев
Толстой: 70-е годы. Л, 1967.
Эйхенбаум Б. М. О прозе.
Л, 1965.
Эйхенбаум Б. М. О
литературе. М., 1987.
Элиаде М. Космос и
история. М., 1987.
Юнг К. Г. Архетип и
символ. М., 1991.
Юнг К. Г. Психология
переноса. М., 1997.
Якобсон Р. О. Лингвистика
и поэтика // Структурализм: 'За' и 'Против'. М., 1975.
Якобсон Р. О. О
художественном реализме // Хрестома-тия по теоретическому литературоведению /
Сост. И. Чернов. Тарту, 1976.
Якобсон Р. О. В поисках
сущности языка // Семиотика, 1983.
Якобсон Р., Фант Г. М., Халле
М. Введение в анализ речи // НЛ. 2, 1962.
Якубинский Л. П. Избр.
работы: Язык и его функцио-нирование. Л., 1986.
423
Barth R. L'empire des
signes. Geneve, 1970,
Baudrillard J. Simulacres
et simulation. P., 1981.
Bradley F. Appearance and
reality. Ox., 1969.
Carnap R. The Logical
syntax of language. L., 1936.
Castaneda H.-N. Fiction
and reality // Poetics, 8, 1/2, 1979.
Castaneda H.-N. Reference,
existence and fiction // Agent, language and the structure of the world.
Indianopolis, 1983.
Czyzewski D. Survey of
Slavic Civilization. Boston, 1952.
Davidson D. The Logical
form of action sentences // The Logic of decision and action. Pittsburg, 1967.
Davidson D. On saying that
// Words and objections. Dordrecht, 1975.
Derrida J. Lecriture et
diference. P., 1967.
Derrida J. La
dissemination. P., 1972.
Derrida J. La carte
postale de Socrates a Freud et au-dela. P., 1980.
Dolezel L. Narrative
modalities // Poetics and theory of text. N.Y, 1976.
Dolezel L. Narrative
worlds // Sound, sign and meaning. Ann Arbor, 1979.
Dunne J. W. An Experiment
with time. L., 1920.
Dunne J. W. The Serial
universe. L., 1930.
Eddington A. The Nature of
the physical world. Ann Arbor, 1958.
Foucalt M. Histoire de la
folie a 1'age classique. P., 1961.
Foucalt M. Les mots et les
choses. P., 1966.
Foucalt M. La volonte de
savoir. P., 1976.
Freud S. Neurosis and
psychosis // Freud S. On psychopathology. N. Y, 1981a.
Freud S. The Loss of
reality in neurosis and psychosis // Freud S. On psychopathology. N. Y,
1981b.
424
Freud S. Negation // The
Freud reader / Ed. P. Gay. N. Y, L., 1989.
Fronnn E. The Forgoten
language. N.Y, 1956.
Godel К. Uber formal
unentscheidbare Satse der Principia Mathematica und verwandter Systeme 1
//Monatschifte fur Mathematik und Physik, 38, 1931.
Hacker P. Events, ontology
and grammar // Philosophy, n. 57,1982.
Hintikka J. Knowledge and
belief. Ithaca, 1962.
Hintikka J. Models for
modalities. Dordrecht, 1969.
Hudson W. Wittgenstein and
religious belief. L., 1975.
Jameson F. Postmodernism
N.Y, 1986.
Janik A., Toulmen S.
Wittgenstein's Wienna. L., 1973.
Kretschmer E. Geniale
Menschen. В., 1956.
Katz J. Semantic theory.
N.Y, 1972.
Kripke S.
Wittgenstein on rules and private language. Ox., 1982.
Lacan J. Ecrits. P.,
1966.
Lacan J. Le seminaire de
Jaques Lacan. Livre VIII. Le Transfert. 1960-1961. P. 1991.
Lambert K. Existential
import revisited // Notre Dame Journal of Formal Logic, 4, 1973.
Lejevski С. Logic and
exictence // British Journal for the philosophy of science, 5, 1971.
Leonard H. The Logic of
existence // Philosophical stidies, 13, 1966.
Lewis D. Philosophical
papers, v.l. Ox., 1983.
Lyotard J. La condition
postmodeme. P., 1979.
Meinong A. Untersuchungen
zur Gegenstandtheorie und Psychologie. В., 1904.
Miller В.
Could any fictional character ever be actual? // The Southern journal of
philosophy, n.23, 1985.
425
Moore J. Е. Philosophocal
studies. L., 1922.
Moore J. E. Philosophical
Papers. L., 1959.
Pavel Th.
'Possible worlds' in literary semantics // Journal of aesthetics and art
criticism, v.34, n.2, 1976.
Prior A. N. Time and
modality. Ox., 1960. Prior A. N. Past, present and future. Ox., 1967.
Putnam H. Dreaming and
depth grammar // Putnam H. Philosophical papers, v. 2. Cambr., 1975.
Quine W. V. O. From a
logical point of view. Cambr. (Mass.), 1953.
Rank O. Das Trauma der
Geburt und seine Bedeutung fur Psychoanalyse. Leipzig, 1929.
Reichenbach H. Elements of
symbolic logic. N.Y, 1948.
Rorty R. Philosophy and
the mirror of nature. Princeton, 1979.
Ross A. Imperatives and
logic // Theoria, v.7, 1941.
Ross J. R. On declarative
sentences // Readings in English transformational grammar. Waltham (Mass.), 1970.
Roudinesco E. Jacques
Lacan: Esquisse d'un systeme de pensee. P. 1992.
Routley R. The semantic
structure of fictional discourse // Poetics, v 8, n. 1/2, 1979.
Russell В. An Inquiry into
meaning and truth. L., 1980.
Ryle G. The concept of
mind. L., 1949.
Searle J. R. Speech acts:
Essay in philosophy of language. Cambr. (Mass.), 1969.
Searle J. R. The Logical
status of fictional discourse // Contemporary perspectives in the philosophy of
lan-guage. Minneapolis, 1978.
Searle J. R.
Intentionality. Cambr. (Mass.), 1983.
Searle J. R., Vanderveken P.
Foundations of illocutionary logic. Ox., 1984.
426
Stenius E. Wittgenstein's
Tractatus: A Critical expositions of its main lines of thought. Ox., 1960.
Taranovsky K. Essays on
Mandels'tam. The Hague; P., 1976.
Tarski A. Logic,
semantics, metamathematic. Ox., 1956.
Toynbee A. J. Surwey of
international affairs: 1934. L., 1935.
Toynbee A. J, A Study of
History. L., 1934-1961.
Toffler A. The Third Wave.
N.Y, 1980.
Urmson J. Fiction //
American philosophical quarterly, v. 13, n.2, 1976.
Walton К. On fearing
fiction // Journal of philosophy, v. 78, n.l,1975.
Walton K. How remote are
fictional worlds from the real world // Journal of aesthetic and art criticism,
v. 37, n. 1, 1978.
Weitz M. Truth in
literature // Revue internationale de philosophie, v.31, 1955.
Weinreich U. Explorations
on semantic theory // N.Y, 1974.
Wells R. Nominal and
verbal style // Style in language. Cambr. (Mass.), 1960.
Wiersbicka A. Semantics
primitives. Frankfurt a. M., 1972.
Wiersbicka A. Lingua
mentalis. Sydney, 1980.
Wittgenstein L. Notebooks
1914-1916. Ox., 1982.
Woods J. The Logic of
fiction. The Hague; P., 1974.
Zizek S. The Sublime
object of ideology. L,; N.Y, 1989.
От автора
................................... .5
Глава
первая ТЕКСТ .................................... .9
Время и текст
................................ .9
Природа художественного
высказывания ......... .36
Повествовательные миры
..................... .88
Художественное пространство
................ .104
Глава вторая СЮЖЕТ
................................. .124
Ошибка за
ошибкой ......................... .124
Фабулы не существует
....................... .143
Сюжета не существует
....................... 164
Глава третья РЕАЛЬНОСТЬ ................ .174
Призрак
реальности ......................... .174
Призрак реализма
........................... 187
Морфология сновидения
..................... .204
'Китайская рулетка'
........................ .225
Глава четвертая
ПРОЧЬ ОТ РЕАЛЬНОСТИ ........ 246
Смысл как
травма: Психоанализ и
философия текста
...........................246
Психотический дискурс
...................... .274
428
Препарированный дискурс:
Морфология безумия ..........311
'Это не я убил' .................345
Читатель-убийца
..................З74
Указатель
имен .........394
Литература
.........406
Вадим Руднев ПРОЧЬ ОТ РЕАЛЬНОСТИ
Серия 'XX век +' Междисциплинарные исследования
Ответственный за
выпуск О. Разуменко Художник Ф. Домогацкий Редактор М.
Бубелец
Техническое редактирование и компьютерная верстка О. Козах Корректор В.
Радакова
ЛР ? 064478 от 26.02.96
г.
Подиисаио в печать 27.09.99. Формат 84x 108/32. Бумага
офсетная Гарнитура 'Times New Roman Cyr'. Печать офсетная. Печ.л. 13,5 Тираж :
3000. Заказ ? 3365.
Издательство 'Аграф' 129344, Москва, Елисейская ул., 2
Отпечатано с готовых диапозитивов и типографии ГИПП
'Вятка' 610044, г. Киров. Московская ул.. 122
Уважаемые читатели!
Предлагаем нашему вниманию
новую серию книг но междисципли-нарным исследованиям под общим символическим
названием 'XX век +'.
XX век +
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Серия разработана известным ученым Вадимом
Рудневым. Надеемся, что работы (порой уникальные) прогрессивных и пытли-вых
российских ученых, а также зарубежных исследователей в самых раз-нообразных
областях науки, таких как психоаналитика, философия, линг-вистика и т.д. найдут
своего постоянного читателя и будут несомненно пользоваться спросом.
В скором времени выйдут в свет:
Н. Носов.
'Виртуальная психология'
П. Волков.
'Разнообразие человеческих миров'
Ж-К. Фрер.
'Сообщества зла'
М. Спивак.
'Посмертная диагностика гениальности'
А. Плуцер-Сарно. Комментарий к поэме В. Ерофеева 'Москва-Петушки'
В. Руднев.
'Винни-Пух и философия обыденного языка'
Ждем от вас
заказов и отзывов на новую серию.
Сканирование: Янко Слава (библиотека Fort/Da) yanko_slava@yahoo.com | | http://yanko.lib.ru ||
зеркало: http://members.fortunecity.com/slavaaa/ya.html
|| http://yankos.chat.ru/ya.html
| Icq# 75088656