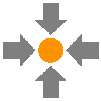Биография 1. Mилана Kundera
(перевод Янко Слава)
В настоящее время живет вместе с
его женой, Верой Храбанковой, в Париже *
Биографическая справка Kundera,
Milan
Библиография Кундеры. The Milan
Kundera Bibliography
Таблетка бессмертия Милана Кундеры.
Ирина Каспэ
The Unbearable Lightness of Being
FOUR CHARACTERS UNDER TWO TYRANNIES
The Object of My Obsession (by Robert Grudin, 17/5/1998)
Михаэль Кольхауэр. Роман и
идеология. Точки зрения.
Биографии Mилана Кундеры
Биография 1. Mилана Kundera (перевод Янко Слава)
Mилан Kundera был рожден в 1/4/1929 в Brno (Bohemia / Чехословакия) .*
Его
отец, Ludvik Kundera (1891-1971), был музыковед и ректор Университета
в Брно. Mилан Kundera написал cвои первые cтихи во время обучения в средней школе.
После Второй Мировой Войны до своего студенчества он подрабатывал разнорабочим
и джазовым музыкантом*
Он изучал музыковеденье, кино, литературу и эстетику в the Prague Charles University. После того, как он его закончил,
работал по началу ассистентом, позже профессором на факультете кино Пражской
Академии performing arts. Издает поэмы, эссе и
драматургические пьесы. В то же самое время он вступает в редакционные советы
литературных журналов 'Literarni noviny' и 'Listy'.
В 1948 году полный оптимизма
вступает в Коммунистическую Партию, как и многие интеллектуалы того времени.
В 1950 году был исключен из КП за
индивидуалистские тенденции.
После окончания Академии в 1952 году
остается преподавателем Мировой литературы в Киноакадемии.
С 1956 по 1970 снова в КП.
В 1953 публикует свою первую книгу.
До середины 50-х занимается переводами, эссе, драматургией.
Становится известен после выпуска
его собрания стихов, а так же выхода 3-х томов прозы 'Смешные любови',
написанные и опубликованные с 1958 по 1968.
В его первом романе 'Шутка' (1967)
речь идет о Сталинизме.
После
Советской оккупации в 21/08/1968 Кундера одна из основных фигур принявших
участие в 'Пражской Весне' за что был лишен возможности преподавать. Его книги
были изьяты из всех библиотек страны.
Из-за обвинения в соучастии в
революционных событиях ему в 1970 году запрещено публиковаться. Его второй
роман, 'Life is elsewhere', был уже издан в 1973 в Париже. *
В
1975 Kundera стал приглашенным профессором
в Rennes'ком Университете (Bretagne, Франция).
В
1979 Чешское правительство лишило его чешского гражданства за его книгу 'Book
of Laughter and Forgetting'.
Следующие
за этой книгой романы были запрещены для издания в CSSR.
Начиная с 1981 он - французский гражданин.
Начиная
с 1985 он дает только письменные интервью по причине того, что его часто
неверно цитировали.
В
1986 Kundera издал свое первое произведение
написанное на французском языке - эссе 'L'Art du Roman' (The Art of the Novel).
(Искусство Романа).
В
1988 'Immortality' 'Бессмертие' был его первым романом написанным
по-французски.
После
нескольких лет чтения лекций по сравнительному языковедению в Университете Rennes вплоть до 1978 Kundera - член лектората известного издательства
Gallimard.
В настоящее время живет вместе с его женой, Верой Храбанковой, в Париже *
В
своем эссе 'Testaments trahis' (Testaments Betrayed) 1994 он подводит черту
периоду недоразумений в своих взаимоотношениях с adulterators, interpretators и переводчиками, потому как считал себя,
ято стал их жертвой. После этого он позволяет снова переводить свои романы в
Германии. Позже, во Франции, он сам тщательно
проверил переводы всех его работ написанных еще в Чехии.
Поледние романы 'Slowness' (Медлительность) изданый
в 1994 и 'Identity' (Идентичность) в 1998.
В
2000 Kundera наконец издал свою последнюю книгу, но
до сих пор только на испанском языке под названием 'La Ignorancia'.
Есть
мнение, что для публикация этой книги на других языках будет затраченно всего
несколько месяцев.
Kundera черпает свое вдохновение, как он
подчеркивает достаточно часто, в Ренессансе и в исследованниях Boccacio, Rabelais, Sterne, Diderot, также и от работ Musil, Gombrowitz, Broch, Kafka и Heidegger.
Не
только издатели книг Кундеры считают его произведения классикой 20-ого
столетия, а самого Кундеру одним из больших романистов второй половины 20-го
века.
Вопреки
другим известным авторам, Кундера культивирует отношение к себе, как к человеку
полностью исчезающему за своими книгами.
Именно
поэтому он, как считают, чаще выступает в роли анонима.
Biography 1 of Milan Kundera
Milan Kundera was
born on 1/4/1929 in Brno (Bohemia / Czechoslovakia). His father,
Ludvík Kundera (1891-1971), has been musicologist and rector of the Brno
University. Milan Kundera wrote his first poems during high school time. After
World War II he jobbed as worker and jazz-musician before beginning his studies
His father,
Ludvík Kundera (1891-1971), has been musicologist and rector of the Brno
University. Milan Kundera wrote his first poems during high school time. After
World War II he jobbed as worker and jazz-musician before beginning his studies He studied musicology,
film and literature and aesthetics ath the Prague Charles University. After he
had finished he had been assistent at first and later on professor at the film
faculty of the Prague Academy of performing arts. He published poems, essays
and stage plays. At the same time he joined the editorial staff at the
literature magazines 'Literarni noviny' and 'Listy'. Kundera joined the
communist party in 1948 full of enthusiasm, as did so many intellectuals.1950
he got expelled from the communist party because of individualistic tendencies.
After graduation in 1952 he was appointed as lecturer in world literature at
the Film Academy. Once again from 1956 to 1970 he joined the communist party. 1953
he published his first book and he acted in the middle of the 50ies also
as a translator, essayist and author of stage plays.
He studied musicology,
film and literature and aesthetics ath the Prague Charles University. After he
had finished he had been assistent at first and later on professor at the film
faculty of the Prague Academy of performing arts. He published poems, essays
and stage plays. At the same time he joined the editorial staff at the
literature magazines 'Literarni noviny' and 'Listy'. Kundera joined the
communist party in 1948 full of enthusiasm, as did so many intellectuals.1950
he got expelled from the communist party because of individualistic tendencies.
After graduation in 1952 he was appointed as lecturer in world literature at
the Film Academy. Once again from 1956 to 1970 he joined the communist party. 1953
he published his first book and he acted in the middle of the 50ies also
as a translator, essayist and author of stage plays. Kundera got known
after collections of poems through his three volume prose writing
'Laughable Loves', created and published between 1958 and 1968. In his first
novel, 'The Joke' (1967), he deals with Stalinism.
Kundera got known
after collections of poems through his three volume prose writing
'Laughable Loves', created and published between 1958 and 1968. In his first
novel, 'The Joke' (1967), he deals with Stalinism.
After the Sovjet
invasion at 21/08/1968 Kundera as one of the main figures of the put down
'Prague Spring' lost his permission to teach, his books had been removed from
all public libraries of the country. Because of his committment in the
revolution he got a publication prohibition already in 1970. His second novel,
'Life is elsewhere', was already published 1973 in Paris.  1975 Kundera
became guest professor at the University in Rennes (Bretagne, France). In 1979
he was deprived of the Czechoslovakian citizenship by the Czech government as
reaction to his 'Book of Laughter and Forgetting'. The following novels were
not permitted to be published in the CSSR.
1975 Kundera
became guest professor at the University in Rennes (Bretagne, France). In 1979
he was deprived of the Czechoslovakian citizenship by the Czech government as
reaction to his 'Book of Laughter and Forgetting'. The following novels were
not permitted to be published in the CSSR.
Since 1981 he is
French citizen. Since 1985 he gives only written interviews becaus he felt
himself often wrong cited.
1986 Kundera
published his first Oeuvre written in French language, the essay 'L'Art du
Roman' (The Art of the Novel).
In 1988 'Immortality'
has been his first novel written in French.
After a
lectureship for comparing language-sciences at the University of Rennes of
several years up to 1978 Kundera is a member of the lecturers of the noted
publishing house Gallimard.
He nowadays lives
together with his wife, Vera Hrabankova, in Paris.
In his in 1994
published essay 'Testaments trahis' (Testaments Betrayed) he settled up with
adulterators, interpretators and translators, because he counts himself to
their victims. So he let translate novels again in Germany. In France he later
doublechecked himself the transcriptions of all his works written in Czech.
Kunderas newer novels are the 1994 published 'Slowness' and
'Identity' from 1998.
In 2000 finally
Kundera published his actual book, but up to now only in spanish language
with the titel 'La Ignorancia'. It seems as if the publishing in
other languages will take some more months.
Kundera deducts his inspirations, as he underlines often enough, from the
Renaissance and from the reconnaissance with Boccacio, Rabelais, Sterne,
Diderot, but also from the works of Musil, Gombrowitz, Broch, Kafka and
Heidegger.
It is not only
that his publishers name rightly Kunderas books as classic of the 20th century,
as well as Kundera himself as one of the great novelists of its second half.
In contrary to other publicity addicted authors
Kundera cultivated the attitude to as a person fully disappear behind his
books. That is why he is said to be anonymous on his way frequently.
|
Милан Кундера. Бессмертие. Пер. с чеш. Нины Шульгиной. - Спб.: Азбука, 1996. - 365 с.; тираж 10 000 экз.; серия "Библиотека журнала "Иностранная литература"; ISBN 5-7684-0172-5. |
|
|
|
|
Кирилл Куталов |
|
http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/Kundera.htm
Вторая биография Кундеры
Milan Kundera
(b. 1st April, 1929) (Jan Čulík University of Glasgow)
Milan
Kundera is one of the most important contemporary Czech writers. He is one of
the few Czech writers who have achieved wide international recognition. In his
native Czechoslovakia, Kundera was regarded is an important author and
intellectual from his early twenties. Each of his creative works and each of
his contributions to the public political and cultural discourse always
provoked a lively debate in the context of its time. In the first part of his
creative career, Kundera was a communist, although from the inception, his
fellow-believers considered him to be an unorthodox thinker. The story of his
writing is a story of many Czech intellectuals of his generation: it is the
story of freeing themselves of the Marxist dogma and of gaining and
communicating important insights, based on the traumatic experience of life
under totalitarianism in Central Europe.
Milan
Kundera was born in Brno in the highly cultured middle class family of
Ludvík Kundera (1891-1971), a pupil of the composer Leoš
Janáček and an important Czech musicologist and pianist, the head
of the Brno Musical Academy between 1948 and 1961. From early years on, Kundera
learnt to play the piano with his father. Later, he also studied musicology.
Musicological influences can be found throughout Milan Kundera's work.
The
author completed his secondary school studies in Brno in 1948. He then started
studying literature and aesthetics at the Faculty of Arts at Charles
University, but after two terms he transferred to the Film Academy, where he
first attended lectures in film direction and then in script writing. In 1950,
he was temporarily forced to interrupt is studies for political reasons. After
graduation in 1952 he was appointed as lecturer in world literature at the Film
Academy.
Kundera
belonged to the generation of young Czechs who had not properly experienced the
pre-war democratic Czechoslovak Republic. Their growing up was greatly
influenced by the experiences of the Second World War and the German
occupation. Paradoxically, the experience of German totalitarianism instilled
in these young people a somewhat black-and-white vision of reality. It
propelled them towards Marxism and membership of the communist party. Milan
Kundera joined the ruling Czechoslovak communist party in 1948, still in his
teens. In 1950 he and another Czech writer, Jan Trefulka, were expelled from
the party for "anti-party activities". Trefulka described the incident
in his novella Pršelo jim štěstí (Happiness rained on
them, 1962), Kundera used the incident as an inspiration for the main theme of
his novel Žert (The Joke, 1967). Milan Kundera was re-admitted into the
Communist Party in 1956. In 1970, he was expelled from the Party for the second
time.
Milan
Kundera is an extremely private person and he guards the details of his
personal life as a secret, which is, as he says "nobody's business".
In doing this, he has been undoubtedly influenced by the teaching of Czech structuralism,
which argues that literary texts should be perceived on their own merits, as
self-contained structures of signs, without the interference of extra-literary
reality.
In
an interview with the British writer Ian McEwan, Kundera said: "We
constantly re-write our own biographies and continually give matters new
meanings. To re-write history in this sense - indeed, in an Orwellian sense -
is not at all inhuman. On the contrary, it is very human." Kundera feels
that it is impossible to produce an objective history of politics, just as it
is impossible to produce an objective autobiography or a biography.
He
strictly controls the public information about his life. In the latest French
editions of Kundera's works, his "official biography" consists only
of two sentences: "Milan Kundera was born in Czechoslovakia in 1929 and
since 1975 has been living in France."
Kundera
now rejects and suppresses most of his literary output produced in the 1950s
and the 1960s. He asserts the right of the author to exclude from his work
"immature" and "unsuccessful" pieces of writing, the way
composers do this.
In
his mature works of fiction, Kundera creates an independent, self-contained
world, which is constantly analysed and questioned from a philosophical point
of view. However, it would be wrong to regard Kundera as a philosopher. He is a
proponent of no concrete school of thinking. He greatly enjoys playing with his
storylines and while analysing them rationally, he opens up an infinite way of
interpreting the presented facts. As Květoslav Chvatík has pointed
out, Kundera's mature fiction highlights the semiotic relativity of the modern
novel, seen as an ambiguous structure of signs. Playing with these signs
enables Kundera to show human existence as infinitely open to countless
possibilites, thus freeing Man from the limitedness of one, unrepeatable human
life. In concentrating on the sexual experiences of his characters, Kundera
analyses the symbolic social meaning of these erotic encounters, thus being
able to deal with the most essential themes concerning Man.
Kundera's
mature work is the result of his unique Central European experience of
disilusionment with the left-wing mythology of communism and also the product
of his fascination with the West European literary tradition, manifested in the
works of Rabelais, Diderot, Cervantes and Sterne, as well as with the Central
European authors Kafka, Musil, Broch and Heidegger.
Kundera's
journey to literary maturity was relatively long. In 1945, Kundera first
published translations of poetry by the Russian poet Vladimir Mayakovsky in the
journal Gong in Brno-Královo pole; in 1946, a surrealist poem by Milan
Kundera, written undoubtedly under the influence of cousin Ludvík
Kundera (born in 1920), a well-known Czech writer and poet in his own right,
was printed in the journal Mladé archy (The Young Notebooks).
Milan
Kundera's first book came out in 1953, five years after the communist takeover
of power in Czechoslovakia and during the period of rampant Stalinism. It was a
collection of lyrical poems, Člověk zahrada širá (Man, a
Wide Garden, 1953). The young author and many of his contemporaries saw this as
unorthodox departure from the poetics of literature which had been by this time
fully enslaved by the orthodox communist dogma. The period after the communist
takeover of power in February 1948 produced attempts at "socialist
realism" in Czech literature. Poems and novels were written about the
"mass proletarian movement", the "class struggle" and the "successful
progression of society towards communism". It was propaganda, made up of
cardboard cut-outs and empty political clichés.
In
his first collection of poems, Kundera attempted to assume a critical attitude
towards this type of "literature", but he still did so from a
strictly Marxist point of view. Nevertheless, he boldly transgressed against
most of the tenets of the then only permissible literary method of socialist
realism, as disseminated by the official state and party literary propagandist
Ladislav Štoll.
Člověk,
zahrada širá is a collection of inferior verse in which the author
systematically attempts to illustrate and enliven the official Marxist dogma by
personal experience. Thus the poet feels encouraged when he hears a young boy,
playing in Brno near a railway track, singing the hymn of the left-wing
movement, the Internationale. Kundera uses the atmosphere of the familiar Czech
surroundings as a symbol of comfort and peace. In all his work written before
leaving Czechoslovakia, Kundera is firmly rooted in is home environment. In
Člověk, zahrada širá, the communist regime in
Czechoslovakia is for Kundera a guarantor of all the values associated with his
home: of everything that is cosy and reassuring.
In
one poem, an old woman is confused by the new regime. She does not understand
the political jargon of the new era. But at the end of the poem she is happy
because her grandson, a communist Young Pioneer with his read scarf on his
neck, embraces her and takes her by the hand. Kundera seems to argue here that
the communist dogma is more palatable to people if it is communicated to them
by individual experience and by the power of human relationships.
An
example of early misogynic attitude by Kundera is a poem in which the hero, a
party activist who comes home after a hard day's work, complains that his wife
is not interested in listening to his account of his daily political
"struggle" at work. She only prepares supper for him. The
relationship of the individual to his community and the Party is examined in
several of these early poems: the hero criticises himself for being too
detached from his party companions. He realises that it is treason to be alone.
He promises to his Comrades that he will never again act on his own. This
particular poem clearly foreshadows one of the main themes of what is perhaps
Kundera's most profound novel Žert.
In 1955, Kundera published
a blatant piece of communist political propaganda, a long poem Poslední
máj (The Last May), a homage to Julius Fučík, the hero of
communist resistance against the Nazi occupation of Czechoslovakia during the
Second World War. Full of bathos, the work conforms to the tenets of socialist
realism and the strictly official communist version of history. The communist
journalist Fučík is transformed into mythical heroic figure in the
poem. Some commentators have speculated that Kundera had been commissioned to
write this propagandistic piece and did not really believe in what he was
writing.
In
a parallel to Christ's temptation by the Devil, Commissar Boehm,
Fučík's interrogator in a Nazi prison in Prague, takes the
communist activist for an evening out in a restaurant in the park on a hill
overlooking the city of Prague. The Nazi policeman hopes that the magic of
Prague on a June evening, symbolising the beauty of life, will make
Fučík try to save himself from death by giving up his communist
dream and that Fučík will start collaborating with his
investigator. Some of the typical Kunderaesque themes, to be used later in a
quite different context, appear even here. Moravian ethnicity is used as a
reaffirmation of the authenticity and the great value of national life. Three
young men in the restaurant sing Moravian folk songs boisterously. This gives
Fučík strength to resist Commisar Boehm's insistence. Fučík
becomes the epitome of full blooded, loving and energetic existence while Boehm
is crushed by the energy of Fučík emotions because he is an empty,
sceptical, lifeless shell.
Monology
(Monologues, first edition 1957) is a collection of poems in which Kundera
highlights betwen lovers. Here he rejects political propaganda and again
stresses the importance of natural, ordinary, authentic human experience.
Monology is a book of love poetry of a rational, intellectual inspiration. Many
poems are based on paradoxes. ("I cannot live with you, you are too
beautiful.") Some of them highlight the tension between emotion and the
intellect and the irrationality of love which often conquers even those who
would be guided by the intellect alone. These are also typical Kunderaesque
themes, developed later in his work. In some of the poems, the poet is
physically repulsed by women, while being attracted to them. Erotic passion can
be a burden. The sexual impulse is disconcerting. Lovemaking can sometimes
assume the form of escapism which hides unpleasant reality. The theme of the
pettiness of everyday female concerns, which makes women unaware of what is
really going on in life, re-appears in this collection, as does the theme of
one's beloved native country. Women are obedient, while men are warriors who
are trying to understand the meaning of existence. When attempting to do so,
they invariably break their heads against impenetrable walls. Some of the poems
deal with the quandaries of infidelity, others are preoccupied with the fear of
ageing and death. The theme of treason is present here in a slightly different
form. The latest version of Monology, published in 1965, includes a poem in
which the man's principal traumatic experience is being unjustly accused and
condemned by his party colleagues at a political meeting - the theme of
Kundera's early expulsion from the communist party, the main theme of
Žert, re-appears again. A woman's love is offered as a healing instrument
for all the ills that the man has experienced in the world.
In
this first stage of his creative career, Milan Kundera also wrote plays. In
Majitelé klíčů (The Owners of the Keys, 1962), which
was very successfully staged in 1962 at the National Theatre in Prague by the
experimental director Otomar Krejča, Kundera again attempted gently to
humanise totalitarian communism from within the framework of its own, official
referential system.
The
setting of the play is orthodox, but Kundera has given the story and the
characters his own, mildly reformist content. He has again filled the play with
many typical Kunderaesque motifs which are developed later in his mature work.
In
Majitelé klíčů, a young couple is sharing cramped
accomodation with their in-laws in a small Moravian town during the Nazi
occupation of Czechoslovakia. Young man Jiří Nečas and his
twenty-year-old wife Alena live in one room in the small flat, while Alena's
narrow-minded and pedantic parents, the Krůtas, live in another room in
the same flat. The cramped conditions, the narrow-mindedness of the parents and
the uncontrollably destructive emotionalism of particularly the female
characters (a typical Kundera theme) are the source of conflict. On a Sunday
morning, Jiří is contacted on the telephone by Věra, a woman
whom he knew when he temporarily became involved with the communist resistance
movement. Věra is on the run from the Gestapo and needs Jiří's
help. While trying to do so, Jiří clashes with the limitedness of
his in-laws and the childlike innocence of his wife. Věra turns up in the
flat and raises the suspicion of a Nazi concierge. Jiří is forced
to kill him. He hides his dead body in the flat. Now it is necessary for
everyone in the flat to run away, before the Gestapo arrives. But
Jiří cannot tell his wife and her parents what has happened. Their
reaction would be unpredictable. They would create a tantrum, attract the
attention of the Nazi secret police and everyone would be killed. The parents
keep harping on about irrelevant matters, accusing Jiří of having
temporarily appropriated both sets of keys to the house, locking them
inadvertently inside the flat for twenty minutes on the Sunday morning. In
despair, Jiří is trying to lure away Alena from the flat, but she
decides on a whim that she will not go out this morning. Eventually,
Jiří and Věra leave on their own, abandoning Alena and her
parents to certain death.
Majitelé
klíčů is a protest against destructive primitivism. It is a
play written from a communist point of view and members of the communist
resistance are given the expected high place in the official political
pantheon. The characters are still sufficiently black and white in order for
them to conform to the tenets of "socialist realism", prevailing at
the time. The play contains lyrical interludes, "visions", in which
the main character, Jiří, emotionally probes his own situation, the
experience of his life and his relations to people close to him. This is
lyricism which the author later came to reject. Kundera's afterword to the
printed version of Majitelé klíčů of 1964 shows that
his propensity to explain and interpret his own work to the reader dates back to
this early stage of his literary career.
All
the above discussed works by Milan Kundera were written by a communist and are
all unawovedly Marxist. Nevertheless they were always slightly in advance of
the times, although not so much as to make it dangerous for the author. Thus on
the official Czech literary scene of the 1950s and the early 1960s them were
regarded as major literary landmarks. They provoked much debate and made an
important contribution to the gradual process during which Czech literature
freed itself from the yoke of Stalinism.
In
Majitelé klíčů Kundera for the first time openly voiced
his revulsion over "the desire for order, which equals the desire for
death". Mr Krůta's view that it is necessary to "line-up, to
adapt one's life to the momentarily prevailing conditions and not to waste time
by futile philosophising" was an open reference to the beginnings of a
conflict between the relatively free-thinking Czech intellectuals, striving to
do away with the excesses of Stalinism, and the authoritarian Communist Party
leadership.
From
the middle of the 1950s, Kundera was a celebrity in communist Czechoslovakia.
He wrote for a number of literary magazines and his articles were followed with
considerable interest. In 1955, his article "O sporech
dědických" ("Arguing about our inheritance") stood
up for the heritage of the Czech and European avant-garde poetry, which until
then had been condemned as decadent by official communist literary scholars.
Kundera defended avantgarde poetry from a strictly communist point of view. He
argued that even his politically orthodox poem about Julius Fučík
(Poslední máj) could not have been written without the legacy of
Czech and international avantgarde poets. The art of the "decadent",
"receding" capitalist era may be pernicious, but a truly socialist
poet will avoid the unacceptable content and will use the formal creative
innovations of even "idealist", avant-garde poetry to produce truly
authentic, socialist art. The same applies to music and painting. Creative
imagination can be used for "ideologically correct aims". If you do
so, you actually apply Marxist dialectic properly. Those Czech socialist poets
who willingly cut themselves off from the glorious tradition of the Czech
interwar poetic avantgarde in the 1950s produced worthless doggerel instead of
poetry. In order to give credence to his arguments, Kundera quoted Lenin who
said that only vulgar materialists rejected philosophical idealism. The article
"O sporech dědických" even includes a statement which
speaks rather boldly of those poets who have been "buried alive in the
cells of incomprehensible abstraction". Might this be an implicit
reference to the many poets who were languishing in communist prisons at the
time?
Equally
well received was Kundera's literary study Umění románu:
Cesta Vladislava Vančury za velkou epikou (The Art of the Novel: Vladislav
Vančura's journey to the great epic, 1960). This work which analyses the
writings of an outstanding Czech interwar avantgarde prose writer (and member
of the communist party) Vladislav Vančura is a strictly Marxist defence of
experimentation in the field of narrative fiction. The work was significantly
influenced by the Hungarian Marxist theoretician György Lukács and
his concept of the development of the epic - but writers were not allowed to
quote Lukács in Czechoslovakia at that time.
Umění
románu is a part of Kundera's search for his own style of writing. While
analysing Vančura's fiction, Kundera realised the importance of an
ever-present, subjective narrator, a philosohoper, who evaluates and comments
upon the story as it develops. He rid himself of lyricism, descriptiveness and
psychological analysis and became aware that good fiction must be based on
dramatic conflict. He became very close to the poetics of the 18th century
novel of enlightenment.
This
first Umění románu is an important stage in the development
of Kundera's style. He wrote his analysis of Vančura's prose in short,
clear and easily understandable chapters, using the method of question and
answer. For the first time, Kundera here enters a systematic dialogue with his
reader, guiding him gradually through a number of experimental stages through
which Vančura's fiction has gone. Frequent examples are used to illustrate
Kundera's argumentation.
Vančura,
was tackling what Kundera saw as a serious problem: how to create convincing
and yet topical fiction, with active and independent characters, acting out
major conflicts, although he was living in the era of "stagnant,
alienated, dehumanising and decomposing capitalism, a time when dramatic
conflict between proud, independently acting individuals was no longer
possible". In this era, individuals were passive and were being crushed by
impersonal forces. In the study, Kundera attempts to show by what stylistic and
thematic devices Vančura tried to overcome this conflict and how he learnt
from the history of the European novel as he was doing so.
Kundera
disowns the work now. In a way, he has tried to negate its existence by
publishing a new volume of literary essays under the title The Art of the Novel
(1986) where some of the ideas first presented in the Vančura study are
developed to a much higher degree.
The
original Umění románu nevertheless remains a highly
competent and erudite work, even though it sets out from what many might now
see as false premises. The work was regarded as an important landmark in the
sphere of official Czechoslovak marxist literary scholaraship and was given a
special award "to mark the 15th anniversary of the birth of Popular
Democratic Czechoslovakia" as well as the 1961 annual prize of the
Československý spisovatel (Czechoslovak Writer) Publishing House.
In
the controversy that arose among Czech independent intellectuals about
Kundera's novels, written in the 1980s (see the debate in the Prague samizdat
monthly Obsah and the Czech emigré quarterly Svědectví in
1985-1988), some Czech writers criticised Kundera, once he had left for the
West, for stylising himself into a role of a dissident writer, as though he had
never been a communist. Thus, in an interview with Philip Roth, Milan Kundera
says:
"Then
they expelled me from University. I lived among workmen. At that time, I played
the trumpet in a jazzband in small-town cabarets. I played the piano and the
trumpet. Then I wrote poetry. I painted. It was all nonsense. My first work
which is worth while mentioning is a short story, written when I was thirty,
the first story in the book Laughable loves. This is when my life of a writer
began. I had spent half of my life as a relatively unknown Czech
intellectual."
Leading Czech literary
critic Milan Jungman reacted to this as follows:
"Those
who used to know Milan Kundera in the 1950s and the 1960s, can hardly recognise
him in this account. The self-portrait has been retouched in such a way that
Kundera's real appearance has vanished. Everything essential that formed
Kundera's image as a leading intellectual of the past few decades of Czech
history has been suppressed."
In
Czechoslovakia in the 1950s ad the 1960s, Kundera was a major liberalising
force in Czech official, communist literature. Even after the publication of
Směšné lásky (Laughable Loves) and Žert, which are
seen by many as heralding an openly anti-totalitarian stage of Kundera's
writing, in December 1968, four months after the Soviet invasion, in a article
published in Listy, Kundera sees himself as a "person belonging to the
world of socialism (i.e. communism)" and criticises Václav Havel
for using the arguments of a person who has never accepted communist ideals.
In
the second half of the 1960s, liberal members of the communist party, primarily
writers and intellectuals pushed for freedom in Czechoslovakia against the will
of the defensive authoritarian and bureaucratic communist party apparat. At the
Fourth Congress of the Czechoslovak writers, which took place in June 1967,
Czech writers clashed openly with the Communist leadership for the first time.
Milan Kundera became a leading figure in the movement for freedom. He gave a
major speech at the 1967 Congress of Czechoslovak Writers, setting the scene
for the debate that followed. The speech became a landmark in the history of
independent, sellf-critical Czech thought.
Kundera
looked back at the legacy of the 19th century Czech National Revival, at whose
inception a handful of Czech intellectuals resurrected the Czech language as an
instrument of educated discourse and brought the Czech nation from the
threshold of extinction. He referred to journalist Hubert Gordon Schauer, who
in 1886 asked the re-established Czech national community whether all the
effort recreating modern Czech national culture had been worth while. Would it
not have been simpler and wiser had the Czechs merged with the larger and more
sophisticated German community , rather than having to start from scratch in
all the fields of human activity, in their own language?
Small
nations aways face the possibility of extinction, said Milan Kundera. There is
no point in preserving a separate, Czech identity in the quickly integrating
world if this community is incapable of making its own, innovative and unique
contribution to mankind, in particular in the field of the arts. In order to be
able to do so, Czech literature and culture must develop in conditions of total
freedom. Truth can only be reached in a dialogue conducted by individuals who
are equal and free. Having experienced democracy, Nazi subjugation, Stalinism
and "socialism", the Czechs are favourably placed to produce a unique
testimony about man and his/her predicament, thus giving Czech culture meaning,
maturity and greatness. (Here Kundera may have been influenced by the views of
Jean Paul Sartre, who visited Prague in 1963 and predicted that the great novel
of the second half of the twentieth century would be produced by the search for
truth about the experiment of communism.) The question remains, concluded Kundera,
whether the Czech national community is aware of this opportunity and whether
it will use it. The speech showed again how firmly Kundera was grounded in his
own, national environment and with what feelings of responsibility he was
looking at the Czech national heritage and asking questions about the future of
his nation.
In
the author's own words, Kundera's first mature period started in 1958 (or in
1959, he has given both years) when he "found himself as a writer"
while working on his first short story, "Já, truchlivý
Bůh" ("I, the mournful God", 1958), which was later
included in the first of the three slim volumes of Směšné
lásky (Laughable Loves, 1963, 1965, 1968), but was eventually left out
from the definitive Czech edition of this book in 1981 because it was
superflous to the seven-part structure of the collection which Kundera imposed
upon it. "Já, truchlivý Bůh" was written as
relaxation during the hard work on the play Majitelé
klíčů.
Like
most of the texts in Směšné lásky, "Já,
truchlivý Bůh", is a brilliant miniature drama of intimate
human relationships. Most of these short stories are based on bittersweet
anecdotes which deal with sexual relations of two or three characters. Kundera
believes that looking at people through the prism of erotic relationships
reveals much about human nature. Thus he re-works the ancient Don Juan theme.
The modern Don Juan, however, no longer conquers women. He just boringly
collects them because the convention of the day demands this.
The
odd stories in Směšné lásky are based on strong
dramatic conflicts. The even numbers in the collection tend to be light and
playful variations on the themes of sexual pursuit. Most of them take the form
of witty dialogue, based on paradoxes. The even short stories form a background
framework for the strongly narrative odd stories. These evolve from what always
seems to the hero at the inception as an innocent joke. These jokes however
have catastrophic consequences both for their perpetrators and the victims.
Thus the arrogance of the perpetrator of the joke who belives that he can
control history and manipulate people is exposed as a fallacy.
Thus,
in "Já, truchlivý Bůh", the hero of the story, a
young man, fails to win a beautiful girl, a somewhat limited student at the
Brno conservatory.. As an act of revenge, he decides to make fun of her
snobbery and introduces her to his friend, an illiterate Greek immigrant, whom
he disguises, stage-manages and introduces him to the girl as the director of
the Athens Opera who is visiting Prague only for a short time. The Greek man
and the Czech girl make love and a beautiful boy is born of the union. His mother
proudly shows the son off, but where there was one unhappy young man, spurned
by the girl at the beginning of the story, there are now two. The Greek
labourer has hopelessly fallen in love with the Czech girl, but she does not
recognise him in his workman's clothes.
In
a highly dramatic short story "Falešný autostop" (The
Hitchhiking Game), a girl and a boy in a car at the beginning of their summer
holiday start playing a manipulative game. They pretend that they do not know
each another and that they have just met for the first time. The boy at the
wheel of pretends he is a womaniser. The girl plays being a hitchhiker who
looks for a sexual encounter. The game destroys their relationship. In
"Eduard a Bůh" (Eduard and God), a young teacher living in a
Stalinist society, where religion is frowned upon, tries to win the favours of
a religiously-minded girl by pretending that he himself is extremely devout.
This gets him into trouble with the school authorities who set about
re-educating him in the sprit of Marxist atheism. The young man is unable to
persuade them he was only pretending to be religious in order to get a girl
into bed. Such behaviour would not be regarded as serious. It would be an
affront to those officials who are genuinely trying to reeducate the young man.
When you try to explain what you mean to idiots, does not this mean that you
are also becoming an idiot, asks Kundera through one of his characters. Another
character in Směšné lásky argues:
"When
you believe in something literally, you will turn it into an absurdity through
your faith. Genuine adherents of a political philosophy never take its
arguments seriously, but only its practical aims, which are concealed beneath
these arguments. Political arguments do not exist, after all, for people to
believe in them, rather they serve as a common, agreed-upon excuse. Foolish
people who take them in earnest sooner or later discover inconsistencies in
them, begin to protest and finish finally and infamously as heretics."
Paradoxically,
truth is often left by the wayside in these stories of mutual sexual
manipulation. Once Kundera's characters start perpetrating a joke, they are
invariably forced by circumstances to stick to it as though they had always
meant it seriously. As Květoslav Chvatík has pointed out, this
highlights the crisis of language. A linguistic message, a sign, emancipates
itself from reality, imposes its meaning on it and violates it. People succumb
to stereotyped conventions which negate reality. The same theme reappears in
Žert and all the other, mature novels by Milan Kundera.
Směšné
lásky are playful, yet sophisticated, almost mathematical constructs
which create in the reader the feeling of vertigiousness due to their
complexity. The same impact is made by Kundera's novel Žert. Both
Směšné lásky and Žert attack primitivism,
pomposity and kitsch and are filled with scepticism and melancholy.
The
concepts of truth and untruth, authenticity and pretence, cynicism and
sincerity are shown as ambiguous. In Směšné lásky
Kundera for the first time uses a large number of witticisms, based on
paradoxes. He is particularly interested in seeing how facts imperceptibly
change into their opposites. By concentrating on human sexual games, Kundera
produces a modern version of the Don Juan myth, which he debunks at the same
time. He analyses the themes of human identity and authenticity and the
phenomenon of mystification. Several of the stories are very firmly set in the
Czech society of late Stalinism and provide authentic testimony about the
atmosfere of that era.
Kundera
regards Směšné lásky as his first, truly mature work.
He likes it best of all his work because the collection "reflects the
happiest time of my like" (the liberal 1960s). He completed the last story
of the collection three days before the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia,
which took place on 21st August 1968.
The play Jakub a jeho
pán (Jacques and his Master, first published in a French translation in
1981, first published in the Czech original in Brno in 1992) was written in
Prague in 1971, subsequent to the Warsaw Pact invasion of August 1968, after
Kundera had become a non-person in his native coutry, along with more than 300
other writers, The Russian-led invasion ended the 1960s period of
liberalisation in Czechoslovakia, which culminated in several months of total
media freedom in the spring and summer of 1968 and threw the country into a
harsh, neostalinist freeze. This rigid regime of post-1968
"normalisation" lasted practically unchaged until the disintegration
of communism in Czechoslovakia in November 1989.
As
the author explains in the 1981 French preface to the piece, the work was the
product of yearning for Western rationality, the spirit of doubt and
playfulness and the awareness of the relativity of human matters. It was a
reaction to the imposition of Russian emotionality on Czechoslovakia,
"emotionality, regarded as a value, as a criterion on truth". In
1975, it was staged in Ústí nad Labem without giving Kundera's
name as the author. Between 1975 and the fall of communism in 1989, the play
had a successful run of 226 performances there.
Jakub
a jeho pán is a homage to the writer of the French enlightenment, Denis
Diderot. It is a set of variations on his novel Jacques the fatalist. Inspired
by Diderot and the English writer Laurence Sterne, whose Tristram Shandy is a
masterpiece, made of playful digressions, Kundera set out to write a play whose
backbone are three amorous stories. The stories are intertwined in a continuous
dialogue of the play's protagonists, whose speech is constantly interrupted by
the other characters. Kundera gave up the unity of action and built up the play
using the techniques of polyphony and variation. The three amorous stories are
variations on the same theme. They resemble one another.
In
the preface of the play, Kundera attacks the notion of "seriousness".
In one of his typical, challenging, but apodictic sayings, which should not be
accepted at face value, he states that "to take the world seriously means
to believe what the world wants us to believe".
Kundera's
mature work is littered with statements like the one quoted above. Such
statements are paradoxes. They are both true and untrue at the same time. By
making them, Kundera encourages the reader to think independently and make his
own conclusions.
At
first Jakub a jeho pán certainly seems to be a playful, unserious,
amusing piece, dealing with the matters of love. As we go along, it transpires
that the play can be construed as a protest against the bleakness of the world
and the human predicament. The playful conversation about love-making and the
art of spinning a yarn becomes a shield which is supposed to protect us from
inhospitable reality, from our journey through life whose aim is uknown. As
Jakub says: "Don't be afraid, sir. I don't like unnecessary truths. An
unnecessary truth is the stupidest thing I know. For instance that we will die.
Or that this world is rotten. As though we did not know all this. Do you know
them, those men who heroically enter the stage to exclaim: This world is
rotten! The public applauds but Jakub is not interested. Jakub knew this two
hundred, four hundred, eight hundred years before them, so while they are
exclaiming that the world is rotten he is trying invent for his master a few
women with very large bottoms, the way his master likes it..." Life is
repetition. Everything has been here before. "The one above (i.e. God) who
has written all this repeated himself an awful lot, and since he has done so,
he has probably been making fun of us..."
Life
being a giant joke, perpetrated on members of the human race, is the main theme
of Kundera's perhaps most profound novel Žert (1967).
In
Žert, Kundera for the first time developed in a great depth the major
theme of his writing, namely the warning that it is impossible to understand and
control reality.This sceptical attitude is evidently linked with the history of
Kundera's own personal disillusionment with communism. Žert is a challenge
to the optimistic proposition, advanced by the communists in Czechoslovakia in
the 1950s, who believed that reality can be mastered and controlled by Man's
intellect and that Man can be the creator of his own destiny. With typically
Kunderesque irony, the author points out that the communists' optimistic belief
in an all-powerful human intellect, the culmination of rationalist optimism of
the Enlightenment, produced overall destruction, a negation of the world.
Žert
masterfully conveys the bleak atmosphere of triumphant Stalinism in
Czechoslovakia in the 1950s, whose propaganda and attitude to life was based on
officially manipulated lyricism. Kundera again warns against the
destructiveness of emotions, elevated to the status of truth.
Most
Western critics originally understood Žert as a political novel, a protest
against Stalinist totalitarianism. Protest against Stalinism is however only
one of many themes in the novel. Kundera rightly objected to such a simplified
interpretation. He pointed out that the 1950s in Czechoslovakia attracted him
as a scene for the novel only "because this was a time when History made
as yet unheard of experiments with Man. Thus it deepened my doubts and enriched
my understanding of man and his predicament". Czech critics of the 1960s
correctly understood Žert as a work probing the deepest essence of human
existence.
Like
in Směšné lásky, the story of Žert is based on an
anecdote. In order to win a girl, a young communist student makes an innocent
joke. The girl is attending a political training course at a summer camp. The
hero of the novel, Ludvík Jahn, frustrated by her absence, sends her a
provocative postcard. The postcard gives rise to a witchhunt. Ludvík is
expelled from the party, forced to leave university and ends up as a member of
a penal army unit, working in the mines. Many years later, in the 1960s,
Ludvík thinks an opportunity has arisen to revenge himself on a fellow
student, Pavel Zemánek, the main perpetrator of his downfall. He seduces
his wife, thus hoping to destroy their marriage. But Zemánek no longer
lives with his wife and by seducing her, Ludvík Jahn actually helps him.
Moreover, as a chameleon-like creature, Zemánek is now a liberal
reformer, fighting against communist authoritarianism in his country, and is
therefore extremely popular with students at the University where he teaches.
Thus Ludvík realises that Man is never in control. There is no point in
trying to revenge oneself. "Everything will be forgotten. There will never
be any redress for anything."
The
most traumatic experience of Ludvík Jahn is the realisation that his
closest friends did not hesitate to vote for his expulsion from the Party
because the Party had commanded them to do so. In a similar incident, the
soldiers in the penal unit Ludvík served in ruthlessly subject an
innocent individual to undeserved torment. Whenever Ludvík finds himself
in a group of people, he always wonders how many of them would be willing to
send their fellow mortals to death, only because the collective has demanded
this.
The
structure of Žert is derived from the principles of musical composition.
It is pluralist, polyphonic. and strictly mathematical Four main characters
tell their stories, often recounting the same events from their own points of
view. By confronting their accounts, the reader comes to the conclusion that
each of the characters is the victim of his or her own fallacious
interpretation of reality.
The
main character, Ludvík Jahn, is proud of his intellectual, analytical
abilities. But he fools himself when believing that he is in full, rational
control of his life. Even his actions are based on emotional impulse, just as
the actions of the thoroughly "lyrical", fully emotional characters
(Zemánek's wife Helena) who behave in a blatantly limited, embarrassing
and destructive way.
The
characters in Žert make numerous brief philosophical statements and
paradoxical wisecracks about life around them. As is always the case with
Kundera, these are only partially true. When analysing them, the reader is
supposed to exercise his own judgment.
The
main themes of the novel are the Joke that History (or God?) perpetrates on
Man, revenge, forgetting, identity and the crisis of language. The motive of
one's native land, extremely dear to Kundera, reappears at the end of the
novel, when everything is collapsing around the main character. Ludvík
turns, somewhat unconvincingly, to his native heritage but even that can give
him only a partial consolation, since even his home has been despoiled by the
arrogance of rampant official rationalism-turned into lyricism.
The
motif of sexual revenge in Žert has been questioned by some critics. They
have wondered whether it is actually possible to make love to someone as an
expression of hatred.
The
theme of love-making as an instrument of subjugation also re-appears in
Kundera's play Dvě uši, dvě svatby (Two ears, two weddings,
1968, printed in 1969 in the Divadlo journal under the original title
Ptákovina (Nonsense). Ptákovina is one of the works that Kundera
now excludes from the cannon of his writing as an immature piece.
Ptákovina
is first and foremost a work of political satire, in the tradition of East
European absurd drama. In this respect, it is quite closely related to the
early absurd plays by Václav Havel.
The
play takes place in a school, a useful symbol of society under totalitarian
subjugation. The piece is a variation on the themes of power, sex, violation
and manipulation of truth. Under totalitarian pressure, truth becomes
meaningless. People dissimulate and put on a multiplicity of masks. The play is
a condemnation of brutal, primitive totalitarian opression which borders on
sadomasochism with sexual undertones.
The
Headmaster of a school, who terrorises personally and physically the members of
his teaching staff, draws the shape of female sexual organs on the blackboard
in one of the classrooms. Later on, he adds, in a child's handwriting, "=
headmaster". A commission is set up to investigate this. An innocent pupil
is accused and he confesses because he hopes that thus his punishment will be
lenient. As a punishment, his ears are cut off. It has been agreed by the local
Party Chairman that the culprit's teacher, young Eva, in her twenties, should
also be punished, by whipping. The punishment is carried out by the Party
Chairman as a special sexual treat.
But
Eva is the Headmaster's lover and he is livid with jealousy. The Headmaster has
a reputation of a great womaniser - he has slept with 400 women - and thus he
is invited by Party Chairman to test the fidelity of his fiancée,
Růžena. Růžena succumbs to the Headmaster while he reports
to the Chairman that she has remained faithful. Spurred on by his own
fiancée Eva, Headmaster sleeps with Růžena to revenge himself
on the Chairman for whipping Eva. But Růžena records Headmasters
abusive comments about the Chairman and turns him into her sexual slave. She
particularly relishes that although the Headmaster hates her, must repeatedly
make love to her. A typical Kunderaesque theme of women who are at the same
time both attractive and repulsive makes an appearance in this play, as does
the theme of love-making as a punishment or an instrument of enslavement.
Život
je jinde (Life is Elsewhere first published in the Czech original in in
Toronto, 1979, definitive French translation published in Paris in 1975) is a
novel of exorcism. Milan Kundera started writing it during the liberal Prague
Spring of 1968 and completed it in 1970, during the first wave of the post-1968
clampdown in Czechoslovakia.
In
this novel, Kundera confronts his communist past and frees himself from it. He
viciously strips away all remnants of his youthful lyrical personality and of
communist ideology. The novel is a scathing, rational analysis of an immature,
narcisistic lyrical attitude, which is destructive in its impotence.
In
Jakub a pán, Kundera's and Diderot's characters created amusing stories
because they wanted to shield themselves from an inhospitable human
predicament. Život je jinde is a new variation on this theme. In Kundera's
view, as expressed in this novel, lyrical characters cannot cope with reality
and therefore create an independent reality, poetry, in which they then take
shelter. An artificial sign takes over the role of reality. In lyrical poems,
words turn into things. You do not need to reason in lyrical poetry: any
lyrical statement becomes the truth. The lyrical poet might say, "Life is
as futile as crying", or he might say "Life is as cheerful as
laughter" and in both instances he will be right. The statements become
true because of their beauty.
Lyricism
is often associated with a desire for a radical revolution. Lyrical poets
always try to find a better world in their poetry than is the one in which they
are actually living. The name of Kundera's novel, Life is elsewhere, is a
quotation from the French poet Arthur Rimbaud, used by André Breton as
the last sentence of his first surrealist manifesto in 1924. The same slogan
was used by the French students during their demonstrations in Paris in May
1968. Lyricists yearn for a different world. They are convinced that a radical
revolution can bring it about, argues Kundera.
Život
je jinde is a scathingly analytical account of the life of a fictitious young
poet, Jaromil. The fictitious poet is of Kundera's generation. His adventures
are compared and contrasted with key episodes from the lives of major European
lyrical poets: Shelley, Lermontov, Keats, Rimbaud, Mayakovsky and Wolker. Thus
the author makes a general statement about the perniciousness of lyricism. In
effect, he condemns the immaturity and destructiveness of the European lyrical
avantgarde, as well as their political views, based on emotions.
In
Kundera's view, lyrical poets are completely controlled by women. Jaromil is
subjugated by his neurotic, limited, middle class mother who systematically
falls victim to bad faith, reinterpreting facts and events so that they fit
into an emotional account of reality, favourable to her.
Jaromil
also cannot cope with reality. He escapes into the world of poetry. Yearning to
become a part of community of active individuals, he is easily used by the
Stalinist regime in Czechoslovakia after 1948. As a narcisist, he strives for
fame and adopts his poetry to the official demands of the day. Self-centredness
turns Jaromil into a monster. He reports his girlfriend to the police and she
is unjustly condemned to prison for several years. Soon thereafter, after an
altercation at a party, acting like a spoilt child, Jaromil stays out on a
balcony in a freezing weather, deliberately contracts pneumonia and dies a
banal death. By killing Jaromil grotesquely, Kundera does away with the
fallacies of his own youth.
In
his second version of The Art of the Novel, Kundera admits that the number
seven is an important principle of the mathematical structures of his novels.
Number seven appears in many of his works. Život je jinde is composed as a
seven-part musical composition, observing the laws of the sonata. The
individual parts of the novel are composed in varying tempos. Jaromil's story
is told dispassionately by a critical, third person observer. Towards the end
of the novel, the angle of vision suddenly changes. Jaromil disappears from the
centre of our attention and becomes an insignificant, irrelevant character.
This
is the first novel that Kundera completed as a banned writer. In this and in
his subsequent novels, he radically simplified his language, knowing that he
was writing for translators into foreign languages because his work could now
no longer be published in his native country.
Valčík
na rozloučenou (The Farewell Party, first published in Czech in 1979,
definitive French version La valse aux adieux, Paris, 1986) uses the form of
the French vaudeville. Completed in Prague in 1972, this was supposed to be
Kundera's last novel, a testament. Its original name was Epilog (The Epilogue).
Kundera
had been dismissed from his teaching post at the Prague Film Academy. His books
had been withdrawn from bookshops and libraries. Along with hundreds of other
writers, he was to be erased from Czech cultural history. Paradoxically, after
he had become a non-person, he experienced the feeling of total freedom: for
the first time in his life, he could write freely. He knew that his works would
"never be published in Bohemia and that no censor would be reading
them".
Valčík
na rozloučenou is formally a farce. Kundera has filled a comic French form
with a serious, ironic content. The result is an overwhelming feeling of the
grotesque. The novel deals with misunderstanding within the relationships of
five different couples. The main character, trumpet player Klíma, who is
deeply in love with his beautiful wife Kamila, realises his love for her by
sleeping with other women and by always "returning to Kamila". He has
had a brief sexual encounter with a local nurse in a West Bohemia spa. The
nurse has become pregnant, possibly by another man, but in an instance of
"typically feminine", emotional bad faith, she ascribes the pregnancy
to the famous musician Klíma, thus hoping to wield control over him.
Much of the novel is devoted to Klíma's efforts to persuade the nurse to
have an abortion. There is complicated interaction with the other characters.
Valčík na rozloučenou is a set of variations on the theme
human misunderstanding. Events, as they occur, are being interpreted by
characters incorrectly. Characters often ascribe to events interpretations
which are exactly the opposite of their real meaning. The many
misunderstandings culminate in an almost accidental killing of the pregnant
nurse. The perpetrator of the killing is never discovered. He leaves the
country The novel shows all human "dramas" as futile, insubstantial
and irrelevant.
The
atmosphere of the novel is influenced by the barren climate in Czechoslovakia
after the Soviet-led invasion of 1968. Politics is excluded from the scene: the
novel preoccupies itself with personal relationships, as they develop in the
characters' private sphere of existence. The protagonists are calculating and
selfish: they aim to gain advantage at the expense of other people. Their own
pleasure is the primary motivation of their behaviour.
The
oppressive atmosphere of the outside world intrudes on the scene of the novel
only occasionally: in the grotesque scene of intolerant old age pensioners,
chasing and catching freely wandering dogs in the town, in the proceedings of
the abortion commission and in the tendency of characters to create hidden
little cells of nepotism, of creating secret brotherhoods of friends who
exchange special favours, ignoring ordinary people and shielding themselves
from the inhospitable reality on the outside.
From
the contemporary Western point of view, the attitude of men towards women is
decidedly politically incorrect. Women exist primarily to be manipulated so
that men can get them into bed. Again, male characters are often both attracted
and repulsed by women. Men are "chased" into marriage. They are
almost pathologically afraid of the "trap of pregnancy" and are
horrified by the notion that their sexual adventures could produce
"brats". Older women are depicted with hardly concealed disgust. They
are personifications of the "mindless lyricism" which aggresively
allies itself with official ideology.
Another
Kunderaesque theme that re-appears in Valčík na rozloučenou is
the theme of violence, perpetrated on innocent individuals by society, with the
active approval of its members. Like Ludvík Jahn in Žert, Jakub, a
sceptical dissident intellectual about to leave his native country for ever,
bitterly re-examines the phenomenon and comes to the conclusion that anyone in
his native country would send innocent people to death without hesitation.
Paradoxically, it is Jakub who is guilty of the arbitrary killing of the nurse,
thus confirming, that in spite of his lifelong support for human rights, he
belongs amongst his countrymen.
In
1975, Milan Kundera and his wife left Czechoslovakia for France. Kundera was
invited to teach at the University of Rennes. In subsequent interviews, the
author confessed that the departure from the oppresive atmosphere of occupied
Czechoslovakia brought him profound relief. Yet, he continued to look at his
native country from the new, French, vantage point with a mixture of affectionate
melancholy.
The
departure from Czechoslovakia was a watershed for Kundera. He had studied
French literature and culture during his Prague years, yet when he settled
permanently in France and gained first-hand experience of life in the West, he
became able to compare and contrast in his work life in the West with life in
the East. His critical analysis of both societies was scathing. It took him six
years to complete his first "Western" book. During his first years in
the West, Kundera maintained that he had said all that he had to say and that
he would write no more works of fiction.
Kniha
smíchu a zapomnění (Book of laughter and forgetting,
completed in 1978, published in a French translation in 1979, in the Czech
original in 1981) heralded a new stage of Kundera's career. At the same time,
it is a continuation of Kundera's onslaught on the left wing myths of his
youth. From this point of view, Kniha smíchu a zapomnění
highlights again some of the themes dealt with in Žert and Život je
jinde, now from a Western vantage point.
After
Kundera had found out that the early Western translations of Žert were
inaccurate, he resorted to an extremely rational, intellectual style of
expression. Yet he did not give up the notion of writing as a game. While his
language is precise, the meaning of his statements remains ambiguous. An ironic
detachment is again a pervading characteristic of the novel.
The
structure of Kniha smíchu a zapomnění is looser than that of
his earier works. The work has again seven chapters, which consist of a number
of disparate stories, memories, anedcdotes and philosophical essays. As a
homage to Beethoven, the chapters are bound together by the musical principles
of polyphony and variation. Thus different aspects of the same facts are being
highlighted, one at a time. The novel is not supposed to impose any particular
truth on the reader, it examines things and asks questions.
The
starting point for Kundera's novels is a handful of key concepts. In Kniha
smíchu a zapomnění these are forgetting, laughter, angels,
pity, frontier. There are several story lines, whose characters never meet. The
narratives are related to one another only by being variations of the same set
of concepts.
Maybe
typically for someone who was forced to leave his native coutnry, the main
theme of the work is a struggle against forgetting. This theme present in all
chapters of the novel and is examined from many personal as well as social
angles.
At
the beginning of the novel Mirek is looking for the letters he wrote to one of
his lovers when he was a young man, so that he could destroy them and change
the past. He, like a novelist, feels he is entitled to rewrite his own life.
The Czech emigré Tamina, stranded in France, is on the other hand trying
desperately and in vain to reclaim the letters she had written to her now dead
husband in Prague while they were still living in there. She wants to be able
to recreate the memories of her life with him, which are fading fast. She is
trying to reinforce her disappearing past. Forgetting is a characteristic of
childlike people without history. In the East, forgetting is forced upon people
by the authorities, in the West, people embrace forgetting of their own
initiative.
The
other main theme of the novel is laughter. Angelic, optimistic, collective
laughter, expressing a simple joy being alive, is a sign of mindless
destruction of individuality. Devilish, subversive laughter blasphemes against
the ideal of divine perfection. It pricks pomposity, whether it be the
seriousness of group sex or of attempts to create an ideal, communist society.
Tamina's
story is also a story of misunderstanding. As in other prose works by Kundera,
there is never any meeting of minds. Everybody interprets what is going on in
his or her own way. All action changes its meaning depending on circumstances
and on the angle of vision.
Eventually,
Tamina is taken from her isolation in France to an island inhabited by a
community of young children who play all the time and are at the same time
subjected to rigid discipline. This is an obvious parallel to life in a
communist state, but maybe also to the mindless consumerist society of the
West? In trying to escape from the island, Tamina drowns.
In
a soul-searching manner, Kundera again re-examines the communist past of his
young years. He sees it the communist revolution as a "deed which has got
out of hand, it has escaped from under the control of its creators". He
contrasts the enthusiasm of the early youthful Czech communist revolutionaries
with the arid regime of post-1968 Czechoslovakia. For the rest of their lives,
he concludes, the young revolutionaries were unsuccessfully trying to re-capture
their original deed which had emancipated itself from them. The work draws
deeply on Kundera's personal experiences and on historical facts, but it is not
an autobiography, nor is it a documentary. The author's personal experience and
the historical events are elevated to the realm of fiction to make a personal
statement.
Mirek, the intellectual
from the first chapter, who wishes to reclaim and re-write his past, is
followed by the secret police and eventually is sentenced to a long prison
term. A chapter deals with two limited American students in Paris and their
similarly simple-minded teacher who think that the have understood Ionesco's
absurd humour. The chapter entitled "Lítost" (Pity) is a study
of an emotion which Kundera defines as "a state of torment which arises
when we look at our own wretchedness". The final chapter,
"Frontier", gives examples of how easy it is to overstep the
borderline beyond which things lose their meaning.
In 1978 Milan Kundera and
his wife moved to Paris where he taught at the Ecole des Hautes Etudes. It was
in Paris in 1982 that Kundera completed the novel Nesnesitelná lehkost
bytí (The Unbearable Lightness of Being, first published in Czech in
Toronto, 1985, definitive French edition 1987), his most popular work with Western
readers and critics alike. It was particularly this novel which made Milan
Kundera an internationally well-known author, especially after it was turned
into a film by director Philip Kaufman in 1988. However, Kundera was unhappy
with the film. Neither this movie nor Jaromil Jireš's film version of
Žert, made in Czechoslovakia in 1968, do not in any way do justice to the
complex, polyphonic structure of Kundera's novels. Kundera, however, likes
Jireš's version of Žert. Some Czech critics think that the best film
ever made of a work by Milan Kundera is Nikdo se nebude smát (Nobody
will laught) the 1969 Czech film of a short story from Směšné
lásky, directed by Antonín Kachlík.
Nesnesitelná lehkost
bytí returns to a more traditional narrative storyline, although even
here the narrator continually interrupts it, explaining to the reader what he
means and examining highlighted problems from different angles.
While many of Kundera's
frequent witticisms are full of insight, some of them do not always ring true.
This may be deliberate provocation. Alfred Thomas has pointed out that the
narrator's voice in Kundera's novels must be regarded as one of many voices in
the polyphony of views, competing for the readers attention. The events of the
novel often transcend the narrow interpretations offered by the narrator.
Even in this novel, Kundera
uses the principle of playfulness and variation as an instrument to examine
matters from all sides. He tells the stories of two couples, Tomáš
and Tereza and Sabina and Franz. The author again compares and contrasts a
number of major themes of his work. Nesnesitelná lehkost bytí
examines Nietzsche's myth of Man's eternal return. Kundera concentrates on the
fact that Man lives only once. Einmal ist keinmal. Man has consciousness and
reason, but his life is unrepeatable. Hence one cannot correct one's mistakes.
This realisation is obviously still connected in the author's mind with his
attempts to live down the experience of his communist youth. Since life is
unrepeatable, we experience vertiginous lightness, a total lack of
responsibility.
The idea of lightness,
which Kundera takes from the Greek philosopher Parmenides, and which originally
meant playfulness, turns into lack of seriousness, into meaningless emptiness.
Kundera also deals with the
concept of kitsch, which he has taken over from the German writer Hermann
Broch. Kitsch is a beautiful lie, which hides all the negative aspects of life
and deliberately ignores the existence of death.
A number of typical
Kunderaesque themes recur in the novel. The main hero, Tomáš, is
again a passionate womanizer, yet he loves his wife. He is at the same time
attracted and repelled by women. The mother of his wife, Tereza, a typical
"lyrical" character, is an agressive proponent of the notions of
collectivism, optimism and lack of privacy. Tereza however is shy and yearns
for privacy. Destructive lyricism is again associated with left wing political
ideology, both in Eastern Europe in the 1950s and in Western Europe in the
1980s. It is comical that people often interpret the same phenomena and events
each in their own way, due to their differing experience, mentality and
background. Thus, understanding between people is impossible.
Nesnesitelná lehkost
bytí is a story of a Czech neurosurgeon Tomáš and his
photographer wife Tereza who defect to Switzerand after the Soviet invasion of
1968. But Tereza cannot stand Tomáš's infidelities and returns to
Czechoslovakia on an impulse. Tomáš follows her, giving up his good
job. On his return to Czechoslovakia he becomes a window cleaner. (Czech
critics complained that this does not ring true. Of all the professionals who
were forced to abandon their work and support themselves in menial jobs after
the post 1968 clampdown, medical doctors were an exception - they were not
persecuted in this way.) Eventually, to escape the attention of the secret
police, the couple move to the Czech countryside, where they live in happiness
and humility and after a few years die in a traffic accident.
The parallel relationship
of the Czech emigré painter Sabina with a Swiss lecturer Franz is based
on misunderstanding, which follows from their different backgrounds. The novel
even includes a "Vocabulary of misunderstood expressions", used quite
differently by Franz and Sabina. Franz is a victim to a number of naive myths.
He dies a nonsensical death in Thailand, during a protest march against the
genocide in Cambodia.
While being hailed as a
masterpiece in the West, this work became the subject of fierce controversy
among independent critics within Czechoslovakia in the 1980s. Perhaps
misunderstanding that the narrator's emphatic pronouncements are to be taken by
the reader as only one of the many polyphonic voices, as an invitation to
critical thinking, Czech commentators felt that the author's vision of reality
was too black and white to be convincing.
Milan Kundera always
expressed a strong affection for his native country. His Czechness, the
familiar surroundings of his native land and its culture was for a long time one
of the highest values for him. Later, he broadened the concept of the culture
to which he belonged to the concept of Central Europeanness. In many of his
writings and interviews he has argued that Central Europe gave the birth to a
unique civilisation, with great figures such as Freud, Einstein, Mahler,
Janáček, Broch, Kafka and Musil. In Kundera's view, this culture
was destroyed by Russian subjugation. In December 1968, four months after the
Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia, in an essay entitled "Český
úděl" ("The Czech Destiny", Listy, 19th December
1968) Kundera professed that he believed "in the great mission of the
small nations which in today's world have been delivered to the tender mercies of
the Great Powers. (...) By their incessant search for their own identity and by
their fight for survival, the small nations resist the terrifying push towards
uniformity on this earth, making it glitter with a wealth of traditons and
custons, so that human individualsm, marvel and originality can find a home in
this world." In the 1980s, Kundera started an international controversy
(see his interview with Philip Roth, The New York Review of Books, 30th
November, 1980, which is now included as an "Afterword" in the
American edition of Kniha smíchu a zapomnění, or his essay
"The Central European Tragedy", published in The New York Review of
Books on 27th April, 1984) by directly accusing the "unEuropean,
alien" Russians of destroying Central European culture and, in effect,
threatening Europe's culture as a whole. The Russians weren't "one of
us" : "Nothing could be more foreign to Central Europe and its
passion for variety than Russia: uniform, standardizing, centralising (...)
determined to transfor every nation of its empire into a single Russian
people..." Kundera has no time for Russian culture and even Dostoyevsky
himself becomes for him a symbol of Russian intolerance and brutality. In his
preface to the American edition of Jakub a jeho pán (New York, 1985)
Kundera says: "What irritated me about Dostoyevsky was the climate of his
novels: a universe where feelings are promoted to the rank of value and truth.
For Kundera, Dostoyevsky is a non-European who lacks the Western balance
between rationality and sentiment. Kundera's assertions provoked an international
debate; some people agreed with him, others especially the Russians (including
the poet Joseph Brodsky) disputed his views. Czech dissident writer Milan
Šimečka pointed to the fact that Central European culture was not
destroyed by Stalin, but by Hitler's Germany.
With hindsight of almost
twenty years, it is now obvious that it is questionable to ascribe guilt to
whole "nations" and to judge people and "their cultures" by
their alleged national characteristics. Surely world culture has always rested
on the achievements of individuals who produced their work as a result of their
talents, often regardless of their nationality and they invariably had to defy
their natural environment. Since the fall of communism, the political culture
of the Central European countries often displays characteristics which seem to
be closer to the Russian or the old Austrian imperial model than to the West
European model. This is maybe one of the reasons why since the fall of
communism, Milan Kundera has cut almost all his ties with his native land,
visiting it rarely. He says that it is difficult for him simultaneously to
follow events in two different countries and since he lives in France, he has
adopted France as the place of his home. Three major novels by Kundera
(Život je jinde, Kniha smíchu a zapomnění and
Nesnesitelná lehkost bytí), not speaking of his latest work (La
Lenteur and L'Identité) have so far not been published in the Czech Republic.
The Novel Nesmrtelnost
(Immortality, first published in French in 1990, in Czech in 1993) still
reflects Kundera's Central European experience, but rather indirectly.
Nesmrtelnost is the most French of Kundera's novels. The author has produced a
most accomplished version of his own, specific genre of the novel based on
models from Classicism: a "novel as a debate" whose characters are
personifications of ideas and whose narrator freely interrupts the story and
reflects on it for the benefit of the reader. Discursive passages are more
frequent in Nesmrtelnost than they were in Kundera's earlier work, yet the book
retains the character of a polyphonic fictional narrative. It is not a
collection of literary essays.
There are no Czech
protagonists in Nesmrtelnost. The characters are French. The work is a
criticism of our civilisation towards the end of the twentieth century, based
on concrete experience of life in France. This concrete experience is
elucidated by comparisons with relevant events from European cultural history.
Thus Nesmrtelnost is primarily a European novel with French overtones.
One of the major grievances
that Kundera holds against our contemporary world is its tendency to reduce
everything to a superficial, easily digestible simplification. This is why he
now deliberately writes his novels in such a way that they could not be easily
summed up. Indeed, in his view, it is the most typical feature of a viable
contemporary novel that its "story" cannot be re-told in a few
sentences. Kundera deliberately produces a complicated structure, a mosaic of
events where themes and motives from various parts of the novel are
interrelated in an intricate, precarious balance. As in his previous novels,
narratives and characters are developed in order to analyse certain selected
themes from many different angles. The selection of these themes is still
primarily determined by Kundera's traumatic experience from Eastern Europe and
by the period of his adjustment to life in the West, which made him compare the
cultural differences and similarities in both parts of the European continent.
Nesmrtelnost is first and
foremost a story of a French woman Agnes, born in the mind of the writer of an
attractive, flirtatious feminine gesture, made at the beginning of the novel in
the presence of the fictitious author by an old lady to a young teacher of
swimming at public baths. The author interprets it as a gesture of desire to
enter history, to become famous and thus gain "immortality". Kundera
explores this theme further in the story of Bettine von Arnim and her relationship
to the great classical German poet Johann von Goethe. Bettine was attracted to
famous men and wanted to enter history with them. In 1835 she published the
love letters she had allegedly exchanged with Goethe. It did not transpire
until the twentieth century that she had considerably rewritten the original
letters, to create an image, highly flattering to herself.
The creation of fake images
is another major theme in Nesmrtelnost. Ideologies like communism or Nazism no
longer present a threat. The real threat now comes of "imagology",
i.e. from the media and advertising. The "imagologists" create
systems of ideals and anti-ideals that people are supposed unthinkingly to
follow, thus reality is destroyed. Agnes unsuccesfully fights the deadening pressures.
Another character, defying the "Diabolo" i.e. the monster of the
modern world, is the fictitious narrator's grotesque friend, Professor
Avenarius, who punctures the tyres of parked cars during his forays into the
night streets of Paris as a gesture of hatred aimed against the destructiveness
of the modern civilisation.
The theme of accidental,
unintentional outcomes of events, familiar primarily from Žert, recurs
here. Avenarius happens to puncture the tyres of the car, owned by Agnes's
husband Paul, so that he is delayed when travelling to a country hospital,
where Agnes had been taken after a car accident, caused by another
unpremeditated event. Paul arrives at the hospital fifteen minutes after
Agnes's death.
Another topic to which
Kundera returns in Nesmrtelnost is the conflict between the maturity of
classicism and juvenile immaturity of romanticism. One whole section of the
novel is an extended critique of sentimental lyrical poets and their attitudes.
Romantic love is always an unconsummated, pre-coital emotion.
Ecological themes are very
important in Nesmrtelnost, contributing forecefully to the overall impression
of superficial, mechanised, dehumanised and alienated modern world.
Nesmrtelnost poses the question whether contemporary Man could escape from the
crisis of emptiness and absurdity of existence in a world without God.
Kundera's heroes live in an enclosed world of closed systems, which reproduce
themselves and have nothing in common with reality.
Slowness (La Lenteur, 1995)
is the first work of fiction that Milan Kundera wrote in French. An
accomplished short novel, a mature example of Kundera's art, it is a playful
postscript to the whole prosaic work by Milan Kundera and an amusing
counterbalance to the seriousness of Nesmrtelnost.
The novel displays all the
well tried and tested characteristics, methods and approaches of mature writing
by Milan Kundera. Slowness is again a bravura performance, a mathematical,
music-like structure, built up from a number of abstract basic themes, from
which the author creates his characters, to explain his point. The work is
again a mixture of essayistic contemplation, which interrupts several narrative
lines, most of them from the present and one from the past. In the spirit of
playfulness, Kundera includes a fictional version of himself and his wife in
the novel.
The starting point is a
debate about the meaning of hedonism. Pleasure is defined, in the words of the
Greek philosopher Epicurus, as absence of suffering. In the past, the notion of
sensuality was associated with slowness. The slower one acts, the greater is
the intensity of memory. The present-day obssession with speed is for Kundera
an epitome of superficiality and emptiness. Kundera intensifies his criticism
of contemporary Western civilisation which is manipulative, empty, without
knowledge and without wisdom. The protagonists whom he analyses are spoilt,
vainglorious and pretentious. Kundera contrasts their attitudes and their
perceptions of reality and creates a grotesque image of the contemporary world.
The novel is set in a
French chateau, where Kundera and his wife Věra spend a midsummer night.
The castle becomes a microcosm, a stage where Kundera can closely observe the
preposterous behaviour of his characters and compare it to an amorous encounter
which took place in the same castle two hundred years before, and was recorded
in a novella published in 1777. The manipulation carried out by the members of
the nobility in the 18th century was more sophisticated than the behaviour of
people today, which is clumsy, illiterate and grotesque. All human encounters
in the novel are based on misunderstandings which are so absurd that they
become comic.
A congress of entomologists
takes place in the castle. One of them is a Czech scientist, a former
dissident, now in the Czech government, who was forced to support himself as a
manual worker for twenty years in Czechoslovakia. This fills him with
self-centered pride. One of the grotesque scenes in the novel concentrates on
him. When he is called upon to give his paper, he is so moved by the occasion
that he makes an extempore emotional speech about his past persecution and then
leaves the platform without actually giving his lecture, totally forgetting
about it. He becomes a laughing stock among the present French scientists who
misspell and mispronounce his name, do not know where his country is, confuse
it with other countries and are basically disinterested in anything but
themselves.
Two men and two women are
paired up by Kundera in the castle, but their relationships are unsuccessful,
due to misunderstanding. These misunderstandings culminate in a night scene of
simulated copulation at the side of the hotel swimming pool and a histrionic
jump into the pool by one woman in an evening dress. All this is witnessed by
the Czech visitor, who strips into his swimming trunks in order to display his
muscles in total incomprehension.
Kundera again comments on
contemporary civilisation on the basis of his experience in France and
concludes that the contemporary world is crazy in many of its aspects. The
author makes fun of the self-obsessed French pseudo-intellectuals, politicians
and other figures in the public eye. He unmasks their pretentiousness and shows
the sordid motivation of their behaviour.
Identity
(L'Identité, 1998) is another short novel that Kundera has written in
French and it is yet another example of Kundera's accomplished art. The work is
a love story; in a way it can perhaps be seen as a sophisticated variation on
Kundera's short stories in Směšné lásky, in particular
"Falešný autostop". Here, too, a relationship between two
lovers (this time a middle-aged pair) is put to the test by what at the
beginning seems like an innocent, although manipulative game. The heroine of
the story, Chantal, complains that "men do not look at her any more"
and so her lover, Jean-Marc, begins sending her anonymous love letters. The
game, which is interpreted differently by the man and the woman, leads to a
misunderstanding which almost breaks their relationship. A catastrophe would
ensue, had Kundera not avoided such a clear ending: towards the end of the
playful, though serious work, which is again structured like a musical
composition, the author insists that at some imperceptible point, the story had
became a dream - and its dream-like nature certainly encourages this ambiguous
interpretation. Thus instead of a tragedy, the work remains on the level of a
warning: Identity is a homage to the value of an authentic love bond in a
hostile and primitive contemporary world. Love is the only value that protects
us from the outside world - even though its fundament may be uncertain because
our perception of the world is unreliable. Typical Kunderaesque themes
reappear: love, death, the imperfection of human bodies, the volatility of
human identity, yearning for privacy in the stereotyped, aggresively
collectivised world, culture and thoughtfulness as against commerce,
advertising, loud music in public places and boredom.
When Milan Kundera was
young, like many of his young compatriots, he fell into the trap of destructive
ideology. It took him almost twenty years to free himself from its constraints.
The deep trauma taught him to assume a sceptically critical attitude towards
reality. It taught him how important pluralism is. It made him realise that man
is infinitely fallible and that he/she does not understand his environment.
Once Kundera left
Czechoslovakia for the West, he was able to use the critical faculties he
gained as a result of his traumatic encounter with communism, in order to
compare and contrast the West European and the Central European experience in
such a was as to uniquely elucidate important aspects of man's contemporary
existence.
First of all Kundera has
highlighted the contemporary crisis of language, a crisis of meaning and a
crisis of communication. His novels are novels about various forms of delusion.
In many of his works, a text, a sign, or an image becomes alive and begins to
act in the real world with an unstoppable, destructive force.
© Dr Jan
Čulík, 2000
Биографическая справка Kundera, Milan
(1929- ),
Czech novelist, poet, playwright, and short-story writer, known for combining
humor, eroticism, and political criticism in his writings. Born in Brno, the
son of a noted concert pianist, he attended Charles University in Prague. From
1958 to 1969, he taught film studies at the Academy of Music and Dramatic
Arts in Prague. He also worked as a laborer and as a jazz musician.
In 1968, after the Soviet invasion of Czechoslovakia, the Czech government
began requiring all literature to endorse and praise Communist ideals. Kundera
refused to conform to the new requirements, and the following year he was fired
from his job and publication of his works was
banned in his country. In 1975 he emigrated to France, where he
taught comparative literature at the University of Rennes from 1975 to 1980 and
at the Йcole des Hautes Йtudes in Paris after 1980.
Kundera's
first novel, Юert (1967; translated as The Joke, 1969),
and a volume of short stories, Smм?nй lбsky
(1963-1968; Laughable Loves, 1975), attacked Communist political
repression through witty and ironic depictions of the lives of
Czech people. After 1968, most of Kundera's writing was first published either
in French or in English. Other novels include Юivot je jinde (written 1969; first published as Life is
Elsewhere, 1974) and Kniha smichu a zapomnмnн (first published in French, 1979; The Book of
Laughter and Forgetting, 1980), an anthology of reminiscences that led to
the revocation of his Czech citizenship. Nesnesnitelnб lehkost bytн (first published in French, 1984; The
Unbearable Lightness of Being, 1984), the story of a love affair set
against a background of government bureaucracy and political oppression,
established Kundera as one of the most important writers in Europe. It became a
key text in the history of Eastern European dissidence for its portrait of the
emptiness of life within an authoritarian state and in 1988 was made into a
successful motion picture. Kundera's later works
include Nesmrtelnost (written 1990; Immortality,
1991); and La lenteur (1995; Slownkunderaess,
1996).[1]
Библиография Кундеры. The Milan Kundera Bibliography

Poetry:
- Man: A Broad Garden,
1953
- The Last May,
1954-1955-1961
- Monologues,
1957-1964-1965
Plays:
- The Owner of the Keys,
1962.
- Two Ears,Two Weddings
(Slowness), 1968
- The Blunder, 1969
- Jaques and His Master,
1971 (Hommage to Diderot in 3 acts)
Fiction:
|
|
- The Joke, 1965
- Laughable Loves, 3
parts: 1963-1965-1968, complete 1969
- Life is Elsewhere,
1969/70
- The Farewell Waltz
(earlier translation: Party), 1970/71
- The Book of Laughter and
Forgetting, 1978
- The Unbearable Lightness
of Being, 1982
- Immortality, 1988
- Slowness, 1994.
- Identity, 1996
- 'La Ignorancia', 2000
(up to now only in Spanish) NEW
- About the Disputes of
Inheritance, 1955 (an essay on the problem of creative trends in the Czech
literature)
- The Art of the Novel,
1960 (essay on Vladislav Vanèura)
- The Czech Deal, 1968
(essay on the problem of the position of the Czech culture in the actual
politic situation)
- Radicalism and
Exhibitionism, 1969 (essay as answer to Vaclav Havels polemic reaction to
'The Czech Deal'
- The Stolen West or the
Tragedy of Central Europe, 1983
- The Art of the Novel,
essay in 7 parts, 1985 (essay about literature and the tradition of the
novel in European culture)
- Testaments Betrayed,
essay in 9 parts, 1992
(You can buy
all the books directly with amazon.com through clicking on the pictures)
Info Point
|
Informations about (find
more infos in the German
version) Books
about Milan Kundera - find a list of
books A
talk with Milan Kundera - Interview by
Olga Carlisle The
most original book of the season - Philip Roth
interviews Milan Kundera Paintings
with Kunderas figures as subject
by Phil Gyford |
An
Introduction Into Variation by Milan Kundera Why
Milan Kundera is wrong about Dostojevsky - Reply to
'Introduction' by Joseph Brodsky Anti-Agency: The Rhetorical
Situation, Guilt, and the Power of Laughter in the Novels of Milan Kundera Kitsch
in the work of Milan Kundera Beautyfying
lies and polyphonic wisdom- About 'The Art Of The
Novel' by Perry Meisel Kunderas
Mixed Feelings by Burton Bollag |
|
|
|
|
|
Премии. Prizes and Awards
1964
States prize of the CSSR
1968 Prize of the authors confederation of the CSSR
1973 Prix Médicis for the best foreign novel published in France ('Life
is Elsewhere")
1978 Premio letterario Mondello for his book 'The Farewell Party' in Italy
1981 American Common Wealth Award for his complete works
1982 European literatur prize
1983 Doctor honoris causa of the University of Michigan, USA
1985 Prize of Jerusalem
1987 Crititians prize of the Académie Francaise for his book "The
Art of the Novel"
1987 Nelly-Sachs-Preis
1987 Austrian states prize for European literature
1990 Knight of the Légion Étrangère (France)
1991 First prize for foreign literature of the English newspaper The
Independent
1994 Jaroslav-Seifert-Prize for his novel 'Immortality"
1995 Czech medal of merits for his contribution to the renewal of democracy
2000 Herder-Preis of the University of Vienna / Austria

|
[The Joke] |
|
[Slowness] |
|
[Identity] |
О книгах
Кундеры
Таблетка бессмертия Милана Кундеры. Ирина Каспэ
Или
тело, заплывшее толстым слоем жизни
Милан Кундера. Прощальный вальс.
Бессмертие: Романы. / Пер. с чешского Н.Шульгиной. - СПб.: Амфора, 1999, 539 с.
KАК И МНОГИЕ романисты, преодолевающие линейную последовательность сюжета, Кундера отдал должное Совпадению.
"- Как раз в эту минуту, когда ты входишь в бассейн, героиня моего романа завела машину, чтобы ехать в Париж.
- Дивное совпадение, - сказал явно обрадованный профессор Авенариус и опустился в воду".
Не менее дивно обнаружить на книжных прилавках переизданное "Бессмертие", несколько лет назад выпущенное "Азбукой" в том же переводе и с той же репродукцией сэра Эдуарда Борн-Джонса на обложке.
Однако титульный лист амфоровского издания напоминает об условности всех совпадений, поскольку на этот раз помимо "Бессмертия" в книгу включен чешский роман Кундеры "Прощальный вальс". Он же под заглавием "Вальс на прощание" должен в ближайшее время выйти в издательстве "Азбука". Итак, замкнув круг и не вдаваясь в сложную кундеровскую классификацию случайных и предумышленных совпадений, попробуем начать сначала.
Сложная классификация совпадений, закольцованное повествование и витиеватая спираль вымысла - это, разумеется, поздний, парижский Кундера. "Прощальный вальс", законченный незадолго до эмиграции, еще полон солнечной, карнавальной и зачумленной витальности. Социалистического абсурда вполне достаточно для декораций: так же, как событийной путаницы - для интриги. Над всем этим веселым, лихорадочно размножающимся миром витает призрак голубой таблетки с ядом. Если станет совсем невмоготу, существует убежище - холодное, по-медицински стерильное прикосновение смерти. При обнаружении иных способов отъезда - турпоездка, командировка, что еще? - таблетка утрачивает всякую надобность и оставляется дома. Как бомба замедленного действия она разрывается за спиной эмигранта, унося чью-то жизнь с навсегда покинутой родины.
Эмигрант несется навстречу бессмертию с той же скоростью, что и стареющая женщина. Прошлое и будущее, свое и чужое, холодное и теплое равно открыты для усталого взгляда - почти не имеет значения, на каком из полюсов ты находишься в данный момент, в любом случае уже ничего нельзя потерять. Тело, заплывшее толстым слоем жизни, вмещает в себя множество историй, когда-либо происходивших на земле, - "Вне всяких сомнений на свете гораздо меньше жестов, чем индивидов". Оттого кажется, что написанное в Париже "Бессмертие" пренебрегает плотью и кровью ради слова и знака, приключением ради построения, персонажем ради повествования. Но, деля немногочисленные жесты, фразы, желания между чуть более многочисленными героями своего романа, Кундера по-прежнему пытается пересказать то, что телесно и осязаемо.
Игра в блестящего и тонкого собеседника, который с готовностью демонстрирует все этапы и механизмы создания текста, неотделима от игры в собственных персонажей. Их одинокие фигурки разбредаются по страницам и главам. Столкновения с ними нельзя избежать - наблюдая ли за прохожими, слушая ли радио, предаваясь ли самым абстрактным размышлениям. Не это ли принято называть любовью?
"- Я жду не дождусь шестой части. В роман войдет совершенно новый персонаж. А в конце части уйдет так же, как и пришел, не оставив по себе и следа. Не став ни причиной, ни следствием чего-либо. И именно это мне нравится. Шестая часть будет романом в романе и самой грустной эротической историей, какую я когда-либо написал. И тебе станет от нее грустно".
В тот самый момент, когда действительно становится грустно, собственно говоря, и хочется счесть читательские ожидания обманутыми, а авторскую стратегию - холодным математическим расчетом. Однако и этот расчет - часть дистиллированного мира за пределами смерти, за пределами распоясавшейся жизни, "неспособной удержать ни слез, ни мочи". Молчание, сдержанность, одиночество, бытие, небытие - бессмертие, для которого уже не нужна голубая таблетка с ядом.
Женщина, обнаружившая в зеркале во время секса признаки старения, перестает встречаться с любовником.
"- С тобой это никак не связано. Это касается только меня".
|
|
|
|
материалы: Независимая Газета © 1999-2000 |
Опубликовано в Независимой газете от
27.01.2000 |
The Unbearable Lightness of Being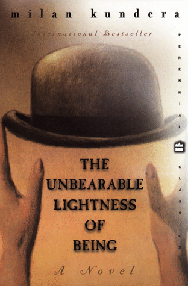
Novel in seven parts, written in 1982, first published
in French in Spring of 1984.
FOUR CHARACTERS
UNDER TWO TYRANNIES
Review by E.L. Doctorow
''I AM bored by narrative,'' Virginia Woolf wrote in
her diary in 1929, thus suggesting how the novel has been kept alive in our
century by novelists' assaults on its conventions. Writers have chosen to write
novels without plots or characters or the illusion of time passing. They have
disdained to represent real life, as the painters did a half century before
them. They have compacted their given languages, or invented their own, or
revised the idea of composition entirely by assembling their books as collages.
Appearing noticeably in the United States 15 or 20
years ago was the disclaimed fiction in which the author deliberately broke the
mimetic spell of his text and insisted that the reader should not take his
story to heart or believe in the existence of his characters. Disclaiming had
the theoretical advantage of breaking through to some approximation of the
chaos and loss of structure in life. The subject of these fictions became the
impossibility of maintaining them, and the author by his candor became the only
character the reader could believe in. John Barth is one writer who comes to
mind as having explored the possibilities of this strategy, and the
distinguished Czech novelist Milan Kundera in his new book, ''The
Unbearable Lightness of Being,'' continues to find it useful.
''And once more I see him the way he appeared to me at
the very beginning of the novel,'' Mr. Kundera says of one of the characters,
who is described standing at a window and staring across a courtyard at a blank
wall. ''This is the image from which he was born. . . . Characters are not
born, like people, of woman; they are born of a situation, a sentence, a
metaphor, containing in a nutshell a basic human possibility . . . the
characters in my novels are my own unrealized possibilities. That is why I am
equally fond of them and equally horrified by them. . . . But enough. Let us
return to Tomas.''
The question may reasonably be asked if this
convention too isn't ready for assault. May it not be too late to return to Tomas?
Do we have to be told where he comes from any more than we have to be told
where babies come from? There is a particular hazard to the author who intrudes
on his text: He had better be as interesting as the characters he competes with
and the story he subverts or we may find him self-indulgent or, worse, coy,
like those animated cartoons where a hand draws a little animal and colors it
in and pushes it along to its adventure down the road.
Even now, in our age, there is a sanctity to the
story. Because it is supremely valuable to us - as valuable as science or
religion - we feel all violence done to it must finally be in its service.
Virginia Woolf's experiment in avoiding narrative, ''Mrs. Dalloway,''
discovered another way to construct it or, perhaps, another place in which it
could occur. The idea has always been to make it beat with life's beating
heart.
Let us return to Tomas. Mr. Kundera has made him a
successful surgeon. In Prague, in the spring of 1968, when Alexander Dubcek is
trying to make the Czech Communist Government more human, Tomas writes a letter
to a newspaper to add his voice to a public debate. Thereafter, the Russians
invade Prague, Dubcek is replaced, public debate ceases, and Tomas is asked by
the authorities to sign a statement retracting the sentiments of his letter.
But he knows that once he does, if he ever again speaks out the Government will
publish his retraction and his name among his fellow Czechs will be ruined. So
he refuses and for his intransigence is then asked to sign a letter avowing his
love for the Soviet Union, a possibility so unthinkable that he quits medicine
and becomes a window washer. He hopes that now that he is down at the bottom he
will no longer matter to the authorities and they will let him alone. What he
discovers is that he no longer matters to anyone. When he was supposed by his
hospital colleagues to be thinking of signing the retraction in order to keep
his job they turned up their noses at him. Now that he's been declassed for
maintaining his integrity, he's become an untouchable.
THE first thing to note about this character's fate is
that it is a gloss on Orwell: To destroy Tomas, Mr. Kundera is saying, the
powerfully inertial police apparatus doesn't have to expend the energy required
to torture him. It need only send around an affable plainclothesman with a
letter to be signed. Once the policeman appears, no matter how Tomas responds
his life is ruined.
The second thing to note is the idea of the exhaustion
of meaningful choice. Tomas is one of four main characters born frankly of
images in Mr. Kundera's mind. All of them to one extent or another enact the
paradox of choices that are not choices, of courses of action that are
indistinguishable in consequence from their opposite. He shows us Sabina, a
painter, as she is deciding whether or not to keep her current lover, Franz, a
university professor. Franz is physically strong. If he used his strength on
her and ordered her about, Sabina knows she wouldn't put up with him for five
minutes. But he is gentle, and because she believes physical love must be
violent she finds Franz dull. Either way, whatever Franz does, she will have to
leave him.
Mr. Kundera says Sabina lives by betrayal, abandoning
family, lovers and, finally, country, in a way that condemns her to what he
calls a ''lightness of being,'' by which he means a life so lacking in
commitment or fidelity or moral responsibility to anyone else as to be
unattached to the real earth. By contrast, his fourth character, Tereza, the
loyal wife of Tomas, suffers an unflagging love for her philandering husband
that finally is responsible for his ruin, because it's her unwillingness to
live in exile that brings him back to his fate in Czechoslovakia after he has
set himself up nicely in a Swiss hospital. Thus, Tereza, the exact opposite of
Sabina in commitment and fidelity and rootedness to the real earth, sinks under
an unbearable moral burden, weight and lightness, in the Kunderian physics,
adding up to the same thing.
So there is a pattern in the subservience of his
characters to Mr. Kundera's will. They all exemplify the central act of his
imagination, which is to conceive of a paradox and express it elegantly. The
paradox he is most fond of is the essential identity of opposites, and he plays
with it over and over again, with minor characters as well as major ones and
with little essays and one-line observations. For instance, he shows us a
dissident Czech emigre in Paris in the act of reproaching his fellow emigres
for their lack of anti-Communist fervor, and he finds in him the same bullying
quality of mind as in the former head of state, Antonin Novotny, who ruled
Czechoslovakia for 14 years. The elegance lies in the image Mr. Kundera uses to
make the observation that both the emigre and the former ruler point their
index fingers at whomever they address. In fact, people of this sort, Mr.
Kundera tells us, have index fingers longer than their middle fingers.
Whether personal or political, all attitudes, stands,
positions in the Kunderian vision come up short. He will kill off three of his
quartet and allow the fourth to disappear from the book, presumably from a
lightness of being; but his true story, the one to which he gives honest
service, is the operation of his own mind as it formulates and finds images for
the disastrous history of his country in his lifetime. The paradox of the
essential identity of opposites describes an intractable world in which human
beings are deprived of a proper context for their humanity. The author who
ostentatiously intrudes in his characters' lives and tells them how to behave
mimics, of course, the government that interferes deeply in its citizens' lives
and tells them how to behave. Tomas and Sabina and Franz and Tereza were
invented to live under two tyrannies, the tyranny of contemporary
Czechoslovakia and the tyranny of Mr. Kundera's despair.
Readers of the author's celebrated novel ''The Book of
Laughter and Forgetting'' will recognize here his structural use of leitmotif,
the repertoire of phrases and fancies among which he circulates and
recirculates. They will find the same ironic tone and brilliance of annotation
of the fearful emptiness of Eastern European life under Communist management.
Here too is the author's familiarity with music, his preoccupation with Don
Juanism, his almost voyeuristic attention to the female body and its clothes.
And the pointed, surreal image: Park benches from the city of Prague, colored
red, yellow and blue, floating inexplicably on the Vltava River. Like Gabriel
Garcia Marquez, Mr. Kundera knows how to get ahead of his story and circle back
to it and run it through again with a different emphasis. But the prose is
sparer here, and the Garcia Marquez levitations are not events now, but ideas.
There is less clutter in the prose, less of the stuff of life, as if the author
had decided to send the myriad furnishings of novels, its particulars, down the
Vltava, after the benches. This is a kind of conceptualist fiction, a
generic-brand, no-frills fiction, at least in Michael Henry Heim's translation.
Mr. Kundera is not inclined to dwell on the feel of human experience except as
it prepares us for his thought.
And what is his thought? Asking this question leads to
the novel on its own terms. Mr. Kundera is a good psychologist of the rutting
male. His idea of love as the occupation by another person of one's own poetic
memory is a sweet one. He adds to the meaning of the word kitsch by describing
it, first, as an esthetic ideal that denies the existence of excrement and,
second, as the inevitable adjunct of political power. ''Whenever a single
political movement corners power we find ourselves in the realm of totalitarian
kitsch, '' he says. ''Everything that infringes on kitsch must be banished
for life . . . every display of individualism . . . every doubt . . . all
irony.'' Thus, ''the gulag is a septic tank used by totalitarian kitsch to
dispose of its refuse.''
It is a not unattractive philosophical bent that sends
Mr. Kundera into his speculative exercises. He has a first-rate mind and, like
Bernard Shaw, the capacity to argue both sides of a question and make each side
seem reasonable in its turn. But every now and then a wryly argued proposition
seems flawed, a weakness for literary idea rather than a strength of thought -
that a concentration camp, for instance, is defined first and foremost by the
complete absence of privacy; it might be argued that slave labor and starvation
and mass graves are its primary characteristics. Or the idea, coming from
Sabina's walk through New York City, that its beauty, unlike that of European
cities, is unintentional, or ''beauty by mistake, the final phase in the
history of beauty.'' New York may indeed be unintentionally beautiful, but we
are younger than Europe, and, whatever holocaust is in sight, beauty by mistake
might just as easily be the first phase in the history of beauty as the last.
ONE recurrent theme in the book is that the ideal of
social perfection is what inevitably causes the troubles of mankind, that the
desire for utopia is the basis of the world's ills, there being no revolution
and therefore no totalitarianism without it. This idea has currency among
expatriate Eastern European intellectuals, and perhaps their bitter experience
entitles them to it. But the history of revolutions begins, more likely, in the
desire to eat or to breathe than in the thought that man must be perfected. And
a revolutionary document like the American Constitution is filled with
instructions and standards for civilized life under equitable law; and it is
truly utopian, but its ideals are our saving grace and drive us to our best
selves, not our worst.
It is not exactly self-indulgence or coyness that
threatens ''The Unbearable Lightness of Being.'' The mind Mr. Kundera puts on
display is truly formidable, and the subject of its concern is substantively
alarming. But, given this subject, why are we forced to wonder, as we read,
where his crisis of faith locates itself, in the world or in his art? The
depiction of a universe in which all human choice wallows in irresolution, in
which, as Yeats wrote, ''The best lack all conviction, while the worst / Are
full of passionate intensity,'' sometimes sets off the technique of this novel
as an act of ego in excess of the sincere demands of despair. Mr. Kundera's
master, the prophet Kafka, we can't help remembering, wrote a conceptualist
no-frills fiction in which, however, he never appeared.
All this said, the work of
reconceiving and redesigning the novel continues through the individual
struggles of novelists all over the world, like an instinct of our breed. What
is fine and valiant in Mr. Kundera is the enormous struggle not to be
characterized as a writer by his exile and by his nation's disenfranchisement,
even though they are the conditions his nose is rubbed in by Czechoslovak
history. He works with cunning and wit and elegiac sadness to express ''the
trap the world has become,'' and this means he wants to reconceive not only
narrative but the language and history of politicized life if he is to accord his
experience the dimensions of its tragedy. This is in direct contrast to the
problem of the American writer who must remember not to write of life as if it
had no political content whatsoever. We can hope, with Milan Kundera,
not to enact one of his elegant paradoxes in our separate choices and discover
that either one leads to the same exhausted end.
С.Зенкин. Денон, Бальзак, Кундера: от преромантизма до постмодернизма. О романе Милана Кундеры "Неспешность"
О романе Милана Кундеры "Неспешность" я
впервые услышал через несколько месяцев после его появления, осенью 1995 года,
в обстоятельствах, забавно схожих с описанными в самом романе, - на
международном коллоквиуме во Франции, посвященном хоть и не энтомологии, но
предмету столь же неуловимому и легковесному, что и мухи с бабочками, -
учтивости. Волей-неволей приходилось помнить и о печальном примере комического
персонажа Кундеры - "чешского ученого", который никак не может как
следует показать себя на научном сборище и все время попадает впросак. Именно
его история - сцена его несуразного доклада перед ученой публикой - стала уже
на нашем коллоквиуме предметом анализа в выступлении Харальда Вайнриха (живой
пример европейской интеграции - немецкий ученый, ставший профессором парижского
Коллеж де Франс). Как известно, у Кундеры бедняга чех, произнеся первые
приветственные слова, от волнения ушел с трибуны и забыл прочесть собственно
доклад, а остальные ученые как ни в чем не бывало продолжили заседание, не
заботясь о том, что будет чувствовать коллега, когда спохватится. По мысли
Вайнриха, здесь перед нами нарушение одного из фундаментальных правил учтивого
обращения с иностранцами - правила, требующего замедлять темп речи и
поступков, чтобы непривычный чужеземец не терялся и успевал ориентироваться.
Вайнрих логично объяснял такое фиаско хваленого французского политеса общим упрощением межнациональных контактов в наше время: ездить все легче, иностранцев все больше, вот и церемонятся с ними все меньше. Нечто подобное утверждает и сам Кундера: в современной жизни стало слишком много информации, ее темп нестерпимо ускорился, и от этого у людей все получается как-то не по-людски.
"Неспешность" - первый роман Милана Кундеры, написанный по-французски и тематически не связанный с его родной Чехией, если не считать важной, но все же не главной истории чешского энтомолога. Объектом изображения и критики является здесь не тоталитарное общество, а общество массмедиа, захлестнутое информационным потоком, где каждое сообщение стремительно сменяется новым, не поддаваясь ни запоминанию, ни спокойному анализу. Это навязывает людям навыки торопливого, суматошного поведения, нацеленного на текущий момент, на мгновенный и недолговечный успех. Казалось бы, установка не новая - еще Гораций призывал "ловить день", наслаждаться мгновением. Однако Гораций и философы-эпикурейцы имели в виду именно наслаждаться им, а в современной цивилизации его нужно уметь эффективно использовать - дьявольская разница, как выражался Пушкин. На чем, например, построены все телевизионные шоу? Если ты умеешь быстро соображать, если ты успел ухватить и выгодно реализовать ту короткую минуту, пока тебя слушают, пока на тебя смотрят, пока на тебя направлены объективы, - ты молодец; если не успел, растерялся, промямлил что-то некстати (как злополучный чешский энтомолог - ему ведь честно дали возможность выступить!) - пеняй на себя. В такой игре, охватывающей всю общественную жизнь, есть свои профессионалы, которые у Кундеры именуются "плясунами", - мастера быть на виду, самоуверенно городить вздор перед камерой, ни на миг не упускать ее из виду; образцом такого "плясуна" является "интеллектуал Берк", неприглядное олицетворение медиатической цивилизации и катализатор комического сюжета романа. Впрочем, беда не в "плясунах" как таковых, и другой персонаж Кундеры справедливо объясняет, что в современном обществе "мы все плясуны", просто кто-то справляется с этой ролью более, а кто-то менее удачно.
Торопливость, постоянная оглядка на ленивых и невнимательных зрителей отнимают у человека чувство реальности, непреложности бытия: "Когда все несется с такой быстротой, никто не может быть уверен ни в чем... даже в самом себе". В этом обществе любят, например, потолковать о "сексе", высоко ценят обнаженное тело и эротическое наслаждение, но и на это глядят как бы со стороны, отчужденным взглядом внешнего наблюдателя, некоего абсолютного телеобъектива, для которого даже живая и влекущая нагота служит лишь знаком чего-то абстрактного. От этого наваждения свободен разве что автор романа "Неспешность", который свысока судит о своем персонаже, не способном увидеть главное: "Он даже не оборачивается, чтобы взглянуть на нее. Какая жалость, ведь Юлия очаровательна, просто очаровательна... Простодушный Венсан ни о чем не догадывается, но я-то сам вижу наконец наготу, лишенную всякого значения, будь то "гнусность" или "свобода", наготу обнаженную, наготу саму по себе, чистую и привораживающую мужчин".
Лишенные внутренней устойчивости, замороченные чужими взглядами, такие люди не умеют вести себя красиво и степенно, их поступки нескладны и - тут мы снова возвращаемся к теме учтивости - неблагоприличны. Действительно, цепь трагикомических происшествий, образующих сюжет романа Кундеры, представляет собой один сплошной скандал, нелепый, бессмысленный, перекатывающийся из одного эпизода в другой, от одного действующего лица к другому; формы его многообразны: это и конфуз, позорный провал на глазах у зрителей ("доклад" чешского энтомолога на коллоквиуме); и провокация, или хэппенинг, демонстративное нарушение приличий (двое молодых людей намереваются устроить публичный половой акт); и афронт - грубая отповедь Берка домогающейся его любви телерепортерше; и семейная сцена между той же репортершей и ее любовником; и драка между этим последним и злосчастным чешским ученым, который в очередной раз попал в дурацкое положение, впутавшись в чужую ссору... На память приходят знаменитые сцены скандалов у Достоевского, но там в истерических "надрывах" все-таки ощущалась внутренняя борьба, персонажи обычно старались, пусть и безуспешно, вести себя "как следует", здесь же они "заголяются и обнажаются" не в переносном, а в буквальном смысле и при этом как-то почти и не стесняются. Прав Харальд Вайнрих: учтивое поведение невозможно на бегу, в спешке, при таком темпе о приличиях думать просто некогда.
Вообще, благоприличность - вещь очень глубокая, у нее есть не только "буква", но и "дух", некая трансцендентность. Сколько бы ее предписания ни пытались объяснить рациональными требованиями социального порядка (она, мол, служит для нормализации отношений между людьми, для цивилизованного баланса интересов, для подавления антиобщественных инстинктов), в ней все же остается что-то непостижимое, необъяснимое практическими нуждами. Когда, например, человек соблюдает - или, напротив, сознательно не соблюдает - приличия, дабы таким способом утвердить себя, то в этом может и не быть никакой любезности по отношению к другим людям. Так Робинзон на необитаемом острове шьет себе уродливую одежду, лишь бы не ходить голым, - хотя климат жаркий и увидеть его некому. Соблюдение приличий знаменует принадлежность человека к цивилизованному человечеству, сообщает ему магическую силу культуры. Закон тут чисто тавтологический, не опирающийся ни на какую социальную целесообразность: учтивость значит - вести себя так, как от тебя этого ждут (как "положено"), неукоснительно выполнять свою общественную роль. Удивительнее всего, что такая верность своей роли может сочетаться с ясным сознанием ее условности. Этим учтивость отличается от морали, хотя некоторые писатели-моралисты утверждают, что именно учтивость есть основа нравственности, а все пороки суть в конечном счете проявления неблаговоспитанности. Мораль - штука столь же серьезная, как и гражданский закон, за нею стоит религиозный авторитет или же идея общественного блага, даже в самых условных своих требованиях она переживается как нечто "естественное", природное; напротив, учтивость есть нечто легкое, едва ли даже не легковесное, оттого ею порой пренебрегают как "пустяком". Мораль - это земная твердь природного порядка, учтивость - летучая эссенция культуры.
Бывают исторические эпохи, общества с особо изощренной культурой, где именно учтивость служит главным кодексом поведения если не для всего общества, то по крайней мере для его господствующего класса. Так обстояло дело, в частности, в светской культуре французской аристократии XVII-XVIII вв. Об этом важно напомнить, чтобы правильно понять выбор вставного текста, подробно пересказанного и сложно обыгранного в романе Милана Кундеры, - повести Вивана Денона "Без завтрашнего дня". Этот короткий рассказ о любовном приключении представлен здесь как образец "неспешного", неторопливого поведения, утраченного современной цивилизацией. Но, разумеется, примеры неторопливого жизненного ритма можно было найти не только в галантной культуре старинной знати - почему бы, например, не в патриархальных нравах крестьян, в духе периодически оживляющихся руссоистских устремлений к "природе"? Однако Милан Кундера стремится именно что не к природе, а к высокой культуре, и этот идеологический выбор логично приводит его к такому идеалу отношений между людьми, который основан на сугубо культурном кодексе учтивости.
Несколько слов об авторе вставной повести. Барон Доминик-Виван Денон, или де Нон (1747-1825), сделал не совсем обычную двойную карьеру художника (он считался одним из лучших рисовальщиков и граверов своего времени) и политического агента. Еще молодым человеком, в 1774 г., его назначили секретарем французского посольства в Санкт-Петербурге, где он занимался, говоря современным языком, шпионажем и в конце концов был выдворен из пределов Российской империи, будучи пойман ночной стражей при попытке похитить актрису-француженку. В дальнейшем он ездил с политическими поручениями в Швейцарию, занимал дипломатические должности в Италии. После революции, которую он благополучно пережил благодаря покровительству живописца и члена Конвента Давида, Виван Денон сумел найти себе достойное место и при новых властях: познакомившись с молодым генералом Бонапартом, он в составе группы ученых и художников принял участие в его Египетской экспедиции, а в 1802 г., после прихода Бонапарта к власти, получил должность генерального директора музеев Франции. Фактически именно он стал основателем Луврского музея и руководил им до своей отставки в 1815 г., правдой и неправдой собирая произведения искусства по всей оккупированной французами Европе. В память о нем одно из крыльев нынешнего Лувра называется "павильон Денона".
Как писатель Виван Денон при жизни был знаменит главным образом своей книгой о Египетском походе (1802), где живописались перипетии военной экспедиции и увиденные французами остатки древнеегипетской цивилизации. Однако в наше время его имя в литературе связывают прежде всего с маленьким шедевром под названием "Без завтрашнего дня", опубликованным анонимно в 1777 г. в журнале "Литературная смесь, или Дамский журнал". Долгое время автором считался издатель журнала, известный литератор Клод-Жозеф Дора; об этой атрибуции упоминает, между прочим, Бальзак, который в своей "Физиологии брака" (1829) подробно, часто дословно излагает текст повести, вложенный им в уста некоего "почтенного художника и ученого, любимца императора" - то есть все-таки Вивана Денона. Авторство Денона было признано уже после его смерти, и в наше время "Без завтрашнего дня" под его именем постоянно печатается отдельными изданиями и в антологиях французской прозы XVIII века.
Вивану Денону посвящено несколько биографических книг, последнюю из них выпустил в 1995 г. французский писатель Филипп Соллерс, в 60-е годы лидер леворадикальной группы "Тель кель", ныне далеко отошедший от былого бунтарства. Соллерс отмечает чрезвычайную скрытность Денона в том, что касается его биографии, и объясняет эту черту его ролью исполнителя деликатных политических поручений. Денон не оставил мемуаров, от него почти не сохранилось писем (по-видимому, они своевременно уничтожались), о содержании некоторых его миссий можно только гадать. Покрыта тайной и его интимная жизнь: у этого блестящего светского кавалера не известно сколько-нибудь достоверно ни одной любовной истории - случай нечастый для эпохи, когда романические приключения каждого мало-мальски заметного лица непременно становились предметом публичного обсуждения, обрастали более или менее достоверными слухами. В своей жизни Денон тщательно соблюдал правило, выражаемое одним из центральных понятий классического кодекса учтивости - словом discretion.
У этого слова, трудно переводимого на русский язык, сложная история в языках романских. Происходя от греческого diakrisis, оно долгое время обозначало "рассудительность", "различение" предметов и обстоятельств (с этим связан русский термин "дискретность"). Но с XVII века такая интеллектуальная "осмотрительность" стала все чаще переосмысляться в бытовом контексте - как "сдержанность" в распространении информации, как "скромность" в специфическом значении "неболтливости", "умения хранить чужие тайны". Именно в таком смысле она и восхваляется в повести "Без завтрашнего дня", где сказано, что discrеtion - "первейшая из добродетелей" и "мы обязаны ей многими упоительными мгновениями".
Действительно, мир деноновской повести - мир благоприличной сдержанности, где не допускается скандал, разглашение интимных тайн. Этот закон действует не только в основном сюжете, но и в побочных историях, о которых лишь косвенно упоминается. Так, по словам героини, госпожи де Т***, ее соперница графиня де*** (характерна, хоть и вообще типична для романов той эпохи, эта "скромная" шифровка имен) взяла себе в любовники юного рассказчика, "чтобы отвлечь двух соперников, которые потеряли осмотрительность и рисковали довести дело до огласки". Может быть, дама и клевещет на соперницу, но даже и в таком случае рассказчику эта клевета представляется правдоподобной, то есть он готов допустить, что женщина, которую он "любил без памяти", на самом деле приблизила его к себе лишь в качестве подставного любовника, дабы предотвратить дуэль между двумя другими своими кавалерами и тем сберечь драгоценную видимость приличий. В этом мире так можно, так принято поступать.
Собственно, сходную роль отвела рассказчику и сама экстравагантная госпожа де Т***: прямо из театральной ложи внезапно увезла его в загородный замок и заставила изображать ее любовника перед нелюбимым мужем (по уговору с другим, настоящим своим любовником). На робкие протесты юноши она отвечает словами, задающими тон всей повести: "О, не надо морали, заклинаю вас! Право, я не для того взяла вас с собой".
"Не надо морали", "не надо вопросов", "никакого завтрашнего дня" - все эти повторяющиеся формулы, объединенные одной и той же энергичной отрицательной частицей point, резко отграничивают условный мир повести от мира "нормального", где традиционные моральные нормы действуют. Очарование деноновской повести во многом обусловлено тем, что рассказанная в ней история - откровенно аморальная, и все же эта аморальность воспринимается не как безобразная грубость, а как изысканно тонкий "либертинаж", ибо вместо морального долга герои неукоснительно следуют другому долгу - долгу учтивости. Первейший закон любой практической морали - верность; в повести Денона ее, казалось бы, не соблюдает никто, ни в браке, ни в любви, ни в дружбе; однако благоприличие - в той своей высшей, трансцендентной ипостаси, о которой я говорил, - требует быть верным себе, вернее, собственной роли, а вот от роли своей здесь никто не отступает.
Само слово "роль" повторяется в тексте повести неоднократно, в финале же театральные метафоры следуют одна за другой: "Я мгновенно вошел в роль. И отвечал по законам жанра"; "- Роль, прямо скажем, неблагодарная. - Полно, для хорошего актера плохих ролей не существует"; "Доложили о г-не де Т***, и все персонажи пьесы сошлись вместе". Все персонажи тщательно избегают скандального срыва - и муж, к которому жена привела знакомиться какого-то юного повесу, и сам юноша, которым манипулируют друг и его любовница, наконец, сама главная героиня, тщательно разыгрывающая сцену соблазнения по всем правилам "эротической учтивости". В этой сцене присутствуют не только двое главных участников, но заочно и другие персонажи повести: сначала, во время прогулки по парку, рассказчик и госпожа де Т*** разговаривают о графине, возлюбленной одного и подруге другой; затем, вернувшись в замок, они направляются в "потайной кабинет", устроенный некогда для супружеских услад мужем героини, и теперь уже вокруг них витает память о нем, его присутствие. Эти соперничающие друг с другом и изменяющие друг другу люди на самом деле подыгрывают один другому, и смысл играемой ими "пьесы" весьма глубок. Учтивость незаметно подводит здесь к такому, казалось бы, далекому от нее опыту, как мистика.
Выше уже сказано, что повесть "Без завтрашнего дня" была включена в качестве вставной истории в "Физиологию брака" Бальзака. Текст Денона изложен в целом довольно близко к оригиналу, однако Бальзак сделал ряд купюр, смысл которых поможет нам понять оригинальность первоначального текста.
На первый взгляд, которым и довольствуются большинство комментаторов, главное сделанное Бальзаком сокращение обусловлено обыкновенной моральной цензурой: писатель полностью опустил большую любовную сцену в "потайном кабинете" замка, заменив ее короткой уклончивой фразой: "Не стану срывать покров с тех безумств, какие всякий возраст простит юности ради своих несбывшихся желаний и несчетных воспоминаний". Но даже если пуританские нравы XIX века запрещали Бальзаку воспроизводить рассказ о любовных утехах (впрочем, в тексте Денона они изображены не так уж и откровенно), они не могли заставить его отбросить описание самого "потайного кабинета" - причудливую фантазию в духе милой сердцу XVIII века "искусственности", когда с помощью хитроумных приспособлений в закрытом помещении имитируется уголок живой природы. Ничто не мешало Бальзаку воспроизвести также и мотивы, связывающие вступление в этот заповедный покой с мистической инициацией, которая включает в себя и поклонение богу любви, и финальное увенчание самого юного героя, которого "сделали божеством". "Все это походило на обряд посвящения... Сердце мое билось, как у юного прозелита, которого подвергают испытанию перед совершением великого таинства..." К обряду посвящения отсылает такая броская черта стиля повести, как обилие безличных конструкций, когда речь идет о словах и поступках госпожи де Т***: деноновский рассказчик ведом и руководим не просто конкретной женщиной, а некоей почти безличной (кстати, и не описанной портретно) наставницей, воплощающей в себе высшую мудрость. То же относится и к затерянности и потаенности "святилища" любви: мало того, что госпожа де Т*** строго наказывает своему спутнику никому не показывать виду, что ему стало известно о существовании в замке тайного покоя, но даже и она сама, забыв расположение помещений, не сразу находит собственные апартаменты, к которым примыкает "кабинет". Этот характерный для обрядов посвящения, в частности масонских, мотив блуждания в темных коридорах еще раз отыгрывается уже наутро, когда рассказчик не может отыскать в замке отведенную ему комнату и вынужден выйти в сад, изображая раннюю прогулку. Из всех перечисленных мотивов Бальзак в своем пересказе сохранил только этот последний; а в наши дни его вновь использовал, вернее, спародировал Милан Кундера, заставив одного из персонажей "Неспешности" бесплодно блуждать по гостиничным коридорам в поисках номера, где укрылась его несостоявшаяся любовница.
Вместе со сценой в потайном покое Бальзак "потерял" и еще один важный символический мотив - мотив зеркал, умножающих изображение влюбленных: "Я упал к ее ногам; она склонилась ко мне, протянула руки, и в тот же миг, благодаря зеркалам, где эта картина отразилась со всех сторон, наш остров заполнился счастливыми влюбленными парами". Здесь речь идет об искусственном "острове", оборудованном в замковом покое; но несколькими страницами выше охваченные страстью герои переживали то же самое чувство и рядом с настоящим островом на Сене: "...под прозрачным покровом ясной летней ночи соседний островок превращался для нас в зачарованный луг... Весь мир, казалось, был заселен влюбленными". Вся земля полнится любовью, справляет какое-то таинственное свадебное торжество; личностное умножение героев ("наши души встречались и преумножались", их растворение в мироздании - все это тоже исключено в пересказе Бальзака, а Милан Кундера опять-таки сделал из этого пародию: его уже упомянутый персонаж, потерпев унизительную неудачу в эротическом приключении, для утешения начинает выдумывать "маленький порнографический фильм", где не только он сам достигает блаженства со своей партнершей, но их еще и обступают набежавшие отовсюду какие-то другие пары любовников...
Вообще, в бальзаковском пересказе оказалась утрачена важнейшая, вероятно самая привлекательная особенность повести Вивана Денона - ее волшебная, или, выражаясь историко-литературными терминами, романтическая атмосфера, ощущение единства героя с миром, в котором он переживает свое "посвящение". Сохранив некоторые характерно романтические черты в описании таинственной и волнующей ночной природы (сумрак, скрывающий предметы и тем лишь дразнящий воображение, ночную тишину, которую можно услышать), Бальзак отбрасывает почти всю сюжетную символику, так что внезапная любовь, которой госпожа де Т*** одарила юношу рассказчика, показана у него как не более чем каприз плюс дьявольски хитрый расчет, тогда как у Вивана Денона это нечто вроде мистической благодати, и, по-видимому, только этим и может объясняться новозаветный эпиграф к его "аморальной" повести: "Буква убивает, а дух животворит". Во Втором послании апостола Павла к Коринфянам эта формула применялась к религиозному служению, здесь же на его место парадоксальным, едва ли не кощунственным образом поставлен культ чувственных наслаждений; однако оказывается, что по структуре переживаний эти два вида экзистенциального опыта могут быть уподоблены друг другу. Кстати, саркастичный Кундера не преминул спародировать и этот мотив благодати (не выраженный прямо, но разлитый во всей атмосфере деноновской повести): одна из героинь его "Неспешности", взбалмошная и истеричная дама, оправдывает свои выходки чувством собственного избранничества, а "избранничество - понятие теологическое; оно означает, что, не имея никаких заслуг, посредством сверхъестественного решения, свободной или, вернее, своевольной волей Божьей ты избран для чего-то исключительного, из ряда вон выходящего". Это и есть не что иное, как благодать, только кундеровская героиня приписывает ее себе самовольно и беззаконно.
Бессмысленно было бы предъявлять претензии автору "Физиологии брака" за "искажение" и "обеднение" повести Денона. Сделанные Бальзаком изменения были продиктованы общей логикой жанра и стиля, в котором он писал свою книгу - полупародийный "моральный трактат" о том, как супруги надоедают и изменяют друг другу. В такую книгу даже самый романтически чарующий рассказ о мгновенной любви "без завтрашнего дня" может войти только в виде казуса, анекдота, одного из примеров изощренных хитростей, на которые способна пойти неверная жена. Потому и получилось, что Бальзак, работавший в самый разгар романтической эпохи, последовательно выхолостил из мистико-эротической повести Денона всю романтическую символику, оставив лишь голый сюжет, который по-французски как раз и называется "anecdote".
Милан Кундера, по сравнению с Бальзаком, еще более усилил эту анекдотичность, рассказывая уже не просто анекдот, а "скверный анекдот" в духе Достоевского, череду нелепых и неблагоприличных скандалов. Однако он не только заново обыгрывает в своем тексте некоторые мотивы Вивана Денона, но и строит на основе его повести определенную идейную концепцию. Его дело - как художественная игра, так и философская интерпретация. "В романе рассматривается не реальность, а экзистенция, - утверждает он. - А экзистенция - это не то, что произошло, это поле человеческих возможностей, все то, что может статься с человеком, на что он способен. Романисты составляют карту экзистенции, открывая ту или иную человеческую возможность". "Неспешность", как и ряд других произведений Кундеры, озаглавлена абстрактным словом - обозначением экзистенциальной категории, которая анализируется в книге; в данном случае такой "человеческой возможностью" является возможность жить медленно и потому счастливо. Эту возможность романист прямо связывает с образом жизни, который изображен Виваном Деноном, воплощен в его герое: "Я хочу еще разок полюбоваться моим кавалером (речь идет о деноновском рассказчике. - С.З.), неспешно направляющимся к карете... В этой неспешности я угадываю признак счастья... Я прошу тебя, друг, будь счастлив. У меня смутное впечатление, что в твоей способности быть счастливым единственная наша надежда".
Такое представление о мире, созданном в повести Денона, как будто опирается на ее реальный текст. Действительно, госпожа де Т*** расчетливо затягивает свою любовную прогулку с юным "прозелитом", делает из нее размеренный, разделенный на несколько этапов ритуал. После первой близости в садовом павильоне сами любовники испытывают потребность - едва ли не моральную - замедлить темп: "Все произошло слишком поспешно. Мы были недовольны собой. И теперь обстоятельно начали все сначала, чтобы восполнить упущенное. Избыток страсти - враг нежности". Подобные максимы эротической мудрости, казалось бы, вполне подтверждают идею "неспешности" как эпикурейского идеала. Удивительно, однако, что Кундера не заметил в тексте повести другую фразу, где, собственно, единственный раз прямо произносится интересующее его ключевое слово, но только с совсем иным оценочным смыслом: "И если бы, к примеру, обстоятельства вынудили нас завтра расстаться, - говорит своему возлюбленному госпожа де Т***, которая сама прекрасно знает, что именно так и случится, - то наше счастье, не ведомое никому на свете, не оставило бы по себе никаких обременительных пут... разве что легкую печаль, которую искупила бы сладость воспоминания... воспоминания о наслаждении без утомительных промедлений, забот и тирании условностей". (Курсив мой.)
Вот как высказывается изощренная наставница наслаждений госпожа де Т***, и пренебрежительно брошенное ею слово "промедления" - это та самая "неспешность" (lenteur), которая стоит в заглавии романа Кундеры. С данной точки зрения, медленность как раз вредит, а не способствует счастью, отравляя его мгновенное блаженство докучными "заботами" об общественных приличиях, о "тирании условностей". (Перед нами вновь двойственность учтивости: ее "дух" сулит счастливое любовное единение, тогда как ее "буква", наоборот, грозит испортить наслаждение властью приличий.) Да и вообще, хотя собственно сцена обольщения и разыграна героиней в замедленном темпе, но вся история, рассказанная Деноном, развивается, напротив, более чем стремительно. Двое людей случайно - или как бы случайно - встречаются вечером в театре, проводят ночь в страстных любовных утехах, а наутро расстаются "без завтрашнего дня"; поистине сюжет для современной новеллы, а не для обстоятельного и медлительного романа XVIII века. Даже и в стиле Денона очевидно это усилие не задерживаться на несущественных перипетиях фабулы, проскакивать их галопом, как скачут его герои в загородный замок: "Я любил без памяти графиню де ***; мне было двадцать лет, и я был неопытен; она обманула меня, я ей устроил сцену, она меня бросила. Я был неопытен, я пожалел об этом; мне было двадцать лет, она простила меня..." Итак, неспешность неспешности рознь: она, пожалуй, хороша для влюбленных, сосредоточенных друг на друге, но не годится для повествователя, обязанного рассказывать сжато и увлекательно. Даже если повествователь - сам в прошлом один из этих влюбленных.
И вот еще одно очевидное обстоятельство, которого Кундера странным и симптоматичным образом не замечает в повести Денона (критики-деконструкционисты называют это "слепой точкой"). Современный романист представляет себе чувства деноновского героя после пережитой ночи и сделанного унизительного открытия, что ему пришлось играть роль в чужом спектакле: "Он слышит внутренний голос, подстрекающий его к бунту, призывающий во всеуслышание поведать всему свету о том, что с ним приключилось. Но сознает, что это ему не под силу". И еще раз, чуть ниже, в самом конце романа: "Никакого завтра. Никаких слушателей". Юный кавалер, по мнению Кундеры, никогда никому не расскажет о своем приключении. Но позвольте, а кто же тогда рассказал об этом приключении нам? "Я любил без памяти графиню де ***; мне было двадцать лет, и я был неопытен..."
Действительно, кавалер из повести Вивана Денона - не только герой, но и рассказчик, в некотором смысле автор этой повести. В качестве первого он, подобно гётевскому Фаусту (первый набросок "Фауста" написан почти одновременно, в 1773 году), стремится остановить навечно чудесный миг любви; в качестве второго он обязан упорядочивать хронологию и темп повествования, забегать вперед, рассматривать случай из своей юности глазами зрелого человека. Жить одним лишь настоящим хоть и трудно, но возможно; писать можно только о прошлом (или о будущем, как будто о прошлом). Эпикурейское или же мистическое наслаждение быстротекущим мгновением недоступно для писателя, ему дано лишь развернутое, линейное время экзистенциального или, что то же самое, творческого "проекта". Его текст может, как у Денона, заканчиваться демонстративным жестом отказа от интерпретации: "Я старался отыскать мораль этого приключения, но... так и не нашел", - тем не менее по сути своего ремесла он обречен создавать структуры, превращать непосредственную реальность вещей в отвлеченность знаков, интерпретировать ее.
Филипп Соллерс в своей уже упоминавшейся биографии Вивана Денона представляет своего "героя", жившего в эпоху великих революций и войн, как пример не-идеологического отношения к жизни: "Он... не был Идеологом. Вероятно, потому он и меньше многих обманывался". И в другом месте: "...никакой идеологии, никакого мировоззрения". В таком смысле Виван Денон служит образцом для подражания, ибо наша цивилизация, как раз наоборот, отравлена "идеологией", потеряла вкус к непосредственности бытия. Лозунг "смерти идеологий", расхожий в эпоху постмодерна, спроецирован здесь на эпоху преромантизма. Но, даже отказываясь от "мировоззрения", от идейного метаязыка как средства читать и толковать реальность, мы еще не отказываемся вообще от ее толкования. Интерпретация может осуществляться другим способом - не через метаязык, а через метатекст, через традиционно передаваемые из поколения в поколение структуры повествования и осмысления того, о чем повествуется. Благодаря своей древности эти структуры не всегда замечаются нами, но это не значит, что их вовсе нет, что между человеком и реальностью остается абсолютно прозрачное пространство; на самом деле между ними все равно остается смысл, тем более эффективный, что он действует на бессознательном уровне.
В повести Вивана Денона такой традиционный смысл прочитывается достаточно уверенно, особенно если иметь в виду ее "романтическую" атмосферу, которая служит опознавательным знаком присутствия архаических структур. В свое время О.М.Фрейденберг написала замечательную статью "Три сюжета, или Семантика одного" об этом ритуально-мифологическом комплексе, который представляет собой "развернутый... образ рождающей смерти". В циклическом времени архаического сознания царь или вождь периодически должен проходить "фазу смерти", и его функции (государственные, магические и, что для нас особенно важно, сексуально-производительные) выполняет дублер - подменный, шутовской царь, ничтожный раб, на время возвышаемый и затем свергаемый с престола, а в древнейшей ритуальной практике и умерщвляемый. Сюжет о "калифе на час" несчетное множество раз использовался в литературе (от "губернатора острова" Санчо Пансы до "ревизора" Хлестакова), нередко в сочетании с мотивом сновидения, в котором происходит волшебное вознесение героя ("Укрощение строптивой" Шекспира, "Жизнь есть сон" Кальдерона). Именно так и у Денона: ничем не примечательный юноша оказывается избран для того, чтобы на одну ночь "без завтрашнего дня" подменить рядом с госпожой де Т*** ее законного обладателя, вернее обладателей. Сама героиня на прощание называет пережитую им ночь "прекрасной грезой"; а Филипп Соллерс с несомненным чутьем к архаическим корням сюжета предположил, что ее целью могло быть не просто минутное наслаждение, а желание родить ребенка не от нелюбимого мужа или надоевшего любовника, а от "никакого" пригожего юнца, с которым она готова для этого сойтись. "Учтивость" деноновского рассказчика - и вместе с тем источник его счастья - заключается в его готовности принять и безропотно играть эту шутовскую по своему происхождению роль, в готовности сейчас быть сознательным актером, что позволит ему уже потом, когда наступит время повествовать о случившемся, встать на высшую точку зрения рассказчика, романиста.
Все эти важные обстоятельства игнорируются Миланом Кундерой - интерпретатором повести Денона, потому что они ему не нужны. В его романе "Неспешность" расстановка сил совершенно иная: ни одному персонажу не дано подняться до функции рассказчика, до осмысления своей истории. Соответственно и история эта выглядит так нелепо-анекдотически, и действуют в ней несознательные, невсамделишные актеры-куклы. Они создаются буквально на наших глазах главным героем романа - писателем с чешским именем Милан, который извлекает этих персонажей-призраков из сновидения - разве что, быть может, не своего, а своей жены, которая спит рядом с ним и слышит во сне отзвуки придумываемых им происшествий. Все эти персонажи - откровенные фикции, условные проекции каких-то бытовых или культурных впечатлений писателя: образы "интеллектуала Берка" и преследующей его телерепортерши сгустились из телепередач и книг, незадачливый юный бунтарь Венсан возник из какой-то компании, которую автор как будто посещал в Париже, не менее незадачливый чешский энтомолог - из его воспоминаний о родине... В определенном смысле все они страдают "невыносимой легкостью бытия", как назывался самый знаменитый роман Кундеры, - и притом страдают абсолютно неосознанно.
Здесь Кундера, пожалуй, схитрил. Его художественной задачей был своего рода эксперимент - исследовать возможность для человека в наши дни быть счастливым, и результат оказался в общем и целом отрицательным: в спешке современной жизни человек не в силах обрести необходимое для счастья чувство настоящего, чувство бытийной полноты ("Остановись, мгновенье, ты прекрасно!"); он может разве что ностальгически мечтать о человеке старинной европейской культуры, которая давала такую возможность ("В твоей способности быть счастливым единственная наша надежда", - обращается романист к рассказчику Денона). Однако несчастливость кундеровских героев обусловлена не только внешним миром "медиатической" цивилизации, где господствуют отчуждающий взгляд Других, шарлатаны-"плясуны" и торопливые чувства; причина еще и в специфическом устройстве романа, всем персонажам которого отведена роль пустых видимостей, а сущностные нити действия крепко держит в своих руках демиург-романист (правда, он и сам честно представил себя как одного из персонажей романа); один лишь он, как уже было сказано выше, способен переживать реальность - в частности, эротическую реальность - как нечто безусловное и привлекательное. "Организованная" по его воле встреча неудачливого любовника Венсана с его куда более счастливым двойником из XVIII века - рассказчиком повести Вивана Денона - обернулась и не могла не обернуться взаимным непониманием, и не просто потому, что современный молодой человек в силу своего испорченного характера "тянет одеяло на себя", говорит вместо того, чтобы слушать, спешит непременно поведать собеседнику сильно приукрашенную историю своей "изумительной ночи". Главное то, что этот персонаж - вообще не рассказчик, недаром он все время так страдает от несолидности, неимпозантности своей речи; тогда как деноновский юноша - именно рассказчик, а не просто персонаж своего приключения, он изначально, с первого слова "я", которым начинается текст ("Я любил без памяти графиню де***..."), уже поставлен в более выгодные условия для того, чтобы быть счастливым. Автор "Неспешности" не сумел или не захотел найти для своего персонажа такой эстетической позиции, которая позволила бы тому убедительно, веско сказать о себе "я"; это слово как бы монополизировано шутами вроде Берка. Эксперимент оказался подстроенным - его результат предзадан в условиях, избранных экспериментатором.
Как и в случае с Бальзаком, бессмысленно укорять Милана Кундеру за тенденциозность его интертекстуальной игры. Он преследовал свои творческие цели, сочинял свою собственную книгу, где повесть Вивана Денона служит лишь для контраста при создании нового, кундеровского художественного мира. Тем не менее осуществленное им, вслед за Бальзаком, переосмысление полусказочной преромантической повести, превращение ее в постмодернистский "скверный анекдот" (посредством пародирования символических мотивов, намеренно однобокой критической интерпретации, включения старинного текста в новое сюжетное построение с иными функциями) наводит на грустные раздумья не о "современной эпохе" в целом, но о судьбе литературы как специального рода культурной деятельности. Было бы преувеличением утверждать, что с XVIII века люди совсем уж разучились быть счастливыми; но не получается ли, что только учтивая литература тех времен умела писать о счастье?
Speed. SLOWNESS
Date: July 7, 1996, Late Edition - Final
Byline: By Angeline Goreau
Lead:
SLOWNESS
By Milan Kundera.
Translated by Linda Asher.
156 pp. New York:
HarperCollins Publishers. $21.
Metaphysical speculation was once happily married to the novel, practiced to
great effect by masters like Voltaire and Diderot. Since the end of the
Enlightenment, however, the philosophical novel -- as opposed to the novel of
ideas or the novel of social protest -- has become a rarity. Milan Kundera,
who has more or less single-handedly reinvented the form for his own use, is
careful to point out that his novels are not engaged in the translation of
philosophy into fiction. His modus operandi is to bring ideas into play --
floating hypotheses, improvising, interrogating.
Text:
In roomy, expansive novels like ''The Unbearable Lightness of Being,'' ''The
Book of Laughter and Forgetting'' and, most recently, ''Immortality,'' he uses
an astonishing spectrum of instruments to get at meaning. Cutting rapidly from
one story to another, interleaving different historical periods, he shifts from
anecdote to satire, biography to autobiography, dramatization to historical
narrative, ontological meditation to criticism -- given voice by narrators who
range from omniscient to personal, including an invented ''I'' whose name
happens to be Milan.
But this richness is anything but disparate: Mr. Kundera, who began his
artistic life as a musician, creates remarkable unity by sounding a theme, then
circling and returning to it again and again with a great breadth of
variations. The next theme he introduces might seem at first unconnected, but
as he spins it out, the deep affinities gradually surface.
''Slowness,'' Mr. Kundera's new novel, now translated by Linda Asher, appears
to depart from what we have come to expect from him. It is, to begin with, the
first novel he has written in French. It is also surprisingly short, less than
half the number of pages of his last novel. The action occurs in a single place
and, through the novel's witty telescoping of time, over a single night -- a
sort of parody of the classical unities.
The novel opens with Vera and Milan Kundera driving out from
Paris to a chateau in the country to spend the night. A motorcyclist, bent on
passing, appears behind them and prompts a banal observation by Vera that
people are utterly without fear when they get behind the wheel. At this, the
novel's central subject is announced, in a lyrical meditation on speed and
time, technology and the body, escape and engagement, memory and forgetting:
''The man hunched over his motorcycle can focus only on the present instant of
his flight; he is caught in a fragment of time cut off from both the past and
the future; he is wrenched from the continuity of time . . . in other words, he
is in a state of ecstasy; in that state he is unaware of his age, his wife, his
children, his worries, and so he has no fear, because the source of fear is in
the future, and a person freed of the future has nothing to fear.'' Speed is
the form of ecstasy technology has given us, the novel proposes. It then asks,
''Why has the pleasure of slowness disappeared?''
At the end of this opening, a parallel journey begins, one recounted in a
novella Milan has been reading entitled ''Point de Lendemain'' (''No
Tomorrow''), by Vivant Denon, an 18th-century libertine who chose to remain
anonymous. In it, a young chevalier travels by coach to the same chateau 200
years earlier to keep an assignation with the chatelaine. Their lovemaking,
drawn out over a whole night, is informed by the elaborate rules of conduct
their century affected. Denon's novel, known only to a small circle in its own
time and republished in 1992, has come to represent, the narrator tells us,
''the art and the spirit of the 18th century.''
The young man on the motorcycle, Vincent, the chevalier's modern counterpart,
is the protagonist of the third part of Mr. Kundera's fictional triptych. He
has arrived at the chateau for a conference on entomology, also attended by a
pretty typist named Julie, a Czech scientist whose career was fatally
interrupted by the 1968 Russian invasion, a famous leftist intellectual named
Berck (in French, ''berck'' is a colloquial expression of disgust), a would-be
camp follower who is gainfully employed as a television producer and her
devoted slave of a cameraman. The complications that entangle them multiply in
the course of the evening with increasing frenzy until what looks like comedy
turns to farce, ending in a howlingly funny failed orgy.
Taking the ontological temperature of today and of the pre-revolutionary 18th
century, Mr. Kundera finds that the speed we love has beggared us of pleasure.
Vincent and Julie's rush to make love in public view leads to a rather
entertaining misunderstanding with the former's penis, whose eloquent -- it
makes a speech -- but stubborn refusal to cooperate confirms the novel's
earlier assertion that in delegating speed to a machine (the motorcycle) we
leave the body ''outside the process.''
Through an accumulating tissue of action and metaphor, the novel is proposing
that perhaps real freedom doesn't lie in the jettisoning of all restraint. The
18th century framed its lovemaking in high formality, while we celebrate
spontaneity. But look here, ''Slowness'' says, the chevalier and his mistress
are sexier than their frenetic modern counterparts: ''Everything is composed,
confected, artificial, everything is staged, nothing is straightforward, or in
other words, everything is art; in this case: the art of prolonging the suspense,
better yet: the art of staying as long as possible in a state of arousal.''
Cutting back and forth between Denon's novel and the chateau's unzipped
entomology conference, ''Slowness'' floats another hypothesis: that the nature
of fame has undergone a profound alteration since the invention of the camera,
one that alters the foundation of what Mr. Kundera elsewhere calls our ''map of
existence.'' Vivant Denon never claimed authorship of his novel. ''Not that he
rejected fame,'' the narrator speculates, ''but fame meant something different
in his time; I imagine the audience that he cared about, that he hoped to
beguile, was not the mass of strangers today's writer covets but the little
company of people he might know personally and respect.''
The modern part of the novel's triptych lays out the proposition that no one
now -- in the age of television -- can act in the world without imagining a
large and invisible audience. The novel then carries this proposition to its
absurd conclusion, in a dark burlesque not unlike the one Voltaire used to
prove that all is most emphatically not for the best in this best of all
possible worlds.
As all of Milan Kundera's other novels do, ''Slowness'' deals
with the issue of how the novel defines itself -- how does the audience
novelists write for change the way the writing takes shape? And, like the
novel's arrogant intellectual, Pontevin, who chooses to spin ideas for his own
pleasure only, do writers risk turning themselves into monsters of selfishness
if they choose to remain silent? Since one suggestion here is that form may
well be more freeing than its opposite, and that form is inseparable from
content, it seems unfair to accuse the novel of overschematizing. Clearly Mr.
Kundera is playing with the idea of writing a novel whose form itself recalls
the 18th century. And the speeding up to farce at the end of the book is
inextricably part of the point he is making. But, for all its audacity, wit and
sheer brilliance, I miss here the expansive feel of the earlier novels. There
are parts of ''Slowness'' that feel uncharacteristically heavy-handed.
Vera says that Milan might be writing a novel without a single serious word,
''A Big Piece of Nonsense.'' But Mr. Kundera's attack on the idea of progress
in ''Slowness'' is very much in earnest, echoed in his most recent long essay,
''Testaments Betrayed'': ''History is not necessarily a path climbing upward,''
he wrote, adding that ''the demands of art may be counter to the demands of the
moment (of this or that modernity).'' Modernism, he said, was once synonymous
with experiment, but since the invention of mass media, it has embraced
''received ideas'' with an enthusiasm for conformity that borders on the
totalitarian.
Mr. Kundera comes closer to polemic here than in his other fiction, but he is
fiercely defending the ''spirit of complexity'' that the novel embodies. The
novel's business, he wrote in ''The Art of the Novel,'' is to say to us,
''Things are not as simple as you think.'' So it seems almost churlish to point
out shortcomings in a writer of his spirit of play, breadth of reach and
perspicacity -- all admirably at work once again in ''Slowness.'' Much can be
forgiven a writer who fearlessly takes on impossible questions like ''What does
it mean to be modern?''
Подлинность. Identity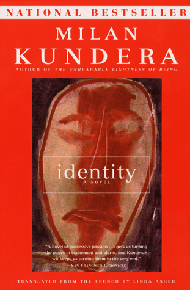
Novel,
written 1996, published 1997, 166 pages, translated into English by Linda
Asher..
'Identity': Nothing Is as It Seems, but Who Can Be Sure (by
Christopher Lehmann-Haupt, 7/5/1998)
Viewed superficially, the action of Milan Kundera's
compact new novel, "Identity," is simple, almost farce-like. While
vacationing at a hotel on the Normandy coast, Chantal, who has divorced her
husband after the death of their 5-year-old child, is amused to note how all
the men she sees "have daddified themselves." She reflects,
"They aren't fathers, they're just daddies, which means: fathers without a
father's authority." She's sure that if she tried to seduce one, he would
hiss, "Leave me alone, I'm busy."
When she is joined at the hotel by her lover,
Jean-Marc, who is four years younger, she complains to him half-jokingly,
"Men don't turn to look at me anymore." Back at their Paris
apartment, Jean-Marc, who has taken Chantal's complaint seriously, decides that
because she is obviously feeling older, "what she needs is not a loving
gaze but a flood of alien, crude, lustful looks settling on her with no good
will, no discrimination, no tenderness or politeness." So he begins to
send her anonymous letters describing himself as someone spying on her and
finding her "beautiful, very beautiful."
Although the letters at first serve to inflame the
couple's lovemaking, ultimately they backfire. Through a complex process,
Chantal and Jean-Marc suffer what might be called the shameful objectification
that Kundera has described elsewhere as a threat to all of us in the intrusive
modern era. As a result, the two become estranged from each other, losing their
identities as lovers.
Of course the novel is far richer than this summary
suggests. The main action is repeated in miniature throughout, almost as if the
story were constructed of modules. For instance, while Chantal waits for
Jean-Marc to join her at the Normandy resort, she overhears two waitresses
discussing a popular television program about people who have mysteriously
disappeared called "Out of Sight," and she imagines the horror of
losing Jean-Marc "that way someday." And several times in illogically
different settings, she encounters a young tattooed man who seems to threaten
her sexually.
The novel is full of expressions of the paradoxical
feelings so typical of Kundera's longer, more expansive novels like "The
Book of Laughter and Forgetting," "The Unbearable Lightness of
Being" and "Immortality." For instance, one day while the two of
them are eating lunch, Chantal is overcome by "a feeling of unbearable
nostalgia for Jean-Marc." How could this happen in his presence? It can
"if you glimpse a future where the beloved is no more; if the beloved's
death is, invisibly, already present." At this moment, she thinks of her
dead child and is flooded with a wave of happiness, because it is his death
that has made her presence at Jean-Marc's side "absolute." She does
not disclose this reaction to Jean-Marc because she fears "he would see
her as a monster."
"Identity" contains its share of Kundera
lectures on the modern era. "How is friendship born?" Jean-Marc asks
Chantal. "Certainly as an alliance against adversity," he continues.
But "maybe there's no longer a vital need for such an alliance."
"There will always be enemies," rejoins
Chantal.
"Yes, but they're invisible and anonymous.
Bureaucracies, laws," responds Jean-Marc. "Friendship can no longer
be proved by some exploit." He concludes, "We go through our lives
without great perils, but also without friendship."
And as it progresses, the novel's action grows more
and more surreal. The author even intervenes at the end, suggesting in his own
voice that from a certain indeterminable point onward in the action, Chantal
and Jean-Marc may simply be dreaming.
Yet despite all these earmarks of the typical Kundera
novel, "Identity" remains the most compact and integrated of his
recent fictions. In its brevity and unity of plot it surpasses even his
previous book, "Slowness," which was his first to be written in
French instead of Czech and was shorter by half than his best-known works.
Does this mean that he has renounced the polyphonic
novel with scrambled narrative and multiple authorial voices that has typified
his major work? Or is "Identity" going one step further than
"Slowness," where he seemed to be suggesting that form is both more
liberating than its opposite and finally inseparable from content?
One clue is that by writing in a form that goes
against one's expectations, Kundera has forced the reader to take nothing at
face value, but instead to see as tricks what in other writers' works one might
view as the straightforward elements of a story. As a result, the meaning of
"Identity" keeps collapsing into its opposite like an optical
illusion that can be seen two different ways.
The effect is like a film clip that is shown at the ad
agency where Chantal works. "On the screen is a behind in a horizontal
position, good-looking, sexy, in close-up. A hand is caressing it tenderly,
enjoying the skin of this naked, compliant body. Then the camera pulls back and
we see the body entire, lying on a small bed: it is a baby, with its mother
leaning over it. In the next sequence she lifts him up and her parted lips kiss
the lax, wet, wide-open mouth of the nursling. At that instant the camera draws
in, and the same kiss, by itself, in close-up, suddenly becomes a sensual love
kiss." As with the lovers' perceptions of each other in this arresting,
slightly frightening story of ideas in opposition, everything depends on a
slippery notion of identity that can change from one paragraph to the next.
The Object of My Obsession (by Robert Grudin, 17/5/1998)
If it ever occurred to you that you might brighten
your domestic partner's life by sending her (or him) anonymous love letters,
you probably decided, on further consideration, that it wasn't really such a
good idea. In fact, given the predictable consequences, it's a lose-lose proposition.
Your partner will either recognize you as the author and remand you to
psychiatric care -- or take the letters seriously, which is a whole lot worse.
For then you will have initiated a chain of disturbing events that you can
never effectively complete.
Yet it is precisely in such a fix that Jean-Marc, the
naive hero of Milan Kundera's latest novel, ''Identity,'' finds himself. He has
written passionate notes to his longtime lover, Chantal, in the belief that
they will ease what he takes to be a temporary emotional upset. Think again,
Jean-Marc. Chantal is such a mental mess, so fragile a tissue of phobia,
compulsion, mistrust and panic, that the letters drive her to the edge. The
lovers quarrel and split up and then separately board (or do they?) the same
train from Paris to London.
The ''or do they?'' is caused by the salient
structural characteristic of Kundera's flawed but insightful novel. I'm afraid
it's not a very attractive feature. Late in the narrative, Kundera (best known
for his novel ''The Unbearable Lightness of Being'') diverges from what had
been a well-paced play-by-play narrative into a sick fantasy that seems to
involve both lovers. Worse yet, in the penultimate chapter he steps into
first-person discourse and throws in the towel:
''And I ask myself: who was dreaming? Who dreamed this
story? Who imagined it? She? He? Both of them? Each one for the other? And
starting when did their real life change into this treacherous fantasy? When
the train drove down under the Channel? . . . When Jean-Marc sent her the first
letter? But did he really send those letters? Or did he only imagine writing
them? At what exact moment did the real turn into the unreal, reality into
reverie? Where was the border? Where is the border?''
Exactly like his hero, Kundera has begun a process
that he cannot complete. This is so embarrassing a gaffe, so egregious a
cop-out, that the reader must be warned. Kundera has broken the implicit
contract, simple but severe, between writer and reader: the promise of an ending.
We can't ignore this promise or scoff at it as being merely ''plot.''
Characters in good fiction create a justice that they must, in turn, suffer.
It's not until they suffer this justice that they fairly identify themselves as
characters. The completion of plot is thus the presentation of character.
Kundera has aborted this presentation and, in effect, killed his own fiction.
As the victim lies sprawled on the coffee table, we
must take on the role of detectives and ask who or what brought it to its
untimely end. Has ''being'' grown so unbearably light that Kundera can't even
write about it anymore? Or, rather, unbearably heavy? The fatal difficulty
seems to lie in the character of Chantal, with whom Kundera seems as fascinated
as Jean-Marc. As her creator, he allows himself to be drawn into her
psychological vortex, her center of disturbance. There is only illness here --
no spark of consciousness or glimmer of redemption. Though his creation,
Chantal has seized dominance and backed her author into a corner. He cannot
save her, yet lacks the toughness to destroy her.
''Identity'' has other foibles, which include lengthy
dyspeptic philosophical maunderings after the French fashion (the novel,
translated by Linda Asher, was written in French) and excessive attention to
phobias, notably an aversion to saliva. But, unlike its heroine, the book
contains ample material for redemption: analyses so thoughtful that they
justify a reading. These analyses concern the book's declared subject: human
identity. Kundera lucidly discloses the psychological obsessions of the two
lovers and shows how these obsessions lead to repeated miscommunications
between them. Jean-Marc projects an idealized identity onto Chantal and is
deflated when his projections are contradicted by simple reality. Chantal's
fear of men is so overwhelming that she sees Jean-Marc, the only man who wants
to save her, as a figure of oppression. Their relationship fails because each
lover has twisted the other into a subjective and unmanageable identity.
PARALLEL to these destructive projections, and in part
caused by them, is a curtain of shame and secrecy that prevents Chantal and
Jean-Marc from opening up to each other about the things that concern them most
powerfully. Jean-Marc muses that ''what people keep secret is the most common,
the most ordinary, the most prevalent thing, the same thing everybody has: the
body and its needs.'' But the novel implies something more profound: that feelings native to all of us -- like
insecurity, loneliness and anxiety -- are routinely and often disastrously kept
from each other by lovers or spouses. Because they cannot reveal their
humanity, Jean-Marc and Chantal are sapped of character and deprived of love.
Kundera wisely shows that it is by concealing our communality, our community,
that we lose individual identity.
La Ignorancia / Ignorance *

Novel,
started by end of the 80ies in French, in April 2000 published first in Spanish
and Castilian in South-Americy. The German version appeared in February 2001.
* It is not known to us what will be the titel of the book in English,
Ignorance should be the best guess.
Contents
'Why
are you still here?' is the question Irina is asked by her French girl
friend Sylvie in 1989 after the peaceful revolution in Czechia. Why doesn`t
Irina turn back to her country? On her way back to Prague she is tormented by
questions about her native country. After 20 years of emigration Irena und
Josef return to the Czek Republic, he had emigrated to Denmark. At the airport
they meet each other by chance. It has been long since they`ve become
acquainted - without really falling in love. They realize the sad truth:
Neither can their interrupted history start again, nor does the 'Great
Comeback' or reconciliation with that part of them which stayed in Prague take place as they expected it.
That is where arises the parallel with the classical Odyssey. When Ulysses
comes back after 20 years, the Ithakans kept indeed the memory of him, yet
without the slightest shade of nostalgy. Meanwhile Ulysses perished himself
with a nostalgy which is nothing else but the pain of mutual ignorance.
Cut off from 20 years of life, from a part of herself, Irina recognizes that
nobody takes care of her odyssey. Nothing is like it has been in Prague. Themes
of the new novel of Milan Kundera are emigration (a word which Kundera prefers
to 'exile'), absence, memory, forgetting, nostalgy, indifference, seniority,
the fragility of presence. Tragedy can be sensed on each page of the novel.
Ignorance is that her friend Sylvie doesn`t understand that she feels at home
in France, ignorance is also that Irina and Josef have wrong expectations while
travelling to Czechia.
Михаэль
Кольхауэр. Роман и идеология. Точки
зрения.
Да, я знаю, что идеи существуют лишь благодаря людям; но в этом как раз и заключается трагизм: идеи живут за счет людей.
А.Жид. Фальшивомонетчики
(пер. А.Франковского)
"Подделка" Жоржа Бернаноса. Само название романа указывает на намерение. В нем больше, чем программа; в нем обещание: обещание нечто прояснить, предварительно разоблачив какой-то обман, секрет, тайну не столь важно, что именно. Прямолинейная, полемическая манера, в которой это делается,пропитана духом двадцатыхтридцатых годов времени конфронтации радикальных направлений; не терпящий возражений тон стремитс соответствовать религиозной и политической позиции автора. Словом, сразу видно, что роман не выполняет своего обещания. Я не имею в виду его художественные достоинства, которые неоспоримы, во всяком случае, значительно выше, чем любые прямые декларации. Но конструкция в целом рушится (крах не есть ли это оборотная сторона медали, как бы истина подделки?), и рушится в своем изначально объявленном задании: проникнуть в последние глубины раздвоенности человека, чтобы, не ограничиваясь простым утверждением, показать ту католическую целостность, которая способна противостать протестантскому или модернистскому заблуждению. Таким образом, сталкиваются и в конечном счете противоречат друг другу две логики, которые я определил бы как логику идеологическую и логику романическую; подчеркнем, что при этом одна неотделима от другой. Итак, две разные логики в одном голосе. Перефразируя известное высказывание А.Жида по поводу философов, я бы резюмировал ситуацию так: когда христианин говорит о мире, создавая перед нами его образ, пытается его описать и истолковать, я знаю, по каким законам работает его мысль; но когда говорит и размышляет романист, особенно если он говорит и размышляет через посредство своих персонажей (таких, как Сенабр), я отказываюсь что-либо понимать[2] 1.
"Прочесть" связь
"Говорящий человек и его слово" таково возможное, если не исчерпывающее определение романа[3] 2. Но кто в романе говорит? Чъим именем? Что хочет (и чего не хочет) сказать? Литературу охотно наделяют, особенно в наши дни, неким священным статусом, по крайней мере,
Роман и идеология.
Точки зрения признают за ней право ставить под сомнение ценности идеологии. Однако в действительности дело обстоит совсем не так. Читатель, даже самый неискушенный, наряду с сюжетом, дискурсом, персонажами вычленяет или безотчетно достраивает в тексте или же "подтексте" романа некую "общую", доминантную позицию, обычно принимая на веру несколько наиболее ярких идей, исходя из некоторой привилегированной точки зрения. (Возможно, создание такого синтеза отвечает некоторой квазиан тропологической потребности субъекта чтения в идентификации.)
Как любой речевой акт и словесный продукт, роман не меньше, чем о себе самом, говорит о лежащем вне его: философии, политике, социальной проблематике, в общем, о жизни. Связь осуществляетс в форме цитирования, иногда обмена, а главное конкуренции. В своем собственном слове роман не просто отражает другие слова, сказанные о мире; скорее он их переобозначивает и перетасовывает, он задает им вопросы, оспаривает или заставляет работать на себя. Подобную простран ственно-временную или сюжетную организацию дискурсов и фигур, подчиненную одной определенной точке зрения (нередко с какой-нибудь "идеей в подтексте"), называю идеологией. Идеологией в буквальном смысле: "слово в поисках идеи". Или так: совокупность образов, фигур, мифов, идей и понятий, в которых роман реализует себя и которые определяют его значимость.
Разумеется, не существует повествовательного текста без идеологии, без аксиологии. Это может быть "ангажированность", "программность" (вплоть до "идейности", о которой говорил Поль Бурже) или что-то другое, но так или иначе роман взвешивает свои слова, проводя определенную мораль и используя определенную технику; он создает свои приоритеты, даже когда сам того не хочет. Но в чем же, собственно говоря, идеология романа? Как ее расшифровать, не впадая в интерпретативную надуманность (вынужда текст сказать больше, чем он может сказать) или же неискушенность (не говоря о том, о чем текст умалчивает)? Или же напрашивается вывод, что романное повествование, "сложная структура, образованная разнородными стилями, голосами, языками"[4] 3, "самый свободный, самый lawless <...> из всех литературных жанров"[5] 4, опровергает необходимость выбора точки зрения и логической выстроенности как принципа видения реальности. Однако такая нейтральность, или дистанци рованность, отражающие дух времени (ознаменованный, как принято считать, концом идеологий, а то и вообще идеологичности), не противны ли они в своей заданности, граничащей с общим местом навыворот, самой природе романа, т.е. слова, рожденного из переговоров с миром?
Итак, отнюдь не утверждая, что роман ни при каких условиях не в состоянии выйти из-под контроля идеи или программного положения, необходимо обратить внимание на характерный именно и исключительно дл романа способ выработки идеологии. Без сомнения, любой элемент текста способен быть знаком и иметь смысл, т.е. обладать ценностью как вещь, так и слово. Ничто тут не сохраняет нейтральность[6] 5; повсюду, пусть смутный, отпечаток присутствия чьей-то воли, сознания, некоей связи: в пространственно-временной организации, в описании вещей, во взгляде на людей, в деталях, обойденных молчанием, и т.д. Как в литературе, так и в идеологии суть дела или специфика заключается в архитектонике, в построении целого и расположении фигур словом, в форме, которая есть наименее прямой путь, соединяющий два значения.
Вероятно, в большей мере, чем прочие жанры, роман есть голос о мире и голос самого мира, даже там, где он выдает слова за свои собственные. Об этом заявляется эксплицитно, когда произведение путем синекдохи или введения текста в текст само себя считывает; или же имплицитно, когда читателю предоставляется самостоятельно пройти путь создания этого произведения. И вот именно тут, я считаю, нужно начинать прослеживать идеологический маневр усилие сконструировать некую (на первых порах внутритекстовую) реальность: некую связность, некий мир, а главное персонажей (в числе которых и сам автор). Любой роман, не исключая и так называемого диалогического, не просто сталкивает мнения, не просто служит рынком идей; роман это прежде всего стремление к связности, механизм сочленений, переплетений, письма. Иначе говоря, осуществле ние определенной этики не через посредство, а одновременно с эстетикой. Повествовательный текст, таким образом, интересует меня в своем качестве идеологического пространства и идеологической ставки, в той игре дискурсов, мыслей и точек зрения, из которой в романе образуется определенная позиция, определенный голос и даже интенция.
Идеология, идеологичность
Еще одно вводное предостережение против скоропалительных выводов о панидеологичности (со времен Гегеля известно, насколько "все" тяготеет к "ничто"): не все то идеология, что на идеологию похоже. Последняя предполагает прежде всего и почти по определению некое осознание мира, что, в общем-то, и есть задача романа. Таким образом, идеология, в отличие от идеологичности, проступает в тексте как результат если не расчета или притворства, то определенного намерения, пусть выраженного не прямо и не окончательно. Иметь идеологию это прежде всего думать о том, что говоришь, и в меньшей степени стараться показывать, что говоришь то, что думаешь. Это значит иметь точку зрения (плюс претендовать на последнее слово). Подобное стремление, оно же стремление к истине, релятивизирует понятие "ложного сознания" (сознание, сказал бы Маркс, всегда само себя обманывает; я бы добавил, что именно благодаря этому оно способно обозревать себя, а в случае необходимости и измерять собственные пределы); но в нем исключается релятивизм. Действительно, если любая мысль содержитдолю иллюзорности, то иллюзорность, ставшая системой или приемом (назовем ее ритуальной или мифологической), не стремится больше любой ценой к именованию мира. Впрочем, поповодусамогосокровенноговэтой области "все настолько единодушны, что оно даже не оговаривается"[7] 6.
Однако тут, как и везде, не все так просто. Сама идеология и сам роман могут осложнять дело в зависимости от того, пытаются ли они вникать в свои обманы и ставить их под вопрос или же, наоборот, не дистанцируясь от них, ограничиваютс повторением якобы самоочевидных общих мест и несообразностей чужого толка. Логос далеко не всегда есть самообман, равно как и роман не является истиной в последней инстанции. Я хочу сказать, что, хотя идеология не может не содержать некоторую долю предвзятости, свойственную ей по природе, у идеологии есть своя ценность и даже своя мораль, если она осознает собственные слабости и предрассудки и пытается от них освободиться. То же самое происходит и с романом, когда он иронически измеряет собственные пределы или собственную невозможность[8] 7. Великий романист может срывать маски иллюзий (в том числе собственных), однако в конце пути он все же не ступит на твердую почву. Аутентичность, в той мере, в какой она возможна, рождается в романе да и где бы то ни было лишь при непрерывном возобновлении усилия, повторении вопроса. (В качестве доказательства от противного можно привести в пример литературу с установкой на "само собой разумеющееся" особенно такую, котора прямо этого не говорит, с непоколебимой уверенностью в себе, размытыми убеждениями и полной неспособностью к иронии: таков кич, бульварное чтиво, массовая литература. Иногда она проповедует какие-то идеи, но любой настоящий роман, великий или невеликий, отличается от нее тем, что я называю риском иметь идеологию. Однако вопрос в том, остается ли романом тот роман, чье главное правило молчаливое, но неукоснительное если не вульгарность, то общепринятость и трафаретность?)
Только посредственные романы не имеют что сказать, вернее, плохо говорят то, что имеют сказать. В качестве гипотезы допустим, что можно написать роман, распадающийся на куски, выговаривающий себя урывками, обломками вопросов, поставленных без порядка и усилия связи. Что бы из этого получилось? В лучшем случае шедевр, в худшем просто ничто. Разумеется, "литература не есть инструмент ни целостно оформленной, ни строго организованной мысли"[9] 8; искусству свойственно с помощью амбивалентности используемых фигур поддерживать смысл в "состоянии проблематичности", не поддающемся исчерпывающей интерпретации[10] 9. Однако идеология (стоит ли это напоминать), как и роман, который питает ее информацией, как и миф[11] 10, с которым она порой схожа, не бывает полностью завершенной и непроницаемой, то есть идеальной. Она всегда говорит что-то лишнее, всегда "дает понять одновременно и нечто другое"[12] 11, что-то до- или сверхидеологическое: ту цену, которой покупается связность текста, те кружные, прерывистые пути и умолчания, благодаря которым чтение беспрерывно возобновляется. Подобная перспектива, видимо, как раз и определяет ценность романа: идеология в нем, отнюдь не провозглашая готовых истин, становится маневрированием , в конечном счете работой.
Итак, разница между "идеологией" и "идеологичностью" не просто в семантических оттенках. Избыток идеологичности уводит от текста, настаива на видимом смысле слов и не позволяя зазвучать умолчаниям. Идеология же, равно как и роман, возвращает слова самим себе; она дает им новые обличь и заново пускает в оборот, проверяя их на содержатель ность и идейный вес. Идеология это своего рода стиль, ибо она рождается благодаря дистанции, отклонению; это форма. Обозначая действующую в тексте волю или, во всяком случае, некое личное "мы" она придает или пытается придать голос, то есть смысл, той жизни, копированием которой (как чего-то само собой разумеющегося) довольствуется неопределенно-личное on/Man ритуала, ставшего мифологией. Идеология обрабатывает материал очевидности, тогда как идеологичность находится у нее в подчинении. Позволю себе игру слов: если существует истина идеологии, она начинается там, где кончается идеологичность, на обломках общепринятости и очевидности.
Позиции
Итак, идеология и роман. Связь между ними сомнений не вызывает, вопрос в том, каким образом происходит их сочленение. Возражения, более или менее серьезные, известны. Они адресованы философам, историкам идей, социологам людям, занимающимся размышлением о том, что говорит и чего не говорит литература. Рискуя наскучить, я приведу их здесь. Идеологическое прочтение (если позволительно так выразиться) а) предполагает в качестве отправной точки некую готовую, взятую извне доксу, которую более или менее верно выражает данное произведение; б) часто вопреки "горизонту ожидания" (Яусс) отдельного читателя (осуществляющего единственное опосредование между реальностью текста и реальностью мира) оно навязывает свои собственные модели, координаты, системы ценностей, исключая при этом другие,равно возможные; в) будучи дискурсом, оно охватывает полнотуизаконченность, тогда как искусство говорит нам также о пустоте и молчании; г) оновидит в слове лишь его значение, во фразе лишьидеюи д)сводит к голому понятию то, что высказано на языке образов и фигур; наконец, е) оно делает из романа "законченный продукт"[13] 12, тогда как тот всегда многолик, потому что многоголос, и разомкнут, потому что всегдавдвижении.
К этому отнюдь не исчерпывающему перечню нужно добавить еще один, более существенный упрек в недостатке посредующих звеньев, не столько даже между романным вымыслом и реальностью, сколько внутри самого романа, где многообразие слов, мыслей, точек зрени часто сводят, как ни в чем не бывало, к самодовлеющему сознанию одного главного персонажа или к сознанию автора, рассматриваемого как последн инстанция. Из возможных примеров приведу Д.Лукача, чья "Теория романа" (философский труд скорее в романтическом, нежели в гегельянском духе) зачарована более цельностью, чем целостностью. "Эмпирическое я", полагаемое в основу эпического искусства[14] 13, правда, остается субъектом, пусть и находящимся в процессе становления; это "я", хоть и проблематичное, скорее измеряет себя реальностью, испытывая и удостовер ее, чем творит ее и вместе с ней самого себя. Не то чтобы здесь отсутствовали противоречия напротив; но они не распространя ются за пределы отношений героя с миром, не затрагивают автора, рассказчика и персонажей. А если по своей сути роман действительно "биографичен", то какую же природу имеет это "творческое сознание" (gestaltende Gesinnung), призванное обьединять распадающиеся элементы романа в этическое целое?[15] 14 Каково его место в тексте, где те прямые или окольные пути, которыми оно проникает в текст?
Новые времена новые знания (или верования). Вслед за Бахтиным Милан Кундера набрасывает историю романа, который для него, теперь уже почти по определению, незамкнут, полифоничен, обладает множественностью смыслов. Хорошо различим мотив: романист не есть "чей бы то ни было рупор, и можно даже сказать, что он не есть рупор своих собственных идей"[16]15. Вопреки убеждениям идеологов (Кундера называет их "агеластами"), "уверенных в том, что истина проста, что все должны думать одно и то же и что сами они суть в точности то, чем себя считают"[17]16, для искусства романа характерна сложность (что не исключает непрерывности), склонность вбирать в себя даже те области, где царит лишь разум. Из чего следует, что свое "право на существование" и даже свою "единственную мораль" роман получает, "открывая то, что доступно лишь роману <...> Роман, который не открывает какую-нибудь новую, ранее неизвестную часть бытия, имморален" [18]17. Заслуга такой позиции, несмотря на всю ее категоричность, во всяком случае в том, что она разбивает крайне живучий миф об ответственности автора за то, о чем якобы говорится в его произведении, и помещает идеологическое пространство внутрь самого романного мира. Но в таком случае кто же такие этот Бальзак и этот Стендаль, которые, по заключению Лукача, "представляют две диаметрально противоположные, однако исторически обусловленные позиции в отношении к тому этапу эволюции человечества, в котором им довелось жить"?[19]18 Некая сумма, среднее арифметическое, равнодейству ющая точек зрения, рассеянных в их повествованиях? Проблема, сформулированная таким образом, становится вопросом о происхождении и источнике, то есть авторской подписи , где текст пересекается с миром родиной идеологического слова, местом, откуда оно пришло и куда в конечном счете нацелено. Это также и вопрос об идентичности и идентификации произведения, которое "никогда не равно самому себе, всегда отлично от себя, то есть существует не только с, но и без, и помимо себя самого" [20]19. Тогда кто же субъект романной речи, кто отвечает за слова, мысли и позиции романа? К какому пласту в романе отнести проблему ответственности, установив, что она не совпадает ни с авторской, ни с общественной, но может предшествовать им, становиться их продолжением, выходить за их пределы? Отнести ли ответственность на счет реального или подразумеваемого автора, который парадоксальным образом в романе ищет себя и теряет, утверждает и уничтожает[21] 20 словом, по главной своей сути творит себя вместе с произведением, отделяясь при этом от фигур рассказчика и персонажей? Или же ответственность наступает на уровне рассказчика, даже на уровне отступлений и комментариев? Или же на уровне героя? (Вопрос о читателе слишком обширен, чтобы его здесь затрагивать.)
Отказываясь от такой удобной передачи произведени в ведение какой-либо определенной инстанции (индивидуальной или коллективной), я выдвигаю тот неоспоримый аргумент, что если автор и воплощает материальный источник всего, что делается, говорится и думается в романе, то совершенно невозможно все это свести лишь к его воле и тем более к некоему единому намерению. Между писателем и миром находится текст игра, в которой рождаетс субъект, некое присутствие (или отсутствие), иными словами, между ними стоит письмо,"а именно то пространство, в котором грамматические лица и истоки дискурса перемешиваются, безнадежно перепутываются, безвозвратно теряются" [22]21.
Отсюда вывод (претендующий на умеренность, но не аксиоматичность): роман отнюдь не описывает и не отражает некую реальность, уже оформленную мыслью; роман есть прежде всего работа маневрирова ние. Другими словами, альтернатива превращаетс здесь в альтернацию. Или иначе: в вопрос перспективы, игры точек зрения, которая в пределах текста артикулирует его элементы. Итак, идеология романа утверждает или теряет себя, запутывается или разрешается на многочисленных уровнях и в различных подсистемах повествования. Начиная с автора (который творит повествование, а с ним и самого себя), через рассказчика (который его ведет и комментирует) и до персонажей (которые говорят и думают, будучи в то же время проговариваемы и обдумываемы в повествовании) идеологи есть та игра (и то "эго"), где сменяющиеся ракурсы и фокусы то утверждают, то оспаривают, во всяком случае, заранее осложняют возможность прочитывания доминантной идеи и последнего слова.
Ракурсы
Где и как в таком случае идеология, "эта идеальная часть реального" [23]22, поддается прочитыванию, если в тексте она реализуется не в мысли автора, а как-то иначе? В романном повествовании не просто обдумывает ся или фиксируется некая пришедшая извне идея, она подвергается обработке и тем самым во-площается и во-человечивается. В конечном счете она обретает свой первоначальный исток человеческую субъективность, человеческий голос, звучащий или записанный. Поставим вопрос иначе: где и как роман становится идеологией? Иначе говоря, на каком уровне текста и, главное, каким окольным путем в его словах, фигурах и формах (если они вообще на это способны) запечатлевается чья-то индивидуальна или коллективная история или значимая речь?
На уровне авторских отступлений? Стоит ли напоминать, что в романной структуре данный уровень целиком принадлежит рассказчику, подчиняясь техническим нуждам повествования или логике избранной точки зрения. Это не зависит от того, выражается ли в отступлениях согласие или критика, делаются ли обобщения или преследуются чисто технические цели. Так, у Бальзака и Мопассана отступления часто принимают за слова автора, тогда как они продиктованы лишь повествовательной стратегией обосновать рассказанную историю[24] 23. Рассказчик же это прежде всего фигура текста (конечно, если он не является прямо его персонажем), даже когда он оставляет свою законную функцию управления и принимается объяснять, комментировать или обобщать. Считать, что за каждым отступлением скрываетс автор, значило бы выпускать из виду то, что фигура рассказчика отнюдь не отождествима с автором, а дает последнему прекрасную возможность отводить глаза читателю и в каком-то смысле "заставлять забывать" о себе. (Однако полностью отделять рассказчика от автора, как того требуют удобные императивы структурного подхода, это значит слишком легко забывать о том, что лишь посредственное произведение не имеет своего голоса и что не бывает настоящего романа, где бы автор не ставил на карту если не свою жизнь, то свое слово и идентичность.)
Значит, на уровне персонажа? Выскажу гипотезу, развиваемую в настоящих размышлениях: на мой взгляд, именно на уровне персонажей скорее всего и решается судьба романа вообще и его идеологическая судьба в частности. (Впрочем, что может быть истиной романа, если не истина персонажей?) Мне кажется это требует проверки, что и в романе, и в идеологии суть заключаетс в тонком и часто неустойчивом равновесии точек зрения, слов и мыслей, с помощью которого автор (в данном случае рассказчик) совершает свой выбор через большую или меньшую степень отстраненности или близости, на которую он решается пойти с персонажем(-ами).
"Я взял за правило никогда не занимать какой-либо позиции по отношению к моим персонажам. Я оставляю их один на один с читателем. Это не мешает установлению некой скрытой связи между мной и одним из героев, отношений симпатии или неприятия. Но только с того момента, когда персонажи начинают диктовать мне свою волю, я чувствую, что у книги есть шанс стать удачной" [25] 24. Такому несколько идиллическому взгляду на ответственность писателя можно, думается, предпочесть более трезвый взгляд Мориса Бланшо: "Роман со стороны романиста есть акт некоторого самообмана: он как бы верит в своих персонажей и в то же время действует у них за спиной, он многого о них не знает, воспринимает их как незнакомцев и в то же время находит в целиком подвластном ему языке средства ими повелевать, не прекращая считать, что они ускользают из-под его власти" [26] 25.
Таким образом, с точки зрения идеологической романист думает и говорит через и для своих персонажей. Вместе с ними он проверяет, исправляет и уточняет возможные мнения. Скажем так: персонаж, поскольку он предполагает связь с Другим (в частности, с автором), в той мере, в какой он является носителем услышанного слова и разделенной мысли, то есть некоторым способом со-бытия с Другим, представляет собой ту почву, на которой идеология кует свои формы и прорисовывает свои черты. (Вопрос о природе персонажа, его вымышленности или "как бы реальности"[27] 26 встает во вторую очередь.) Для идеологии же главная задача присутствовать в мире, присутствовать перед лицом Другого здесь ее причина и цель. Итак, нарративный механизм воспроизводит с целью последующей проверки в перипетиях романного повествования не столько смыслы, сколько движущую причину идеологии; он позволяет попробовать свою мысль, свое слово в устах Другого, попытаться заставить Другого их разделить или, если получится, ему навязать. При этом нельзя забывать о нюансах, возникающих благодар смене углов зрения. Например, можно было бы предположить, что позици всеведущего автора (то есть нулевая степень сфокусированности) более всех предрасположена к изречению последнего слова. Однако тут нет прямой зависимости. Нужно отличать всепроникающий взгляд, которому, по определению, открыто все и внутри и снаружи, от той точки зрения, которая позволяет говорить и думать с персонажем. Эти взгляды практически не пересекаются. Их разделяет больше, чем разноуровневость, разноприродность. Что в одном случае возможность, в другом становится позицией я чуть не сказал "этикой": взгляд "из-за спины" позволяет разглядеть изнутри истину персонажа (у Блуа, например, или у Бальзака); видение "вместе" показывает прежде всего поиск этой истины. Однако последнее, будучи доведено до своего логического конца, может стать (в несобственно прямой речи) как раз взглядом извне. Чем больше пытаешься знать, тем меньше, в сущности, знаешь. Обратное не обязательно верно (ср. внешнюю фокусировку и построенные вокруг нее теории): тот, кто делает вид, что знает мало, часто знает больше, чем говорит.
Но довольно играть техническими нюансами. Суть в другом. Вот что-то вроде правила, проверенного на примерах: чем больше автор или рассказчик (скажем "писатель", смягчив тем самым строгость структурного анализа) открыт точке зрения, слову, мысли Другого в данном случае персонажа и чем больше он впускает Другого в свою собственную точку зрения, в свое слово, в свою мысль, тем меньше ему грозит идеологическая закрытость. Логика романа, обретая себя в персонажах, использует факторы, с которыми логика идей, целиком лежащая на поверхности, заботящаяся лишь о соблюдении связности, просто не знакома, не умеет обращаться: сомнения и нестыковки, разбросанность и растерян ность, безумие, молчание... Роман, говоря вместе с нами, высказывает и то, о чем мы молчим, даже если нам кажется, что мы это высказываем. Он оживляет и обнажает ту потаенную часть человеческого существа, те слепые лабиринты и темные переплетения скрытых и скрываемых мотивов, о которых забывает или не подозревает в своей неповоротливой прямолинейности логос.
Таким образом, мысль или слово, разделенные Другим (в несобственно прямой речи, психоповествовании, внутреннем монологе), в той мере в какой они встраивают в структуру персонажа одновременно опыт, сознание и творческую власть автора, есть как раз та область, где локализуется риск идеологии, то есть попытки произнести последнее слово. Идеология вовсе не отрицаетс в этой мысли или слове, она обретает в них имя, голос, лицо. Перефразиру Поля Рикера[28]27, можно сказать, что идеологи ческая идентичность романа есть функция, разумеется консубстанциаль ная, идентичности его персонажей: чем менее последняя завершена в смысле полноты и разъясненности, тем более открыта первая, представляя собой вопрос.
Точки пересечени
Но пора подводить итоги. Роман и идеология. Точки зрения. Случайность или предчувствие, призыв к осторожности уже в самом этом названии? Совершив свой скорый пробег, вижу, что должен понизить ставку. Все здесь сводится к игре перспектив и сопротивлений : я хотел показать, где и как роман строит идеологию, а не выражает или отражает ее (что, разумеется, далеко не одно и то же). Но сейчас не врем для широких обобщений и категорических утверждений. Мои выводы будут более чем скромными:
(а) Отношение идеология/мысль подобно отношению стиль/язык: слово, несущее на себе личную подпись и личную вовлеченность, чей-то, пусть даже рассеянный, голос. Поэтому так трудно ее о-пределить: она уже не общее место, еще не мировидение (Weltanschauung); чтобы стать литературой, идеология выговаривает себя голосами романа.
(б) Отнюдь не исключа ее вовсе, роман строится одновременно с идеологией и против нее вопреки идеологии. Он работает с идеологией, а не просто устанавливает факт ее присутствия или отсутствия; и чем активнее он с ней работает, тем в большей степени он роман. (Что исключает как полноту, так и пустоту: противоположность предвзятости не то же самое, что противоположная предвзятость.)
(в) Как и роман, идеология предполагает маневрирование, а значит риск (в этом ее отличие от идеологичности). Идеология это движение, идущее от автора к читателю, главным образом на уровне текста, в котором письмо пытается ухватить то, что оно говорит, по мере самого говорения (в идеологии, конечно, присутствует логос, но присутствует и слово в поисках идеи, а также стремление к связности).
(г) Идеология стремится к связности, она есть усилие связать, сплести воедино текст, его слова и мысли, его персонажей. Важно уже само по себе это усилие установить живую связь, через отрицающие ее противоре чия и сомнения, через окольные или прямые пути, которыми она идет.
(д) Никогда нельзя точно определить, в чем именно заключается идеология того или иного романа; лучше рассматривать все то, что нарушает и замутняет ее течение, останавливая в итоге ее стремление оставить за собой последнее слово. Таковы двусмысленности, нестыковки, внутренне мотивированные умолчания и незавершенность персонажей.
Итак, в отношении идеологии роман строится через недо-статок и за недостатком лучшего во всяком случае, вопреки любому идеалу или модели. Он "существует лишь поскольку не совпадает в точности с тем, чем мог бы быть, с тем, чем должен бы быть"[29] 28. А именно определен ной идеей о мире, определенной точкой зрения.
P.S. Идеологи Я и роман: краткий путеводитель по лабиринту литературы по теме
1. Дефиниции
Точка зрения, принятая в настоящей работе, сформировалась под влиянием, воспринятым частично по принципу отталкивания, определения идеологии, предлагаемого Луи Альтюссером[30] 29: идеология это "система (обладающая своей логикой и строгостью) представлений (образов, мифов, идей или понятий), существующих и играющих историческую роль внутри данного социума". Это определение, каким бы нейтральным оно ни казалось на первый взгляд, исключает релятивизм: в той мере, в какой она предполагает стремление к осмысленности и связности, идеология означает некоторую позицию; она есть продукт воли к именованию мира, которая начинает с вопроса, адресованного реальности (в то врем как идеологическая предвзятость довольствуется воспроизведением якобы очевидного). Разумеется, сейчас не время углубляться в дискуссию по поводу идеологии, тем более что в рамках ее вопрос о литературе затрагивают нечасто и лишь в общем виде. Итак, ограничусь констатацией нескольких противоречащих друг другу мнений: одни считают, ссылаясь на Wissenssoziologie Карла Манхейма, что любой дискурс имеет идеологическую природу, выража частные, если не узкопартийные интересы; по мнению других, ложное сознание или "мистифи цированное сознание" (Анри Лефевр) идеологии противостоит критическому знанию (Корш, Парето, Хоркхаймер) или научному знанию (Альтюссер, Альберт, Поппер)[31] 30.
Таким образом, ложный или просто находящийс в плену иллюзий идеологи ческий дискурс имеет в своем основании два момента: во-первых, он монологичен, то есть исключает (по видимости, никогда не по-настоящему) двусмысленность, амбивалентность и индифферентность, а во-вторых, он считает и выдает себя за нечто бесспорное. Оставить за собой последнее слово так могла бы быть сформулирована его программа-максимум, заявленная или нет[32] 31. Мне, равно как и некоторым другим исследователям[33] 32, представляется важной и его установка путем абстракции или иллюзии цельности утверждать в качестве господствующего мнения или "эффекта реальности" (Барт) то, что относится лишь к какой-либо одной точке зрения, к какой-либо определенной истории. Идеологи и в этом заключается ее глубинная мотивация, равно как, вероятно, и ее парадокс, претендует на универсальность (социальную, историческую или просто "человеческую"); а между тем она есть жестко ограниченное сознание определен ного субъекта, который, по вечно актуальному выражению Вико, "мерой всего считает себя"[34] 33. Идеология, конечно, содержит в себе логос язык и речь. (Романтик Леопарди делает по этому поводу заключение, звучащее вполне современно: "Идеология включает в себя принципы всех областей знания, в особенности науки о языке. И обратно, можно сказать, что наука о языке включает в себя всю идеологию")[35] 34. Со своей негативной стороны идеология напоминает дискурс, который рассматриваетс как нормальный, разумеющийся сам собой, будучи,однако, лишь нормативным, исходящим сам из себя.Это язык, стремящийся стать природой реальностью . По существу, это означает либо превратно понятую объективность, либо не ведающую себя субъективность. В своей позитивной функции она ставит подпись под словом, а значит, и под определенной историей индивидуальной или коллективной, воображаемой или действительной. Думается, в этом и заключаетс различие между идеологией и идеологичностью: первая есть (о)сознание, в том числе и собственных пределов; вторая же пассивно-ущербное (так как безотчетное и безвольное) воспроизведение вечного statu quo ante имитация реальности, к которой не обращаются с вопросами. В самом деле, вопреки общему мнению, даже так называемая теория "отражения" не скрывает вопроса, адресуемого реальности; пусть даже в форме валоризации (Wertung)[36] 35 последней. Между теоретически обдуманным натурализмом Зол и натурализмом якобы "без претензий" какого-нибудь Ги де Кара пролегает огромное пространство именно пространство идеологии. И романа.
Реальность вопрошаемая, вовлекаемая в игру. Если существует точка пересечения романа и идеологии, то это тот вопрос, который они оба задают так называемой реальности. Идеология это не просто выражение готовой мысли, это прежде всего поиск смысла (не уже высказанного, а такого, который еще предстоит высказать) и лишь затем выход на какую-то тему или идею. Это работа, маневрирование, напряжение поскольку усилие связи. Так же и роман. "Даже роман, предназначенный только доставлять удовольствие, содержит в себе самые различные тезисы"[37] 36. Разумеется, это так. Но тезис сам по себе или даже несколько взятых вместе этого еще недостаточно, чтобы построить идеологию. Она требует помимо голого содержания еще и речь. Она дает миру форму и голос, а не только идеи.
В литературном плане идеология (порядком износившийся термин) может быть определена как перекресток четырех нормативных систем: нормы языковой, технической, этической и, наконец, эстетической[38] 37. Пьер Зима[39] 38 тоже различает четыре уровня идеологического дискурса: лексический, семантический, нарративный и прагматический. Несмотр на свой формальный характер, эти определения подчеркивают, что идеологи призвана образовывать единство: форм, содержаний, точек зрения, став таким образом подпись под голосом, по своей природе единым. Эта материализаци и особенно сингуляризация в конкретности романного произведения неизбежно абстрактных сознаний и мыслей составляет, вероятно, один из самых сложных вопросов, стоящих перед литературоведением. По этому важному пункту Люсьен Гольдман вслед за Лукачем пишет следующее: "Роман единственный литературный жанр, в котором этика романиста становитс эстетической проблемой произведения"[40] 39.
2. Позиции
Лукач, Кундера. Из других размышлений на тему отношений между идеологией и романом (Адорно, Блох, Бурдье, Машере и др.) ограничусь этими двумя позициями, которые могут показаться антиподами друг друга.
Примечательно, что в "Теории романа" ни разу не употребляется термин "идеология": романтизм обязывает ему предпочитается "этика". Но понятие тотальности, целостности (totalitй), или же единства, цельности (unitй), на котором она основывается и которое мы обнаруживаем также и в тематической критике Ж.Старобинского или Ж.-П. Ришара[41] 40, находится в центре рассматриваемого нами вопроса. Действительно, либо романное произведение строится из стремлени к логической связности (по определению всеохватной), которая, однако, не исключает и противоречий и нестыковок, и тогда речь идет об идеологии в полном смысле слова; либо оно их не принимает, вернее, пытается игнорировать, и тогда нужно говорить об идеологичности.
Однако "экспрессивная" или нет[42] 41 целостность, в том виде, в каком ее определяет Лукач, основываетс в первую очередь на абстракции; отдавая преимущество автору и его мысли, она не слишком принимает в расчет способ высказывания, характерный для данного текста: "Тотальность романа поддается систематизации лишь на абстрактном уровне <...> абстрактен творческий подход, который не устраняет, а оставляет нетронутой дистанцию между обеими группами структурных элементов, не превозмогает ее, а делает ощутимой в качестве переживания романного героя и, превратив ее в орудие композиции, использует для объединения обеих групп"[43] 42.
В противоположность этому Милан Кундера[44] 43 , с полным основанием настаивая на плюралистической и полифонической природе романа, оставляет, как мне кажется, совершенно в стороне его стремление к связности, если не к единству. Два замечания по этому поводу: первое по существу вопроса, второе методологическое. Подобная конфронтация: роман против идеологии, когда литературе как бы выдается карт-бланш, не считаясь с какой-либо ее предвзятостью, не учитывает, по-моему, главного в романном произведении: его способности, не исключая с порога возможности утверждения какой-либо идеи или точки зрения, оспаривать их и в результате уточнять, а то и преодолевать. Это, словом, сопротивляемость романа. И если некоторым писателям от Сервантеса до Бальзака и Музиля удаетс лучше, чем другим, отлить в романный вымысел очевидность своего мировидения, что сказать и что делать с теми многочисленными романами, идейными или развлекательными, которые с грехом пополам плетут свои повествования о чем-то несовершенном и приблизительном, которые Кундера характерно называет "романами после истории романа", поскольку они "уже не продолжают завоевание существующего. Они не открывают ни одной новой частички бытия; они лишь подтверждают то, что уже было сказано; более того, в подтверждении общепринятостей заключается единственное оправдание их существования, их слава, их назначение в обществе, которому они служат"? [45]44
Несмотря на расхождения в конечных выводах, бросается в глаза принадлеж ность "Теории романа" и "Если роман покинет нас" к одной и той же традиции (условно говоря, центральноевропейской Mitteleuropa), которую можно квалифицировать как философскую или этическую. Да и между иронией, которую Лукач определяет как "объективность романа", "негативную мистику эпохи, лишенной Бога", и "смехом Бога", о котором любит говорить Кундера, больше, чем простое совпадение. Помимо того, что оба автора опираются на опыт великих западноевропейских романистов от Сервантеса до Томаса Манна, пренебрегая "малозначительными" произведениями, оба в своих размышлениях проходят мимо тех мест и построений в тексте, где решается судьба идеологии.
3. Ракурсы
Сформулированный подобным образом, вопрос об идеологии и романе смыкается в конечном счете с вопросом об авторской подписи. При этом исключается апелляция к биографии допущение, что в романном повествовании отражается мир и мысль автора, окончательно сложившиеся еще до их включения в игру текста. В данном пункте я присоединяюсь к шутливому высказыванию Милана Кундеры: "Что касаетс псевдонима, то я мечтаю о мире, где писатели были бы обязаны по закону скрывать свое истинное лицо и пользоваться псевдонимами. Здесь тройна польза: радикальное сокращение графоманства; снижение агрессивности в литературной жизни; исчезновение биографических интерпрета ций произведения"[46]45. Предостережение Поля Валери в этом вопросе оказывается более чем актуальным: "Наивность. Святая простота тех литературных критиков, которые в произведении ищут человека, от средств выражения напрямую восходя к личности автора, не подозревая о фундаментальном принципе письма шарлатанстве, маскировке, псевдопсихологизме. На поверхности человек перед публикой, но понять-то надо каким образом он пытается себя скрыть"[47]46.
"Биографизм" Сент-Бева, Тэна или Лансона всегда в конечном итоге "объясняет написанный текст прожитым прошлым"[48]47. Следовало бы поступать наоборот: показывать, что в основе романического творчества лежит вопрос о возможных отношениях к себе самому и к Другому; иначе говоря, оценить способность автора с помощью текста поставить на карту свое слово. Почему автор становитс чуть более писателем, когда разыгрывает свое присутствие и в конечном счете свою идентичность во встрече с персонажем(-ами)? Более насущного вопроса я не знаю. Быть автором, по словам Эдгара Морена[49]48, под которыми я готов подписаться, значит ставить на карту свою субъективность и разделять ее с читателем. Без этого не существует романа.
Рамки настоящих размышлений не позволяют рассмотреть все ракурсы, помогающие обнаружить место и работу автора в романном повествовании. Однако здесь требуютс уточнения. Я счел возможным утверждать, что общие с персонажем видение и дискурс часто оказывают сопротивление идеологии в той мере, в какой выдают сомнение или вопрос писателя или читателя. Однако для подтверждени этого потребовалось доказательство от противного того, что Поппер называет "фальсифицируемостью". Но если обычно внутренняя фокусировка, общая для автора/рассказчика и персонажей, затрудняет и даже разрушает поверхностную связность текста и его стремление к последнему слову, она способна иногдаисо действовать их укреплению. (Среди прочих примеров Леон Блуа, у котороговнутренний монолог часто лишь видимость.)[50] 49 Это также не исключает того, чтодругие типы зрения (внешнее, абсолютное) открывают и даже облегчают путь идеологии. Повторю: речь идет о возможности, о достаточном, но не необходимом условии.
Я не затрагиваю здесь вопрос о чтении вопрос капитальной важности. Как в намечаемой самим текстом фигуре читателя, так и в условиях, определяющих его восприятие, текст, чтобы направить интерпретацию в нужное русло, пользуется специфическим арсеналом правил и ценностей[51] 50. Конечно, представляется очевидностью если не трюизмом то, что читатель должен сам заключать о ценности, в частности идеологической, того или иного произведения. Но дело осложняется, если мы признаем вместе с Валери, что настоящей литературе свойственно не столько предупреждать, сколько превосходить ожидания читателя, не создавая у него впечатление понятности, а оставляя "задание понять"[52]51. Пари, заключаемое с Другим на него самого, вернее, на различие (Жак Деррида называет это "destinerrance" или "clandestination"), то есть "открытость, предоставленная свободному выбору Другого, но в то же время сделанна в Другом <...>. Вторжение Другого, которого уже, вероятно, недостаточно называть просто "читателем", образует в тексте необходимую, хотя и всегда маловероятную , вторую подпись"[53] 52. Автор, помимо того, что принимает в расчет риск чтения, самим романом дает согласие поставить на карту свои убеждения, в частности идеологические.
4. Примеры
Не стану здесь подробно разбирать те романы и рассказы, на примере которых можно было бы проиллюстрировать настоящие тезисы: помимо "Подделки" Жоржа Бернаноса можно назвать "Надежду" Андре Мальро, "Испанское завещание" Артура Кестлера, "Памяти Каталонии" Джорджа Оруэлла (правда, жанровая принадлежность последнего неопределенна, где-то на границе между автобиографическим повествованием, документальным свидетельством, эссе и романом). Почему именно эти, а не другие произведения? Потому что они непосредственно отсылают к специфическому контексту (война в Испании, расцвет тоталитаризма), который обязывает к идеологическому выбору, к прямому ответу; потому что в них исключительно ярко дана ситуация напряжени (а значит, работы) между намерением, стремлением или необходимостью рассказывать историю, чтобы самому ей принадлежать, и романными средствами ее осмысления, в частности, изображения глубинных или тайных побуждений персонажей, ее творящих или ей покоряющихся. Клод Дюше в своем детальном разборе "Надежды"[54] 53 делает следующий образцовый вывод: "Надежда" колеблется между двумя или тремя прочтениями Истории (якобинским, большевистским и неоромантическим), между программой эффективности и мечтой о целостности, организуя при этом все уровни текста на этом колебании, которое противостоит как предвзятости, так и нейтральности. Такое колебание не только не разрушает роман, но, наоборот, его выстраивает"[55] 54.
г. Киль (Германия)
Перевод с французского О.Каменевой
"Иностранная литература", ?10, 1997
Милан
Кундера. Творцы и пауки
Из книги 'Преданные заветы'
1
'Я думаю'. Ницше сомневается в этом утверждении, продиктованном грамматической условностью, требующей, чтобы каждому сказуемому соответствовало подлежащее. На самом деле, говорит он, 'мысль приходит когда ей вздумается, так что утверждать, будто подлежащее 'я' определяет сказуемое 'думаю', значит извращать факты'. Мысль является к философу 'извне, свыше или снизу, как ей предназначено ходом событий или молниеносным озарением'. Она приходит быстрым шагом. Ибо Ницше любит 'мышление дерзкое и буйное, бегущее presto, и насмехается над учеными мужами, которые мнят мышление 'занятием неспешным, спотыкливым, чем-то вроде барщины, заставляющей их изрядно попотеть, но отнюдь не тем легким, божественным делом, что сродни танцу и брызжущему через край ликованию'.
Согласно Ницше, 'философу не пристало посредством ложных диалектических построений фальсифицировать вещи и мысли, к которым он пришел совсем иным путем <...> Негоже ни скрывать, ни извращать подлинную обстановку появления наших мыслей. Самые глубокие и неисчерпаемые книги всегда отмечены афористичным и непредсказуемым духом 'Мыслей' Паскаля'.
'Не извращать подлинную причину появления наших мыслей' - я нахожу это требование восхитительным и замечаю, что во всех сочинениях самого Ницше, начиная с 'Утренней зари', каждая глава написана словно единый абзац, так, чтобы мысль выражалась на едином дыхании, чтобы она запечатлелась в том виде, в каком примчалась к философу, - стремительная и приплясывающая.
2
Желание Ницше сохранить 'подлинную обстановку', в которой приходят к нему мысли, неотделимо от другого требования, восхищающего меня не меньше первого: противиться искушению привести свои мысли в систему. Философские системы 'представляются нынче жалкими и путаными, если только можно говорить об их представительности'. Выпад Ницше метит как в неизбежный догматизм систематизирующей мысли, так и в ее форму: 'комедия приверженцев системы - стремясь заполнить свою систему и округлить замыкающий ее горизонт, они волей-неволей выставляют напоказ ее слабые стороны тем же манером, что и сильные'.
Курсив последних слов принадлежит мне самому: любой философский трактат, излагающий некую систему, неизбежно имеет слабые места; и не потому, что у философа не хватает таланта, а потому, что этого требует сама форма трактата; ибо, прежде чем добраться до новаторских заключений, философу приходится объяснять, что говорят по данному вопросу другие, опровергать их положения, предлагать иные решения, выбирать наилучшее из них, приводить аргументы в его пользу, как неожиданные, так и сами собой разумеющиеся, и так далее, в силу чего читателю не терпится поскорее перелистнуть все эти страницы, чтобы дойти наконец до сути дела, до оригинальной мысли философа.
Гегель в своей 'Эстетике' одаривает нас новым, возвышенно синтетическим образом искусства; мы заворожены пронзительностью его орлиного взора; но в самом тексте нет ничего завораживающего, он не позволяет нам увидеть мысль в том очаровательном обличье, в каком она примчалась к философу. 'Стремясь заполнить свою систему', Гегель выписывает каждую ее деталь, клеточку за клеточкой, сантиметр за сантиметром, так что его 'Эстетика' выглядит произведением, над которым совместно трудились один-единственный орел и сотни доблестных пауков, заткавших своими сетями все закоулки этой книги.
3
Для Андре Бретона ('Манифест сюрреализма') роман - это 'низший жанр'; его суть - 'просто голая информация'; характер этих информативных данных - 'необязательный, частный' ('от меня не утаивают никаких трудностей, связанных с созданием персонажа: быть ли ему блондином, какое имя ему дать...' и так далее); раздражают Бретона и описания: 'трудно вообразить себе что-либо более ничтожное; они представляют собой набор картинок из каталога...'; в качестве примера следует цитата из 'Преступления и наказания', описание каморки Раскольникова с таким комментарием: 'меня станут уверять, будто этот школярский рисунок здесь вполне уместен, будто в этом месте книги автор как раз и имел право надоедать мне своими описаниями'. Основания эти Бретон находит пустячными, ибо 'я-то не выставляю напоказ никчемные моменты своей жизни'. Что касается психологии: затянутые экспозиции приводят к тому, что читателю все становится ясно с самого начала: 'герой этот, все действия и реакции которого замечательным образом предусмотрены заранее, обязан ни в коем случае не нарушать расчетов (делая при сем вид, будто нарушает их)...'.
Несмотря на предвзятый характер этой критики, ее
нельзя обойти стороной: она верно отражает сдержанное отношение современного
искусства к роману. Повторю: информация, описательность, неоправданное внимание
к никчемным моментам жизни, психологизм, позволяющий предвидеть заранее любые
реакции персонажей - короче, если спрессовать все эти попреки в один, фатальное
отсутствие поэзии, которое и превращает роман, по мнению Бретона, в 'низший
жанр'. Я говорю о той поэзии, которую превозносят сюрреалисты и все современное
искусство, о поэзии не как о литературном жанре, версифицированном письме, а
как о некой концепции красоты, как о фейерверке чудес, высшем мгновении жизни,
концентрированной эмоции, оригинальности взгляда, чарующей неожиданности. По
мнению Бретона, роман - это воплощение не-поэзии.
4
Фуга: одна-единственная тема дает толчок сплетению мелодий в контрапункте, единый поток струится без конца, сохраняя тот же характер, ту же ритмическую пульсацию, свое единство. После Баха, с возникновением музыкального классицизма, все меняется: мелодическая тема становится замкнутой и краткой; из-за ее непродолжительности монотематика оказывается почти невозможной; чтобы построить обширную композицию (сравнимую с архитектурной организацией ансамбля большого объема), композитору приходится сменять одну тему другой; так рождается новое искусство композиции, которое самым показательным образом воплощается в сонате, главенствующей форме классической и романтической эпох.
Чтобы чередовать одну тему с другой, необходимы промежуточные пассажи или, как говорил Сезар Франк, мостики. Слово 'мостик' помогает понять, что в музыкальной композиции есть пассажи, имеющие смысл сами по себе (темы), а есть и другие, служащие лишь подспорьем для первых, не обладающие их напряженностью или значимостью. Слушая Бетховена, испытываешь впечатление, что степень напряженности постоянно меняется: временами что-то подготавливается, затем появляется, затем исчезает, уступая место ожиданию чего-то другого.
Врожденная противоречивость музыки второй эпохи (классицизм и романтизм): она видит смысл своего существования в способности выражать эмоции, но в то же время вырабатывает свои 'мостики', коды, развития, являющиеся лишь чисто формальными требованиями, результатом умения, в котором нет ничего личного, которому легко научиться и которое с трудом обходится без рутины и общих музыкальных формул (они подчас встречаются у самых великих, у Моцарта и Бетховена, и в изобилии - у их современников меньшего масштаба). По этой причине вдохновение и техника постоянно находятся на грани разлада; рождается дихотомия между спонтанным и наработанным; между тем, что стремится к непосредственному выражению чувства, и техническим развитием того же самого чувства в музыкальном переложении; между темами и их наполнением (термин столь же уничижительный, сколь вполне объективный: ибо необходимо и в самом деле чем-то 'наполнить' горизонтальное время промежутков между темами и вертикальное время оркестрового звучания).
Рассказывают, что Мусоргский, исполняя на фортепьяно одну из симфоний Шумана, запнулся перед началом развития темы и воскликнул: 'Здесь-то и начинается музыкальная математика!' Именно эту расчисленную, педантичную, ученую, школярскую, лишенную вдохновения сторону музыки имел в виду Дебюсси, когда говорил, что после Бетховена симфонии превратились в 'прилежные и худосочные упражнения' и что музыка Брамса или Чайковского 'оспаривает между собой монополию на скуку'.
5
Врожденная дихотомия - не повод для того, чтобы считать музыку классицизма и романтизма низшей по сравнению с музыкой других эпох; у искусства любой эпохи свои структуральные трудности; именно они побуждают автора искать необычные решения и дают новый толчок для эволюции формы. Музыка второй эпохи сознавала эту трудность. Бетховен вдохнул в музыку неведомую до него экспрессивную напряженность, и в то же время именно он, как никто другой, выработал композиционную технику сонаты: стало быть, дихотомия тяготила его особенно сильно; чтобы преодолеть ее (нельзя сказать, будто это всегда ему удавалось), он применял различные стратегические ходы:
например, насыщая неожиданной экспрессивностью музыкальные материи, не входящие в основные темы, - гамму, арпеджио, 'мостик', коду;
или (например) придавая иной смысл форме вариаций, которые были до него всего лишь плодами технической виртуозности, причем виртуозности самой пустой: как если бы мы увидели на сцене манекен, самостоятельно переряжающийся в различные платья; Бетховен вывернул наизнанку суть этой формы, чтобы задаться вопросом: каковы скрытые в теме мелодические, ритмические и гармонические возможности? до какого предела можно доходить в звуковой трансформации темы, не изменяя ее сути? и, следовательно, в чем состоит эта суть? Задавая себе такие вопросы на языке музыки, Бетховен не нуждался ни в чем, что могла ему дать сонатная форма, - ни в 'мостиках', ни в развитии темы, ни в 'наполнении'; он ни на единый миг не покидал пределов того, что являлось для него самым главным, - пределов тайны, заключенной в самой теме.
Интересно было бы рассмотреть всю музыку XIX столетия как непрерывную попытку преодолеть свою структурную дихотомию. В связи с этим я часто думаю о том, что мне хотелось бы назвать стратегией Шопена. Подобно Чехову, не написавшему ни единого романа, Шопен бросал вызов крупным композициям, создавая почти исключительно разрозненные пьесы, объединенные затем в музыкальные сборники (мазурки, полонезы, ноктюрны и так далее). (Несколько исключений, подтверждающих правило: его концерты для фортепьяно и оркестра - это слабые вещи.) Он шел наперекор духу своего времени, когда считалось, что создание симфонии, концерта, квартета является необходимым показателем значимости композитора. Но именно потому, что Шопен пренебрег этим критерием, ему удалось оставить творческое наследие, которое нисколько не устарело и полностью сохранилось живым, практически без исключений. Стратегия Шопена объясняет, почему принадлежащие Шуману, Шуберту, Дворжаку, Брамсу музыкальные пьесы небольшого объема и не столь уж звучные кажутся нам живее, красивее (зачастую гораздо красивее), чем их концерты и симфонии. Ибо (важное замечание!) врожденная дихотомия музыки второй эпохи - это проблема, касающаяся исключительно крупных композиций.
6
На что нападает Бретон, критикуя искусство романа, - на его слабости или на его суть? Скажем прежде всего, что он нападает на эстетику романа, порожденную в начале XIX века, во времена Бальзака. Роман переживает тогда свою величайшую эпоху, впервые утверждаясь в качестве огромной социальной силы; обладая почти гипнотической способностью внушения, он предвосхищает кинематографическое искусство: на экране своего воображения читатель видит сцены из романа столь реальными, что готов спутать их с событиями собственной жизни; чтобы покорить своего читателя, романист пользуется настоящим аппаратом для создания иллюзии реальности, но именно этот аппарат одновременно осуществляет в искусстве романа структуральную дихотомию, подобную той, что свойственна музыке классицизма и романтизма:
поскольку правдоподобие событий зависит от тщательного соблюдения причинно-следственной логики, ни одно звено этой цепи не должно быть опущено (хотя само по себе оно может быть совершенно лишено интереса);
поскольку персонажи должны казаться 'живыми', необходимо сообщить о них как можно больше информации (даже если в ней нет ни капли занимательности);
кроме того, существует История: когда-то неспешный ход превращал ее почти в невидимку, потом она ускорила шаг и внезапно (в этом и состоит великое художественное открытие Бальзака) все вокруг людей стало меняться в течение их жизни - улицы, по которым они гуляют, обстановка их жилищ, общественные учреждения, от которых они зависят; задний план человеческого существования перестает быть, как прежде, неподвижной декорацией, он становится изменчивым, его сегодняшний вид обречен на забвение завтра, следовательно, необходимо уловить его, живописать (как бы ни были скучны эти картины уходящего времени).
Задний план: живопись открыла его в эпоху Возрождения заодно с перспективой, разделившей картину на то, что находится впереди, и то, что оказывается в глубине. И тогда возникла частная проблема формы: например, портрет - лицо привлекает к себе больше внимания и интереса, нежели тело и тем более служащие фоном драпировки. Что вполне нормально, ведь именно так мы и видим окружающий мир, но то, что нормально в жизни, совсем не обязательно отвечает формальным требованиям искусства: нарушение равновесия в картине между наиболее предпочтительными местами и теми, что загодя сочтены второстепенными, следовало как-то сгладить, смягчить, уравновесить. Или решительно устранить его с помощью новой эстетики, которая положила бы конец этой дихотомии.
7
После 1948 года, во времена коммунистической революции у меня на родине, я понял, какую выдающуюся роль играет лирическое ослепление в годину Террора, лично мне представлявшуюся эпохой, когда 'поэт царит вместе с палачом' ('Жизнь не здесь'). Я думал тогда о Маяковском; для русской революции его гений был так же необходим, как и полиция Дзержинского. Лиризм, лиричность, лиричные словеса, лирический энтузиазм составляют неотъемлемую часть того, что называется тоталитарным миром; этот мир - не просто ГУЛАГ, но ГУЛАГ, чьи стены снаружи увешаны стихами, перед которыми организуются танцы.
Поэтизация Террора оказалась для меня большим шоком, чем сам Террор. Тогда я получил пожизненную прививку от любых лирических устремлений. Единственное, чего я в ту пору глубоко и жадно желал, был ясный и лишенный иллюзий взгляд на вещи. И я нашел его наконец в искусстве романа. Вот почему звание романиста стало для меня чем-то более значительным, нежели звание литератора, пописывающего романы как бы между прочим; занятия романом были образом действия, мудростью, позицией; позицией, исключающей всякое отождествление с политикой, религией, идеологией, моралью, чувством коллективизма; сознательное, упрямое, осатанелое не-отождествление, понимаемое не как бегство или непротивление, а как сопротивление, вызов, бунт. Бывали у меня такие диковинные диалоги: 'Вы коммунист, господин Кундера?' - 'Нет, я романист'. 'Вы диссидент?' - 'Нет, я романист'. 'Вы правый или левый?' - 'Ни тот, ни другой. Я романист'.
Уже в ранней юности я влюбился в современное искусство, в живопись, в поэзию. Но современное искусство отмечено 'духом лиризма', его иллюзиями прогресса, его идеологией двойной революции, эстетикой и политикой, и все это мало-помалу мне осточертело. Скептицизм по отношению к духу авангарда не мог, однако, ни в чем помешать моей любви к произведениям современного искусства. Я любил их тем более, что они стали первыми жертвами сталинских преследований; Ченек из 'Шутки' был послан в штрафной батальон, потому что он обожал живопись кубистов; Революция решила, что современное искусство - это ее идеологический враг номер один, даже если бедные модернисты только и хотели воспевать ее и прославлять; я никогда не забуду Константина Библа: этот изысканный поэт (ах, сколько его стихов помнил я наизусть!), будучи восторженным коммунистом, принялся после 1948 года сочинять пропагандистскую поэзию, в посредственности своей столь же удручающую, сколь и душераздирающую; чуть позже он выбросился из окошка на пражскую мостовую и разбился насмерть; его хрупкая личность стала для меня олицетворением современного искусства - введенного в соблазн, обманутого, замученного, приконченного, доведенного до самоубийства.
Моя верность современному искусству была, как видите, столь же страстной, как и моя привязанность к антилиризму романа. Поэтические ценности, дорогие для Бретона, да и для всего теперешнего искусства (напряженность, плотность, раскрепощенное воображение, презрение к 'никчемным моментам жизни'), - я искал исключительно на лишенной иллюзий территории романа. Но оттого их значимость для меня только возрастала. Этим и объясняется, возможно, почему у меня вызывает что-то вроде острой аллергии тот вид скукотищи, который так раздражал Дебюсси, когда он слушал симфонии Брамса и Чайковского; аллергии на копошение трудолюбивых пауков. Этим и объясняется, возможно, почему я долго был глух к творчеству Бальзака и почему из всех романистов мне особенно дорог Рабле.
8
Рабле было незнакомо само понятие дихотомии главных тем и 'мостиков', переднего и заднего планов. Он легко переходит от серьезных материй к перечислению способов, изобретенных малышом Гаргантюа для подтирки зада, и, однако, с эстетической точки зрения все эти пассажи, легкомысленные и серьезные, одинаково для него важны, а мне доставляют одинаковое наслаждение. Это восхищало меня в нем и в других старых романистах: они говорят о том, что кажется им чарующим, и прерывают свой рассказ, как только эти чары рассеиваются. Непринужденность их композиции заставляла меня задуматься: писать, не нагнетая напряжения, не вымучивая сюжет и не силясь придать ему правдоподобие, писать, не описывая определенную эпоху, среду, местность; отказаться от всего этого и не порывать связи только с самым главным; иными словами: создавать такую композицию, где 'мостики' и 'наполнения' не имеют ни малейшего смысла и где романист не обязан - ради следования форме и ее прихотям - ни на одну строку отдаляться от того, что лежит у него на сердце, что чарует его.
9
Современное искусство: бунт против подражания реальности во имя самовластия законов художества. Одно из первых практических требований этого самовластия: каждый миг, каждая частица произведения искусства должны обладать равной эстетической значимостью.
Импрессионизм: пейзаж, понимаемый как простой оптический феномен, так что изображенный на нем человек не более важен, чем какой-нибудь куст. Кубисты и абстракционисты пошли еще дальше, упразднив третье измерение, которое волей-неволей делило картину на планы, обладающие неодинаковой значимостью.
В музыке - то же стремление к эстетической равноценности всех моментов композиции: Сати, чья кажущаяся простота - прежде всего вызывающий отказ от унаследованной музыкальной риторики; волшебник Дебюсси, ненавистник ученых пауков; Яначек, избегающий любой ноты, которая кажется ему лишней; Стравинский, отвергающий наследие романтизма и классицизма, ищущий своих предшественников среди мастеров первой эпохи музыкальной истории; Веберн, вернувшийся к монотематизму sui generis (то есть к додекафонизму) и добившийся невообразимой до него самообнаженности.
И роман: под вопрос поставлен знаменитый бальзаковский девиз 'Роман должен бросать вызов гражданскому состоянию'; это не имеет ничего общего с бравадой авангардистов, выпячивающих свою модерновость, чтобы ее мог разглядеть последний дурак; суть этой бравады - показать (исподтишка) никчемность (бесполезность, необязательность, ненужность) аппарата для создания иллюзии реальности. По этому поводу небольшое замечание:
Если какой-то из персонажей собирается бросить вызов гражданскому состоянию, у него прежде всего должно быть настоящее имя. От Бальзака до Пруста безымянный герой был бы немыслим. Но у Жака, героя Дидро, нет фамилии, а у его хозяина - ни фамилии, ни имени. А Панург? Это фамилия или имя? Имена без фамилий, фамилии без имен - это уже знаки. Главного героя 'Процесса' зовут не Йозеф Кауфман, или Краммер, или Коль, а просто Йозеф К. Герой 'Замка' потерял даже свое имя, от которого осталась одна буква. Возьмем 'Schuldlosen' Броха: там один из персонажей обозначен буквой А. В 'Лунатиках' Эсха и Хугенау нет личных имен. Протагонист 'Человека без свойств', Ульрих, не удостоился фамилии. Уже в самых первых моих рассказах я инстинктивно избегал давать персонажам фамилии. В романе 'Жизнь не здесь' у героя нет имени, его мать обозначена словом 'Мамаша', его подружка зовется 'Рыжиком', а ее любовник - 'Сорокалетником'. Что это - манерность? Я действовал тогда наугад, и лишь позднее до меня дошел смысл того спонтанного решения: я подчинялся эстетике третьей эпохи, я не хотел никого уверить, будто мои персонажи реальны и у них есть удостоверения личности.
10
Томас Манн: 'Волшебная гора'. Длинные-предлинные абзацы, содержащие сведения о персонажах, об их прошлом, их манере одеваться, их манере говорить (со всеми речевыми вывертами) и так далее; детальное описание жизни в санатории, описание исторической эпохи (годы перед первой мировой войной): например, тогдашние поголовные увлечения - страсть к недавно изобретенной фотографии, любовь к шоколаду, рисование с закрытыми глазами, эсперанто, игра в карты с самим собой, фонограф, спиритические сеансы (будучи подлинным романистом, Манн характеризует эпоху, описывая обычаи, обреченные на забвение и ускользающие от взгляда академической историографии). Многословные диалоги - когда они отклоняются от главных тем - откровенно информативны, и даже сны у Манна - это тоже описания: проведя первый день в санатории, юный герой Ханс Касторп засыпает; нет ничего банальней его сновидений, где, в чуть искаженном виде, повторяются события, произошедшие накануне. Как далеко отсюда до Бретона, для которого сон был источником раскрепощенного воображения! Здесь у сновидений всего одна функция - ознакомить читателя со средой, укрепить в нем иллюзию реальности.
Самым старательным образом выписан весь обширный задник романа, на фоне которого разыгрывается судьба Ханса Касторпа и происходит идеологический турнир между двумя туберкулезниками: Сеттембрини и Нафтой; один - франкмасон и демократ, второй - иезуит и поборник автократии; оба неизлечимо больны. Сдержанная ирония Манна вскрывает относительность истин, исповедуемых обоими эрудитами, в их диспуте не может быть победителя. Но ирония романа метит выше и достигает своих вершин в сцене, где тот и другой, окруженные крохотной аудиторией и опьяненные собственной неколебимой логикой, доводят свои аргументы до крайности, так что никому из окружающих уже невдомек, кто из них ратует за прогресс, кто за традиции, кто за разум, кто за иррациональность, кто за дух, а кто за плоть. Страница за страницей увлекают нас в великолепную путаницу, где слова теряют свой смысл, а спор становится тем более ожесточенным, чем чаще позиции противников взаимно меняются местами. Двумя сотнями страниц дальше, к концу романа (война вот-вот разразится), обитатели санатория поддаются психозу иррациональной раздражительности, необъяснимым вспышкам ненависти; вот тогда-то Сеттембрини оскорбляет Нафту и двое больных устраивают дуэль, которая кончается самоубийством одного из них; нам сразу же становится понятно, что людей превращает во врагов не жестокая идеологическая рознь, а не поддающаяся осмыслению агрессивность, темная и непостижимая сила, для которой идеи служат всего лишь маской, ширмой, предлогом. Так что этот великолепный 'роман идей' в то же время является (особенно для читателя конца нынешнего века) чудовищным свидетельством сомнения в идеях как таковых, великим прощанием с эпохой, верившей в идеи и в их способность управлять миром.
Манн и Музиль. Несмотря на близкие даты рождения того и другого, их эстетические взгляды принадлежат двум разным эпохам в истории романа. Оба они - романисты высочайшей интеллектуальности. В романе Манна интеллектуальность эта выявляется прежде всего в диалогах идей, произносимых на фоне описательного романа. В 'Человеке без свойств' она проступает на каждом шагу, тотальным образом; в сравнении с описательным романом Манна это роман измысленный. События в нем тоже происходят в конкретном месте и в конкретное время (как и в 'Волшебной горе': накануне войны 1914 года), но если Давос у Манна описан во всех подробностях, то Вена у Музиля упомянута вскользь, автор не удостаивает взглядом ее улицы, ее площади и парки (аппарат для изготовления иллюзии реальности деликатно отложен в сторону). Мы находимся в Австро-Венгерской империи, но она то и дело называется насмешливой кличкой: Какания. Какания: империя обезличенная, обобщенная, сведенная к нескольким главным штрихам, империя, превращенная в ироническую модель империи. Эта Какания - не фон романа, как Давос у Манна, а одна из его тем, она не описана, а измыслена и проанализирована.
Манн объясняет, что композиция 'Волшебной горы' сродни композиции музыкальной, она основывается на темах, которые развиваются, как в симфонии, перекрещиваются, сопровождают роман на всем его протяжении. Это верно, однако необходимо уточнить, что тема у Музиля и Манна - не совсем одно и то же. Прежде всего, у Музиля темы (время, плоть, болезнь, смерть и т.д.) развиваются на фоне обширного и а-тематического задника (описания места, времени, обычаев, персонажей) почти так же, как темы сонаты облекаются музыкой, существующей вне темы, вне ее 'мостиков' и переходов. Далее: темы у него носят отчетливо полиисторический характер, иначе говоря, Манн пользуется обширным материалом многих наук - социологии, политологии, медицины, ботаники, физики, химии, - который способен прояснить ту или иную тему; он действует так, как если бы хотел с помощью подобной вульгаризации знания подвести солидный дидактический фундамент под свой анализ тем; притом он прибегает к этой подводке слишком часто, и она получается слишком многословной, в результате, на мой взгляд, роман отдаляется от своей сути, ибо, напомню, суть романа в том, что может сказать только роман.
У Музиля анализ тем другой: во-первых, в нем нет и намека на полиисторичность; романист не рядится в медика, социолога, историографа, он рассматривает человеческие ситуации, не составляющие часть какой-либо научной дисциплины, а являющиеся просто-напросто частью самой жизни. Именно в этом духе понимали Брох и Музиль историческую задачу романа после столетнего засилья психологического реализма: если европейская психология не сумела измыслить человеческую жизнь, измыслить ее 'конкретную метафизику', то именно роман призван занять эту ничейную территорию, на которой он был бы незаменим (что подтвердила экзистенциальная философия доказательством от противного, ибо анализ экзистенции не может свестись к системе, экзистенция несистематизируема, и не прав был любитель поэзии Хайдеггер в своем безразличии к истории романа, в которой заключено величайшее сокровище экзистенциальной мудрости).
Во-вторых, в противоположность Манну, у Музиля все становится темой (экзистенциальным вопрошанием). А если темой становится все, задний план исчезает, остается только передний, как на кубистической картине. В этом устранении задника я усматриваю осуществленную Музилем структуральную революцию. Нередко великие перевороты совершаются незаметно. И в самом деле, неспешность рассуждений, неторопливый ритм фраз придают 'Человеку без свойств' видимость 'традиционной прозы'. Нет хронологических перебоев. Нет внутренних монологов в духе Джойса. Не отменены знаки препинания. Герой, действие - все на месте. На протяжении почти двух тысяч страниц разворачивается скромная история Ульриха, молодого интеллектуала. Он наведывается к нескольким любовницам, встречается с друзьями, трудится в некой ассоциации, столь же внушительной, сколь и гротескной (здесь роман едва уловимо отклоняется от реальности, превращаясь в игру), цель которой - подготовка к юбилею Императора, великому 'празднеству мира', приуроченному (следует взрыв шутовской бомбы, подложенной под фундамент романа) к 1918 году. Наималейшая из описанных в нем ситуаций как бы замедляет свой бег (этот неспешный ритм может время от времени напомнить Джойса), чтобы на ней мог остановиться пристальный взгляд человека, задающегося вопросом, что же она означает, как ее понять и помыслить.
Манн в 'Волшебной горе' превратил несколько предвоенных лет в великолепный праздник прощания с XIX веком, прощания навсегда. В 'Человеке без свойств', где описаны те же годы, разрабатываются человеческие ситуации последующей эпохи - заключительного этапа современности, - начавшейся в 1914 году и, похоже, завершающейся у нас на глазах. В самом деле, Какания Музиля предвосхищает все: засилье техники, которой не управляет никто и которая сама управляет человеком, превращая его в статистическую единицу (роман начинается с описания уличной аварии: пострадавший оказывается на земле, проходящая мимо парочка обсуждает это событие, припоминая число ежегодных происшествий такого рода); скорость как высшая ценность мира, опьяненного техникой; тупая и вездесущая бюрократия (конторы Музиля под стать конторам Кафки); комическое бесплодие идеологов, ничего не понимающих и ничем не руководящих (блаженные времена Сеттембрини и Нафты уже миновали); журналистика - наследница того, что некогда именовалось культурой; прихвостни модерна; причастность к уголовному миру как мистическое выражение религии прав человека (Кларисса и Мусбруггер); детолюбие и детовластие (Ханс Шепп, предтеча фашистов, идеология которого опирается на обоготворение того, что есть в нас детского).
11
Закончив в начале семидесятых 'Прощальный вальс', я решил, что вместе с ним пришла к концу и моя писательская карьера. Дело было во время русской оккупации, у нас - у меня и у моей жены - и без того хватало забот. Лишь спустя год после нашего переезда во Францию (и благодаря Франции) и на седьмой год после перерыва я как-то нехотя снова взялся за перо. Я чувствовал себя растерянным и, стремясь обрести твердую почву под ногами, решил продолжить сделанную уже работу: написать что-то вроде второго тома 'Смешной любви'. Какой шаг вспять! Ведь с этих рассказов, законченных двадцать лет назад, начинался мой творческий путь. К счастью, набросав две-три новые 'любовные истории', я понял, что пишу нечто совсем другое: не сборник новелл, а роман, озаглавленный потом 'Книга смеха и забвения', - роман из семи самостоятельных частей, слаженных между собой так плотно, что, читая каждую из них в отдельности, рискуешь упустить многое из общего замысла.
И тут меня оставило чувство недоверия к романной форме: придав каждой из частей характер новеллы, я упразднил вроде бы обязательную технику крупной романной композиции. Я усмотрел в своем начинании старую стратегию Шопена, стратегию малой композиции, которая не нуждается в а-тематических переходах. (Значит ли это, что новелла - своего рода малая форма романа? Несомненно. Ведь между романом и новеллой нет той существенной разницы, что налицо между романом и стихами, романом и театром. Будучи жертвами словарей, мы не смогли придумать единый термин, обозначающий обе формы одного и того же искусства - большую и малую.)
Как же сплотить воедино эти семь малых композиций, если у них нет общего действия? Единственная связь, превращающая их в роман - это тематическая общность. Я призвал себе на подмогу еще одну старую стратегию: бетховенскую стратегию вариаций; благодаря ей я мог оставаться в прямом и непосредственном контакте с несколькими волновавшими меня темами, которые в этом романе вариаций последовательно рассматриваются с различных точек зрения.
В такой последовательной разработке есть своя логика, она-то и определяет чередование частей. Например: в первой части ('Потерянные письма') звучит тема человека и Истории в самой элементарной ее форме: человек попадает под колеса Истории. Во второй части ('Мама') та же тема возникает в совершенно ином освещении: появление русских танков для мамы - сущий пустяк в сравнении с грушами из ее сада ('танки преходящи, грушевое дерево вечно'). Шестая часть ('Ангелы') - ее героиня, Тамина, тонет - может показаться трагическим финалом романа; однако роман кончается не здесь, а следующей частью, где нет ничего душещипательного, драматического и трагического. Там повествуется о личной жизни нового персонажа, Яна. Тема Истории звучит кратко и в последний раз: 'У Яна были друзья, которые, как и он сам, покинули свою прежнюю родину и посвятили все свое время борьбе за утраченную свободу. Им всем случалось чувствовать, что связь между ними и родиной была всего лишь иллюзией или навязчивой привычкой - в том случае, если они еще были готовы отдать жизнь за что-то, совершенно для них безразличное'. Здесь мы находимся у той метафизической границы (граница - еще одна из тем романа), за которой все на свете утрачивает свой смысл. Над островком, где обрывается трагическая жизнь Тамины, звучит смех (другая тема) ангелов, тогда как в седьмой части раздается 'дьявольский хохот', превращающий в прах все (Историю, любовь, трагедии). Только здесь каждый тематический путь завершается, и книга может захлопнуться.
12
В шести книгах, относящихся к зрелости Ницше ('Утренняя заря', 'Человеческое, слишком человеческое', 'Веселая наука', 'По ту сторону добра и зла', 'К генеалогии морали', 'Сумерки идолов'), он отыскивает, развертывает, разрабатывает, подкрепляет, заостряет один и тот же композиционный архетип. Его принципы: элементарная единица книги - глава, ее длина - от одной фразы до нескольких страниц; все без исключения главы составляют как бы единый абзац, все они пронумерованы; в 'Человеческом, слишком человеческом' и 'Веселой науке' нумерация сопровождается подзаголовками. Некоторое количество глав составляет часть, некоторое количество частей - книгу. Книга строится на одной центральной теме (по ту сторону добра и зла, веселая наука, генеалогия морали и т.д.); в различных частях развиваются побочные темы, исходящие из основной (тоже имеющие названия: 'Человеческое, слишком человеческое', 'По ту сторону добра и зла', 'Сумерки идолов', или только пронумерованные). Кое-какие из этих вторичных тем располагаются вертикально (то есть в каждой части говорится о том, что определяет ее заголовок), тогда как другие пронизывают всю книгу. Таким образом, рождается композиция, максимально расчлененная (с опорой на относительно независимые единицы) и в то же время максимально единая (одни и те же темы постоянно повторяются). Вот пример композиции, наделенной поразительным чувством ритма, основанного на умении чередовать краткие и пространные главы: так, например, четвертая часть книги 'По ту сторону добра и зла' состоит исключительно из кратких афоризмов (нечто вроде дивертисмента или скерцо). Но вот что самое главное: это пример композиции, не нуждающейся ни в 'наполнении', ни в переходах, ни в пустых пассажах, - композиции, чья напряженность никогда не ослабевает, ибо в ней просматриваются одни только мысли, сбегающиеся к автору 'извне, сверху, снизу, как им предназначено ходом событий или молниеносным озарением'.
13
Если мысль философа до такой степени связана с формальной организацией его текста, то может ли она существовать вне этого текста? Можно ли отделить мысль Ницше от прозы Ницше? Разумеется, нельзя. Мысль, выражение, композиция неразделимы. Пригодно ли для всех то, что пригодно для Ницше? А именно: можно ли сказать, что мысль (смысл) произведения всегда и обязательно связана с его композицией?
Самое любопытное, что так сказать нельзя. Долгое время оригинальность сочинителя музыки состояла в его мелодико-гармонической изобретательности, которую он, так сказать, распределял по композиционным схемам, от него не зависящим, более или менее предустановленным: мессы, барочные сюиты, барочные концерты и так далее. Их различные части были выстроены в порядке, определявшемся традицией, таким образом, например, что сюита с регулярностью маятника завершалась быстрым танцем, и так далее.
Тридцать две сонаты Бетховена, создававшиеся на протяжении всей его творческой жизни, с двадцати пяти до пятидесяти двух лет, свидетельствуют о стремительной эволюции, за время которой сонатная форма целиком изменилась. Первые его сонаты следуют схеме, унаследованной от Гайдна и Моцарта: четыре части, первая - аллегро, написанное в форме сонаты; вторая - адажио, написанное в форме Lied; третья - менуэт или скерцо в умеренном темпе; четвертая - рондо в быстром темпе.
Недостатки такой композиции бросаются в глаза:
самая важная, самая драматическая, самая пространная ее часть исполняется в
самом начале, далее развитие идет по убывающей - серьезное сменяется легким.
Кроме того, до Бетховена соната оставалась чем-то средним между собранием
музыкальных отрывков (на тогдашних концертах нередко исполнялись отдельные
части сонат) и единой и неделимой композицией. По мере написания своих тридцати
двух сонат Бетховен постепенно заменяет старую композиционную схему новой,
более емкой (сведенной к трем или даже двум частям), более драматичной (центр
тяжести перемещается в последнюю часть), более цельной (особенно в
эмоциональном плане). Но подлинный смысл этой эволюции (благодаря которому она
становится настоящей революцией) не в том, что неудовлетворительная
схема сменяется другой, более приемлемой, но в том, что претерпевает ломку
сам принцип предустановленной схемы.
В самом деле, это непременное следование
установленной схеме сонаты несколько смехотворно. Представим себе, что великие
симфонисты, такие, как Гайдн и Моцарт, Шуман и Брамс, отрыдав свое адажио,
в последней части переряжались в школьников и выбегали на перемену поплясать,
попрыгать и хором прокричать: 'Все хорошо, что хорошо кончается!' Это можно
назвать 'музыкальной дурью'. Бетховен первым уразумел, что единственный путь к
ее преодолению - композиция глубоко личная.
Таков первый параграф художественного завещания, оставленного Бетховеном всем видам искусств и всем художникам; я сформулировал бы его так: не следует рассматривать композицию (архитектурное оформление целого) как некую предсуществующую матрицу, которую художник волен заполнять чем угодно; композиция сама по себе может быть какой угодно выдумкой, чтобы в ней сквозила самобытность автора.
Не мне судить, насколько этот завет был услышал и понят. Но сам Бетховен сумел извлечь из него выгоды в своих последних сонатах, каждая из которых скомпонована неповторимым, неведомым доселе образом.
14
Соната opus 111; в ней всего две части: первая, драматическая, создана в более или менее классической сонатной форме; вторая, задумчивая, написана в форме вариаций (форме, которая до Бетховена казалась непривычной для сонаты): в отдельных вариациях нет игры на контрастах, они обогащают одна другую, каждая прибавляет к предыдущей новые оттенки, что придает всему сочинению удивительное единство тона.
Чем совершеннее каждая из частей, тем явственнее она должна контрастировать с другой. Разница в длительности: первая часть (в исполнении Шнабеля) - 8 минут 14 секунд; вторая - 17 минут 42 секунды. Вторая часть, стало быть, вдвое продолжительнее первой (в истории сонаты случай беспрецедентный!). Кроме того: первая часть драматична, вторая - спокойна и задумчива. Драматическое начало и долгое раздумье в конце противоречат всем архитектурным принципам и вроде бы обрекают сонату на потерю всякого драматического напряжения, которым Бетховен прежде так дорожил.
Но это неожиданное соседство столь разных частей само по себе красноречиво, оно взывает к слушателям, превращается в семантический жест сонаты, в ее метафорическую суть, возникает образ короткой и напряженной жизни, за которым следует задумчивая и бесконечная песнь. Этот метафорический смысл, не передаваемый словами, но от того не менее глубокий и настойчивый, придает цельность всему произведению. Цельность неподражаемую. (Можно было бы без конца имитировать внеличную форму моцартовской сонаты; композиция же сонаты opus 111 до такой степени личная, что ее имитация явилась бы просто-напросто подделкой.)
Соната opus 111 напомнила мне 'Дикие пальмы' Фолкнера. Там за рассказом о любви следует история беглого каторжника; обе части вроде бы не имеют между собой ничего общего, их не объединяют ни персонажи, ни хотя бы отдаленное родство мотивов или тем. Эта композиция не может служить образцом для какого-то другого романиста, она существует единожды; она произвольна, нетиражируема, не требует оправданий, потому что в ней слышится возглас 'es muss sein', делающий всякое оправдание излишним.
15
Ницше своим отказом от системы углубляет занятия философией: по определению Ханны Арендт, мысль Ницше - это мысль экспериментальная. Ее первый порыв - разъесть все застывшее, устроить подкоп под все общепринятые системы, пробить бреши в неведомое; философ будущего станет экспериментатором, говорит Ницше; он волен идти в любом направлении, даже в том, которое, строго говоря, ему не следовало бы выбирать.
Будучи сторонником явного присутствия мысли в романе, я тем не менее не люблю так называемых 'философских романов', представляющих собой 'письменное изложение' моральных или политических идей. Подлинно романная мысль (присущая роману со времен Рабле) всегда несистематична, недисциплинированна; она близка к мысли Ницше; она экспериментальна; она пробивает бреши во всех окружающих нас идеологических системах; она торит новые пути (особенно при посредстве персонажей), пытаясь пройти до конца каждым из них.
Относительно мысли, приведенной в систему, можно сказать еще следующее: всякий, кто мыслит, автоматически склонен к систематизации; это вечный соблазн (в том числе и мой, в том числе и в этой книге) - соблазн изложить выводы из своих идей, предусмотреть все возражения и заранее опровергнуть их, забаррикадироваться за своими идеями. А ведь человеку думающему не следовало бы навязывать свою истину другим, ибо, поступая таким образом, он ищет путь к системе, пагубный путь 'человека с убеждениями'; так любят величать себя политики; но что это такое - убеждение? Это мысль, прервавшая свой ход, застывшая, а 'человек с убеждениями' - это косное, ограниченное существо. Экспериментальная мысль не убеждает, а вдохновляет, пробуждает мысль в другом, приводит в движение его мыслительные способности; вот почему романист должен систематически десистематизировать свою мысль, должен сокрушать баррикаду, которую он сам же возвел вокруг своих идей.
16
Отказ Ницше от систематической мысли имел и еще
одно последствие: громадное расширение тематического горизонта;
разрушаются перегородки между различными философскими дисциплинами, мешавшие
видеть мир во всей его необъятности; с тех пор все человеческое может стать
объектом мысли философа. Это касается также и философии романа: философия
впервые принялась размышлять не над эпистемологией, эстетикой, этикой,
феноменологией духа, критикой чистого разума и так далее, но надо всем, что
имеет отношение к человеку.
Излагая философию Ницше, ученейшие мужи не только обкарнывают ее, но искажают, обращая в полную противоположность самой себе, а именно - в систему. Но у их систематизированного Ницше все-таки можно найти рассуждения о женщинах, о немцах, о Европе, о Бизе, о Гёте, о кичевом стиле Гюго, об Аристофане, о легкости формы, о скуке, об игре, о переводах, о духе послушания, о власти над другими и самых разных аспектах этой власти, об ученых и ограниченности их разума, о комедиантах, заголяющихся на подмостках Истории, - и множество других психологических наблюдений, которые не встретишь ни у кого, кроме разве что самых великих романистов.
Подобно Ницше, сблизившему философию с романом, Музиль сблизил роман с философией. Это сближение не означает, что Музиль был меньшим романистом, чем его собратья. Равным образом Ницше не был меньшим философом, чем другие мыслители.
Измысленный роман Музиля тоже представляет собой невиданное расширение тематики; все, о чем можно помыслить, не должно теперь исключаться из романного искусства.
17
Когда мне было лет тринадцать-четырнадцать, я ходил на уроки музыкальной композиции. Не потому, что был таким уж вундеркиндом, а из-за душевной деликатности моего отца.
Шла война, и его другу, композитору-еврею, пришлось нацепить желтую звезду; окружающие сторонились его. Не зная, как выразить ему сочувствие, отец попросил его давать мне уроки музыки. Евреев в то время выселяли из квартир, и композитор вынужден был без конца переезжать с места на место, из одной тесной каморки в другую, еще более тесную; наконец, незадолго до отправки в концлагерь Терезин, он оказался в тесной квартирке, где в каждую комнату набилось по нескольку человек. Но он так и не расстался с небольшим пианино, я разыгрывал на нем гаммы, а незнакомые люди вокруг нас занимались в это время своими делами.
От всего этого у меня сохранилось только чувство восхищения композитором да три-четыре мысленных образа. Часто вспоминаю такое: после урока он провожает меня до дверей, останавливается и ни с того ни с сего произносит: 'У Бетховена много на редкость слабых пассажей. Но они только подчеркивают ценность сильных мест. Они - словно поляна, без которой мы не могли бы полюбоваться растущим посреди нее деревом'.
Любопытная мысль. А то, что она засела у меня в голове, еще любопытней. Наверно, я счел за честь услышать это откровение мэтра, тайну, великую мудрость, которую дано ведать одним только посвященным.
Как бы там ни было, беглое замечание моего учителя преследовало меня потом всю мою жизнь (я запрещал себе вспоминать о нем, боролся с ним, но безуспешно); не будь его, этот текст наверняка не был бы написан.
Но дороже самого замечания образ человека, незадолго до своей страшной поездки принявшегося вслух рассуждать перед ребенком о проблеме композиции в произведениях искусства.
Перевод с французского
Ю. СТЕФАНОВА