О Мураками
Охота на овец как джазовая
импровизация.
Борис Кузьминский. ОБЪЯЛИ МЕНЯ ОВЦЫ
ДО ДУШИ МОЕЙ
"ДЖАЗОВЫЙ ДЗЕН",
ИЛИ СТИВЕН КИНГ НА ЯПОНСКИЙ МАНЕР?
Вторые роли: Овца, которой неохота
ON THE DARKNESS OF THE SUBCONSCIOUS
Haruki Murakami J.
Philip Gabriel
Дмитрий Коваленин: "Моя
переводческая задача - не перекрыть читателю кран" Наталия Бабинцева
"Независимая газета", 17
сентября 1998 г. 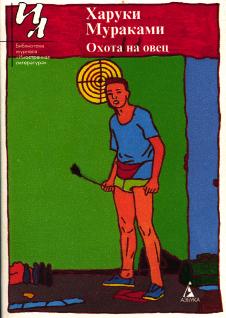
Наталия Бабинцева
Охота на овец как джазовая импровизация.
Связь
между Коровой с плоскогубцами и Шумом прибоя, оказывается, самая прямая.
Харуки Мураками. Охота на овец. Перевод с японского Дм.Коваленина. - СПб.:
Азбука (Библиотека журнала "Иностранная литература"), 397 с.
Пожалуй, только краткие биографические данные, любезно приведенные на обложке издания, могут заставить любопытного молодого человека заглянуть в роман Харуки Мураками с надеждой. Его имя, его творчество в России известны лишь редким знатокам литературы поколения "бит". Изучал драму в университете Васэда. "Хипповал" и "битничал". С 1974 по 1981 год содержал джазовое кафе в Токио, опубликовал два романа. За "Охоту на овец" (третий по счету) получил "Приз Нова" для начинающих писателей. Затем последовала серия новых романов (в том числе и "Dance, Dance, Dance" - продолжение "Охоты..."), дежурная волна призов и признания, миллионные (без преувеличения) тиражи на родине, перевод на английский и издание в Америке. Переводил на японский произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Джона Ирвинга, Трумана Капоте и других американских писателей. Среди возможных влияний - естественно, Джек Керуак. В настоящее время работает в Принстонском университете. На русском - впервые. Об авторе - все.
"Давным-давно жила-была Девчонка, Которая Спала С Кем Ни Попадя... Вот как ее звали". С истории о ней роман начинается и больше к ней не возвращается. И если поддаться обаянию называть людей и предметы на манер Мураками (Хлам Неизвестного Назначения, Подруга с Ушами, Скука Как Она Есть и т.д.), то самого автора легко можно обозвать Человеком, Который Все Смешал В Одну Кучу. Во всяком случае, так кажется очень долго - вплоть до последних страниц романа, когда вся эта абракадабра начинает обрастать смыслами и связями со стремительностью снежного кома (что характерно, происходит это как раз в тот момент, когда Главный Герой спускается со Снежной Горы). Хотя искушенный читатель обо всем догадается сразу, особенно если будет помнить, что имеет дело с профессиональным джазменом. Вся "Охота на овец" строго держится на джазовых приемах. Дана тема (главная - одна), задано еще несколько тем (если это роман, то, как минимум, речь идет о джазовом трио, если не о целой "джаз-банде"), а дальше бесконечное количество импровизаций и вариаций на заданный мотив, которые перемежаются и никогда не повторяются в прежнем (изначальном) виде. В музыке это тоже порой похоже на полную анархию, но надо лишь иметь неплохой слух, чтобы расстаться с этой иллюзией. Вот и роман Мураками рассчитан на тех, Кто Много Читал, то бишь на нормальных интеллектуалов. Если это иметь в виду, то связь между Человеком Со Странностями, Коровой с плоскогубцами, Вселенной глазами Червяка, Крысой, Овцой, Ушами, Шумом прибоя и прочим Хламом Неизвестного Назначения, оказывается, самая прямая. Если верно, что "все это джаз", то тема Девчонки, Которая Спит С Кем Ни Попадя на очередном витке импровизации может легко превратиться в тему Девчонки С Ушами (которая, впрочем, тоже спит с кем попало) и даже Коровы с плоскогубцами, о которой никто не знает, спит ли она вообще.
Самое главное в "Охоте на овец" - на запутаться во Времени и временах. Не стоит списывать на счет японской пунктуальности тщательные привязки глав к датам: 25 ноября 1970 года, Июль 1978-го, Сентябрь 1978-го. Потому что если тупо и угрюмо ответить на вопрос "о чем роман-то", то о поколении шестидесятых и о последующей рефлексии шестидесятников надо Всем Тем, Что Случилось После. Тема 60-х задана в короткой и самой одинокой первой главе, вся же ее последующая "раскрутка" окрашена минором Скуки и Ностальгии, перемежающимся патетическим мажором социально-общественной рефлексии. У Мураками (в отличие от многих европейцев) это никогда не выглядит банальным брюзжанием, спасает врожденное японское поэтическое чутье и японская же привычка не называть Вещи Своими Именами. Поэтому в тех местах, где у европейца стоял бы невыносимо занудный гундеж на темы свободы личности и неизбежности закона, у Мураками - забетонированный участок моря с небоскребами под дождем плюс девушка, у которой до сих пор в ушах шум прибоя, и она от этого тихо сходит с ума, сидя в своем конструкторском бюро. И всего-то разговору на два-три точных образа. По сути, вся мистически-детективная история с овцой (взятая из китайской мифологии), которая вселяется в человека, выселяется из человека, вселяется-выселяется и т.д... пока не заляжет спать, - это по-японски деликатный обходной маневр и нежелание прямо говорить о тех вещах, о которых европейцы галдят и галдели с высоких трибун. О Свободе и Воле, об Анархии, Демократии, Выборе, Законе, Индивиде... "О чем же нам петь еще?"
Конечно, нормальный рациональный человек должен постепенно одуреть от бесконечных "космических" ушей и "вселенских" овец Мураками, но во всем этом у японского писателя присутствует тот необходимый момент прикола и должная доля абсурда, которые спасают положение. В этом и обаяние романа. Плюс горький дым джазовых кафе, неисправные музыкальные автоматы, беспорядочный секс, разбитные девчонки, холодное пиво, разговоры до утра, философствование, праздность, дорога и прочие необходимые для поэтического повествования атрибуты. Читать порой непросто - это, скорее, Эрик Долфи, чем Дюк Эллингтон.
Журнал "ОМ", Москва, Сентябрь 1998
Борис Кузьминский. ОБЪЯЛИ МЕНЯ ОВЦЫ ДО ДУШИ МОЕЙ
Харуки Мураками. Охота на овец. СПб., Азбука
![]()
Фабула этой книги нелепа до
такой степени, что пересказывать ее - ни с чем не сравнимое удовольствие.
Токио, 1979 год. Тридцатилетний герой-повествователь ("Я") служит в
крошечном агентстве, которое специализируется на рекламе и переводах. У него
есть друг юности по прозвищу Крыса - тот уже несколько лет как удалился в
провинцию, кочует по заштатным городкам и шлет оттуда страные письма с
неразборчивыми штемпелями. В один из конвертов вложена идиллическая фотография:
стадо овец, пасущееся на лугу где-то в горах Хоккайдо. Раз "Я" за
неимением лучшего (Неточность. По просьбе Крысы. - "В.С.") использует ее в качестве
оформления к очередному слогану. Внезапно тираж журнала загадочным образом
арестовывают; в агентстве появляется секретарь самого Сэнсэя - крупнейшего
деятеля теневой политики-экономики. Дело в том, что с помощью лупы среди
обычных овец на снимке можно различить уникальный экземпляр: особь не известной
науке породы со звездообразным пятном на спине. Сэнсэй тяжело болен,
вместе с ним погибнет его теневая империя, и последнее, что тут осталось
предпринять, - изловить овцу. Отыскать беглянку должен именно "Я",
причем не позже чем через месяц - иначе он окажется на улице. Сперва
"Я" относится к этому заданию, как бы мы с вами отнеслись: шизуха и
шизуха. Однако его любовница проявляет необъяснимый энтузиазм. Повинуясь ее интуитивным
импульсам, парочка летит в Саппоро и останавливается в тамошнем отеле
"Дельфин". Отец хозяина гостиницы - чудаковатый сельхозпрофессор; в
1935-м он был в командировке в Маньчжурии, где в него... правильно, вселилась
овца, но, едва почуяв японский воздух и близость благоустроенного Сэнсэя,
переехала. Профессор легко опознает пейзаж на фотографии. Это затерянная долина
с одной-единственной усадьбой - той самой, которую в начале 50-х купили
родители Крысы. Опасное путешествие по горной дороге. В доме полный порядок, но
ни Крысы, ни овцы не видать. Наутро исчезает любовница "Я", зато
появляется одичавший карлик в овечьей шкуре, толку от него ноль. Через
двенадцать дней, когда "Я" уже охватила апатия, в густых сумерках
приходит Крыса, выпивает все пиво, хранившееся в холодильнике, и сообщает, что
в него вселилась овца и что, не найдя другого способа ее уничтожить, он
повесился на потолочной балке две недели назад. В финале усадьба взлетает на
воздух вместе с Сэнсэевым секретарем (не спрашивайте, как он там очутился).
"Я" же, если верить аннотации к петербургскому изданию, "находит
выход из нравственного тупика и обретает смысл собственного
существования".
Ну вот. Коли вы решили, что после такого синопсиса вам будет неинтересно читать сам роман, вы ошибаетесь. Книга просто ломится от побочных сюжетных линий и лирических отступлений. Да и суть описываемых Мураками событий даже рациональное изложение мало проясняет. Во всяком случае, недавно мне позвонил знакомый критик и уныло спросил, не могу ли я хоть как-то истолковать семантику образа овцы. "По-моему, овца символизирует монголоидное суперэго", - брякнул я. В трубке повисло молчание. Тогда я ударился в подробности. "Охота на овец" (1982) - заключительная часть так называемой Трилогии Крысы. В первых двух не происходит ничего особенного, кроме того, что "Я" пьет сакэ, ласкает девушек, слушает музыку и ностальгизирует по 70-м, когда его приятель Джей держал джаз-бар, а "Я" с Крысой пили там сакэ, снимали девушек, тащились под Doors и Deep Purple. Точно такой же бар держал в Токио с 1974-го по 1982-й начинающий писатель, в прошлом участник радикальных студенческих движений Харуки Мураками. Вырос он в портовом городе Кобэ, где легче было достать забугорные книжки и диски. Зачитывался штатовской science fiction, Скоттом Фитцджеральдом, Чендлером и особенно - Раймондом Карвером. В университете защитил диплом "Этимология путешествия в американском кино". Персонажи его романов постоянно цитируют текстовки культовых англоязычных рок-групп, да и синтаксис авторского текста какой-то ненатуральный - сознательная калька с английского, японцы так не пишут и не говорят (Неточность. Так ЕЩЕ не писали, хотя лет 30 уже говорят. - "В.С."). Поэтому литературные бонзы Страны восходящего солнца Мураками недолюбливают, ругают безродным космополитом. Он им отвечает взаимностью: например, вторая часть Трилогии Крысы называется "Пинболл-1973" - откровенный выпад в сторону раннего романа Кэндзабуро Оэ "Футбол-1860". "Очень познавательно. А овца-то здесь при чем?" - не вытерпел мой приятель. "Как при чем? В романе есть намек на то, что этой же овцой был одержим Чингисхан. Сэнсэй исповедует оголтело правые взгляды - то бишь националистические. А гонорар, полученный от секретаря, "Я" дарит Джею. На джаз-бар. Чтоб было где и дальше "роллингов" слушать. Теперь впитываешь?"
Через
полчаса приятель позвонил снова. "Журнал не напечатает. У них аудитория,
которой твои Иноуэ-Кэндзабуры до фонаря. А кто такой Реймонд Карвер, я и сам
понятия не имею". "Значит, ты считаешь, что Мураками здесь не актуален?
- разозлился я. - Так имей в виду: через шесть лет (Через девять. - "В.С.") он вдруг
выпустил четвертую часть трилогии, где "Я"возвращается в отель
"Дельфин", чтобы найти ушастую девушку, любовницу "Я". И
профессор говорит ему, что овца не умерла (На
самом деле это говорит Человек- Овца. - "В.С."). Ясно
тебе? Овца жива, хоть ты вешайся, хоть стреляйся! Жива!"...
"Ну, жива, а что дальше? - вздохнул Крыса. - Ты безнадежен. Знаешь, не вдавайся лучше в детали. Просто перескажи им фабулу. Ни с чем не сравнимое удовольствие."
http://www.susi.ru/HM/NG2.html
"ДЖАЗОВЫЙ ДЗЕН", ИЛИ СТИВЕН КИНГ НА ЯПОНСКИЙ МАНЕР?
Андрей Румянцев
"Независимая газета", сентябрь 2000.
ЕСЛИ вы любите легкое чтение, но хотите казаться поклонником Пруста или Мисимы, то Харуки Мураками - ваш писатель. Его роман "Охота на Овец", выпущенный издательством "Амфора", скрасит досуг и позволит витиевато рассуждать о преимуществах и достоинствах современной японской прозы в сравнении с недостатками и "технократичностью" прозы западной. Вы сможете умно и тонко говорить об особенностях японского взгляда на жизнь и об универсальности взглядов Мураками, о традиционности дзена и авангардности джаза, не рискуя при этом увязнуть в метафизическом или ином философическом болоте и быть пойманным за язык. Занимательный сюжет и легкие диалоги, фантастическое нечто и судьбы мира промелькнут перед вами за вечер, за два, за неделю. А "добро" или то, что его напоминает, победит "зло" или то, на что "зло" похоже.
Скромный безымянный герой, застигнутый кризисом бурь душевных, без видимого напряжения проскользит по страницам романа. Выслушает пяток исповедей, поучаствует в непонятной игре, произнесет вслух или про себя ряд монологов, увидит "торжество человеческого духа" или продемонстрирует его сам и, преобразившись, зашагает в новое для себя завтра с новым опытом, но, как и в начале повествования, безо всякой цели.
Если вы любите легкое чтение, хотите казаться поклонником Пруста и Мисимы, но у вас нет времени формулировать свои мысли и впечатления, то обратитесь к статье о Харуки Мураками, написанной переводчиком романа Ковалениным. Из нее вы узнаете про существование "литературы вообще" и про "миры Мураками", причастность к которым сделает вас "элитарным и крутым".
Знакомство с Мураками будет для вас интересным или неинтересным в зависимости от вашего вкуса и настроения, то есть примерно таким же, как знакомство со Стивеном Кингом. Это сравнение не случайно: читая японского писателя, сплошь и рядом наталкиваешься на типологическое сходство с писателем американским. Оба - крепкие профессионалы-повествователи; оба строят сюжет вокруг чего-нибудь загадочного - монстроподобного; у обоих - персонажи и герои стоят перед проблемами либо нравственного, либо мировоззренческого выбора; и тот и другой обобщают ситуацию и упрощают проблемы. Однако Стивена Кинга как-то не принято рядить в одежды властителя дум. Крепкая беллетристика, чтение для отдыха и не без пользы - вот ниша, которую занимают книги американского писателя.
По-иному, как к "самому экстравагантному
писателю", начинает строиться отношение к Мураками. Возможно, это просто
рекламный ход, возможно, дань моде или экзотике. Но почти все, что говорит о
писателе в своем эссе переводчик, обычно и неэкстравагантно, а иногда просто
противоречит тексту. Так, многообразие и сложность влияний, выделяемые
Ковалениным как индивидуальная черта, - общее место для модернизма и
постмодернизма. Что же до писателей, на которых ссылается сам Мураками, то
набор имен поражает оригинальностью только "лиц незаинтересованных".
Кобо Абэ, Фитцджеральд и Чандлер вполне сочетаются хотя бы потому, что все трое
"классики современной литературы", один - японской, второй -
американской, а третий - детективной. От дзена же в романе осталась лишь
"классическая бабочка". Женщины-героини представлены через отдельные
детали, любопытные, но намеренно общие. Возможно, именно кажущаяся
анонимность героев, недосказанность как прием и составляют главную особенность
романа "Охота на Овец".
Ну а "джазовый дзен", о котором сказано даже на обложке, - это всего лишь слова и голоса, впрочем, за ними стоят стилистическая небрежность перевода и вычурные красоты эссе.
http://www.susi.ru/HM/second_roles.html
Вторые роли: Овца, которой неохота
ЧЕЛОВЕК-ОВЦА:
Харуки Мураками, "Охота на
овец"
Май 2000
Эта статья - четвертая из серии заметок Линор Горалик
"Вторые роли"
-
цикла, посвященного литературным героям "второго плана".
Мите Коваленину,
автору русского перевода "Охоты на овец" -
в благодарность за эту книгу.
Жить становится проще, если на голове у тебя рога,
а на попе овечий хвостик. Правда, шерсть лезет в глаза - но зато овец не берут
на войну. По крайней мере, на игрушечную войну - ту, где солдаты, танки, бомбы
и прочая бижутерия. Овцы такими мелочами не занимаются.
Человеку-Овце очень не хочется на войну. Ему вообще
настолько не хочется быть собой, что он готов говорить о себе "мы" -
лишь бы не употреблять слово "я" - или "одалживать" свое
тело Крысе на пару часов. Он сентиментален, как девушка; он совершенно не умеет
врать; он умеет дружить, да так, что остается другом даже мертвому. Он остро
справедлив, он сдержан, он тактичен и ненавязчив, он замкнут, необразован и
боится насмешек. Судя по всему, он крестьянин - больше всего он напоминает
юношу-айна (иногда автор чрезмерно подчеркивает это сходство), о котором
рассказчик узнает из книги "История Дзюнитаки" - история человека,
который не понимает, зачем нужны призыв и налоги, и больше всего на свете любит
овец.
Для меня в ходе чтения романа Человек-Овца оказался
оазисом. Среди героев книги, поголовно занятых Охотой, - самого рассказчика,
Сенсэя, Черного Секретаря, Крысы, Профессора-Овцы, - Человек-Овца -
единственный, кто занят бегством. Правда, он прекрасно понимает, что дальше
ему бежать некуда: в Японии трудно быть овцой где бы то ни было, кроме
бесконечных долин и чудовищных берез Хоккайдо, особенно если ты все-таки
человек. Но зато здесь зимой выпадает такой снег, что "никто не проедет и
никто не уедет", - счастливые месяцы, когда можно практически не бояться.
Этот человечек - перевернутая картинка, роман навыворот: все гоняются за овцой,
но при этом хотят остаться людьми; он бегает от людей и мечтает остаться овцой.
И, кстати, он совсем не глуп и отнюдь не свихнут.
По ходу знакомства у нас создалось сильное впечатление, что костюм овцы натянут
на него не из-за шизофренического восприятия, а в качестве реального
маскировочного средства: будет нужно - стал на четвереньки и слился с пейзажем.
Может, тут шалит наше собственное воображение, тем более что несколько фраз,
сказанных Человеком-Овцой там и сям, явно указывают на чрезмерную смелость
нашего предположения. Но почему-то нам нравится думать именно так. Видимо,
потому, что мы тоже очень не хотели идти на войну.
P.S. Надо
сразу предупредить, что все написанное выше - неполно, неверно и неточно. У
"Охоты на овец" есть продолжение, - роман "Dance, Dance, Dance".
Там все оказывается совсем не так, и обстоятельства, как выясняется, совсем
другие, и Человек-Овца оказывается совсем не тем, чем он казался до сих пор.
Митя Коваленин сейчас переводит "Dance" на русский. Многое, я
полагаю, прояснится.
P.P.S. Вообще-то, и поскриптум тоже делает хорошую мину при плохой игре. Из "Dance" переведено только 19 глав, из них я успела прочесть 9. Поэтому старалась писать осторожно. Например, одна из фраз Ч.-О. (о том, что в нем порой "Овца как сцепится с человеком...") навела меня на красивую версию: Овца переселяется в Ч.-О. после смерти Крысы и живет в нем, как в инкубаторе, - ждет подходящей добычи. Может, поэтому Крыса и заботится убить Черного Секретаря - дабы тот не подошел к Овце достаточно близко, не дал ей "прыгнуть". Но высказать эту версию я побоялась - трудно допридумывать роман, когда знаешь, что у него уже есть недоступное тебе пока продолжение...
·
* *
http://www.susi.ru/HM/int2.html
Там внизу, в темноте
РОЛАНД КЕЛЬТС versus ХАРУКИ
МУРАКАМИ
Ежемесячник
"КАНСАЙ ТАЙМ-АУТ"
Осака, ноябрь 1999
 Скучаете ли Вы по своему джаз-бару?
Скучаете ли Вы по своему джаз-бару?
- Иногда. Я держал его семь лет. Но я терпеть не могу пьяных клиентов. Мне приходилось драться с ними и вышвыривать вон. Еще некоторые музыканты по выходным заявлялись играть "под кайфом". Я не хотел бы связываться с этим снова. Но я многое понял о таланте. Например, лишь один из каждых десяти барменов обладает сноровкой, чтобы сделать хороший коктейль. Я научился доверять таланту - но в то же время понял, что просто иметь талант недостаточно. Ты рождаешься талантливым или нет, это серьезный факт в жизни. Люди спрашивают меня, что им нужно делать, чтобы стать писателем. А я не знаю, как им ответить. Если у тебя нет таланта - это пустая трата времени. Но жизнь сама по себе, в той или иной степени, - пустая трата времени. Так что я не знаю...

- Жизнь - пустая трата времени?
- Более или менее, я думаю...
Но мне, может, и нравится тратить время. На свете столько всего, что я люблю -
джаз, кошки... Девушки, может быть. Книги. Все это помогает мне выжить. У меня
есть талант, чтобы писать, но мне все время кажется, что я зря трачу время. Мой
любимый писатель - Достоевский. В "Братьях Карамазовых" есть
все, о чем когда-либо захочется написать, и все, что когда-либо захочется
прочитать. Я называю это "абсолютным романом". Вот что мне
хотелось бы написать когда-нибудь. Мне кажется, "Хроники заводной птицы" - шаг в
направлении абсолютного романа. Я только-только начал приближаться к миру
Достоевского, он все еще далек от меня, и впереди долгий путь, а у меня
осталось так мало времени...
- Что побудило вас поехать жить и писать за границу?
- Когда я жил в Японии, все,
что я хотел - это поскорее убраться отсюда! У меня с ней было столько
проблем... Некоторые системы здесь я просто ненавижу. Так что я уехал в Штаты
почти на пять лет, и вдруг, живя там, совершенно неожидано захотел писать о
Японии и о японцах. Иногда о прошлом, иногда о том, как все сейчас. Легче
писать о своей стране, когда ты далеко. На расстоянии можно увидеть свою страну
такой, какая она есть. До того я как-то не очень хотел писать о Японии. Я
просто хотел писать о себе и своем мире.
 - В Японии
районы Кансай ("старая"
Япония - Киото, Осака, Кобэ) и Канто (Токио, Иокогама) практически
соперничают друг с другом. Похоже, вы никогда не писали об этом - хотя родились
в Кансае, а потом переехали в Канто. Почему?
- В Японии
районы Кансай ("старая"
Япония - Киото, Осака, Кобэ) и Канто (Токио, Иокогама) практически
соперничают друг с другом. Похоже, вы никогда не писали об этом - хотя родились
в Кансае, а потом переехали в Канто. Почему?
- Я уже
более тридцати лет живу в Канто. С восемнадцати. Когда я поступил в университет
в Токио, я постарался избавитья от кансайского диалекта - просто хотел скорее
расстаться с Кансаем. Так же, как потом хотел расстаться с Японией. Где бы я ни
был - мне всегда хотелось уехать куда-то еще. И, по-моему, у меня есть
склонность к освоению новых языковых систем. Они удобны для меня. Они являют
мне новые миры - и дарят ощущение нового себя. Я приехал в университет и
влюбился в свою нынешнюю жену. Я нашел нового себя в Токио - и потом уже не
уезжал оттуда, за исключением поездки в Америку. Моя жена из Токио, из центра
Токио. Но я всегда знал, что люди в Кансае превосходят людей в Токио.
- Культурой?
- Да. Они
замысловатее и интеллектуальнее. Но на кансайском диалекте невозможно говорить
о метафизике - он не создан для таких материй. Привыкнув к токийскому диалекту,
я вдруг обнаружил, что могу говорить ясно и просто, по-прежнему используя мою
старую добрую кансайскую замысловатость. Это лучшая комбинация! В Кансае
люди выражают себя примерно на 60 процентов. А в Токио они расскажут вам о себе
на все 80. В Кансае люди очень замкнутые. Они скрывают свои чувства.
Говорят двусмысленно. Токийцам нелегко уразуметь, о чем говорят люди в Кансае.
Там у них столько путаницы - особенно в Киото. Мой отец из Киото, такого рода
людей иногда бывает очень трудно понять.
 - Такое
"лингвистическое переосмысление реальности"- совсем не то, с
чем обычно ассоциируют японцев на Западе. Ваша страсть изобретать заново всё и
вся - это как-то связано с увлечением американской литературой?
- Такое
"лингвистическое переосмысление реальности"- совсем не то, с
чем обычно ассоциируют японцев на Западе. Ваша страсть изобретать заново всё и
вся - это как-то связано с увлечением американской литературой?
- Я перевел многих американских писателей и многому научился. Я двигаюсь между языковыми системами. Это очень увлекательно. У меня никогда не было наставника в писательстве. Перевод был моим учителем. Переводя, я выучился почти всему. Я люблю книги Трумана Капоте, Рэймонда Чандлера, Фрэнсиса С. Фитцжеральда, Рэймонда Карвера. Я учился писать у них. Это великолепные писатели. Мне кажется, когда я переводил их, я смог понять, как они писали. Я разбирал их произведения и собирал опять, как часы.
- У многих в Штатах сложилось впечатление, что ваши истории могли бы запросто происходить где-нибудь в Нью-Джерси или в Вермонте. Но никто не говорил такого о "Хрониках заводной птицы". Случайно ли это? Или в "Хрониках" вы решили рассмотреть жизнь и историю Японии более целенаправленно?
- На самом деле, я касался войны и в других книгах. Нечто похожее я сделал в "Охоте на овец". Обрисовал некоторые "подвиги" японской армии в Китае. Но в молодые годы было сложнее писать об этом. Мне кажется, я вырос как писатель. Приступая к "Хроникам", я уже умел писать об Истории. Раньше, в молодые годы, мне хотелось писать только что-нибудь межнациональное. Я находился под сильным влиянием американских детективов. Любил этот стиль, эти авторские интонации. Это нечто фантастическое. Мне было 29, когда я изучал все эти истории. Они были учебниками для меня. Но я не хотел загадывать загадки, я хотел писать литературу. Я использовал их интонации, их стиль и структуру - но я хотел писать серьезные книги. Мой стиль очень сильно отличается от стиля моих японских коллег. И я допускаю, что некоторые мои истории могли бы произойти в том же Вермонте. Не все, но некоторые.
- Документальная книга "The Rape of Nanking", написанная Айрис Чан в 1995 году о зверствах японских военных в Китае, недавно была снова изъята из публикации - после угроз экстремистов правого крыла японским издателям и переводчикам. Никто не высказался открыто против такого явного нарушения свободы слова*. Как же сегодняшние японцы могут смотреть в лицо своему прошлому, если подобные откровения даже недоступны для обсуждений и споров?
- Вы совершенно правы. Я согласен с вами на все сто процентов. Но сегодняшние японцы не хотят видеть то, чего они видеть не хотят. Они предпочитают выбирать из всего только светлые стороны. Возможно, они устали быть обвиняемыми. Я не знаю. Но для меня самое важное, что такое может случиться снова. Я очень боюсь этого. Если б я был уверен, что ничего такого больше не случится, никогда, - меня бы не волновало, что японцы забыли свое прошлое. Но я не уверен. Я принадлежу к поколению идеалистов 60-х. Мы действительно верили, что мир станет лучше, если очень постараться. Мы очень старались - но в каком-то смысле все равно проиграли. Однако я пытаюсь пронести чувство этого идеализма через всю жизнь. И до сих пор верю, что идеализм способен сделать много хорошего в будущем... Если честно, я даже не знаю, что сказать обо всех этих ревизионистских движениях. Я думаю, они (японские националисты) - просто безмозглые идиоты.
- Существует ли опасность физической угрозы для издателя, публикующего таких авторов, как Айрис Чан?
- Да. Если вы выпустите такую книгу, ультраправые придут к вашему офису с громкоговорителями и начнут осыпать вас угрозами с утра до вечера. И будут продолжать так неделю, две, три - хоть до скончания века. Это очень действенный метод. Если вы в своем уме, в один прекрасный день вы просто скажете: "Ладно, я не буду публиковать эту книгу - может быть, это захочет сделать кто-то другой". Только никто не захочет. Так уже случилось с книгой Салмана Рушди. И случится снова и снова.
- А вам самому угрожали после того, как вы описали военную кампанию в Маньчжурии?
- Мне - нет. Потому что ультраправые фанатики не читают моих книг. Им неинтересно. А мне и без них хорошо*.
- Чему вы сами научились из интервью, взятых вами для "Андеграунда" - документальной книги о газовой атаке секты Аум Синрикё в метро 1995 года?
- Все очень удивились, когда я написал эту книгу - но для меня это было очень естественно. Это проблема внутреннего и внешнего космосов. Это моя тема - коридор между внешним космосом и внутренним. Сёко Асахара, лидер секты Аум, указал этот коридор своим верующим. Те впали в шок от вида новых горизонтов, и он использовал их шок, чтобы сделать из них рабов. Это очень опасно. Мне кажется, что он своего рода гениальный рассказчик, который рассказал людям плохую историю - и они убили много других людей. Это трагично, грустно и очень неправильно. Я просто хотел рассказать миру, как это все неправильно. Но если бы я просто сказал, что это неправильно, никто бы ничего не понял. Так что я взял у них интервью, собрал вместе их голоса и сделал книгу. Я разговаривал с 63-мя пострадавшими, которые были в тот день там, в метро. Голоса простых людей, которые пострадали от всего этого. Я спрашивал их в интервью о детстве, о первой любви. Они жаловались - мол, это не имеет отношения к трагедии. А я отвечал - имеет! Я прежде всего хотел знать, что это за люди. И хотел описать их персональные трагедии. Если бы я сам ехал в том поезде, я бы, наверное, их ненавидел. Но когда я слушал их истории - я их любил. Это хорошие люди. Мы понимаем друг друга. Они очень много работают и любят свои семьи. Они не чувствуют себя счастливыми, когда набиваются в электричку и едут на работу, где потом выкладываются на всю катушку - но они верят, что так и должно быть. И я люблю этих японских работяг. Но в то же время чувствую, что если бы их отправили на войну - например, в Китай - они убили бы много китайцев, потому что они очень, очень организованны, вы знаете. Они так много и так тяжело работают...
- Опасны ли они?
- Опасны. Если им прикажут убивать - они будут убивать. Я очень люблю их, но в то же время очень боюсь. Я... не знаю. Пока не знаю.
- Вы решили использовать интернациональную форму повествования, но наполнять ее своими фантазиями, своим материалом, оставаясь при этом именно японским писателем. Это звучит очень самоуверенно - как будто вы сами решили манипулировать структурами [своего жанра].
- Основная традиция в японской литературе - "сисё:-сэцу" (дневник, "роман о себе"). Когда я написал свою первую книгу, многие были шокированы. Мои истории очень сильно отличались от сисёсэцу. Лишь несколько критиков тогда признали мое существование. Большинство же из них и до сих пор меня терпеть не может. Но многим читателям мои книги понравились, и это хорошо. Если ты нашел своего читателя - ты выживаешь. Таков принцип. Сначала у меня появилось сто тысяч читателей. Я вцепился в них и не отпустил. Через десять лет их стало двести тысяч. Еще лучше. А когда я написал "Норвежский лес", у меня появились миллионы читателей. Вот это было нечто! Конечно, миллионы - это исключение. Такое случается один раз за всю жизнь. Но вот моя самая новая книга, "Спутникова любовь" (Sputnikku-no Koibito, 1999) - вышла в этом году - а уже продано триста тысяч экземпляров. Поэтому я думаю, что обезопасил свое положение на этой Земле.
- В каком смысле обезопасили - эмоционально, эстетически или коммерчески?
- Ну, вы же понимаете, я - писатель-романист. Я пишу толстые, долгие книги. Чтобы такие книги доводить до конца, нужно очень много времени. На "Хроники заводной птицы" я угрохал четыре года. Но пока пишешь, нужно на что-то жить. Деньги в этом смысле очень помогают. Если нет денег, ты вынужден заниматься какой-то другой работой - вместо того, чтобы сидеть и писать. А это безобразие*.
- Сколько времени
вы пишете один рассказ?
- Неделю.
- Всего неделю?
Первые наброски я заканчиваю за три дня. При этом не делаю ничего больше. Только пишу. Потом - три дня на правку. Потом передаю это моему редактору, у них там своя кухня. А потом - опять: переписываю, переписываю и переписываю... Вот, недавно начал все это успевать за неделю. Прямо так и написалось - три рассказа в месяц: неделя, неделя, неделя.
- И это ваш обычный темп?
- Нет-нет. Это была особенная вещь. Я страшно вымотался под конец. Но получился очень интересный сборник рассказов под названием "После землетрясения". Шесть историй, случившихся в феврале 1995, между январским землетрясением в Кобэ и газовой атакой Аума в марте. Так, что февраль получился месяцем тревожного затишья, месяцем пожинания плодов и предчувствия новой беды. Некоторые герои родом из Кобэ, как я - но живут в Токио и его окрестностях. Одна женщина знакома с парнем в Кобэ, ненавидит его. Желает, чтобы его убило землетрясением...
- Почему?
- А я не знаю. Это не объясняется. Что-то там у них случилось в прошлом, и теперь она его ненавидит.
- Вы ездили в Кансай сразу после землетрясения?
- Да. Проводил благотворительные чтения в Асия и Кобэ.
- И как вы
относитесь к публичным чтениям?
- Терпеть не могу. Слишком много дурацких вопросов и слишком много автографов*.
- Я читал, что вы занимаетесь триатлоном. Вы шесть раз бегали Бостонский марафон и два раза - Нью-Йоркский. Как вам удается писать по три рассказа в месяц и совмещать это с тренировками?
- Это своего рода дисциплина. Если тебе нужно на чем-то сконцентрироваться - тебе может здорово помочь именно физическая сила. Большинство писателей терпеть не могут спорт - но нужно быть физически сильным, если собираешься писать как следует. Когда ты молод, ты можешь делать что угодно, потому что у тебя есть силы. Но когда становишься старше, приходится тренироваться. Когда мне исполнилось тридцать три, я бросил курить и начал бегать.
- Возраст Христа при распятии.
- Правда? Я не знал... Но речь как бы идет о реинкарнации, верно?
- Вы все время жили нетрадиционной жизнью - особенно здесь, в Японии. Не примыкаете ни к каким группировкам. Сторонитесь литературных кругов, избегаете давать интервью и т.п. Вместо этого Вы путешествуете, пишете что хотите, идете своим путем. Как вы думаете, хотела бы жить такой жизнью сегодняшняя молодежь Японии?
- Они меняются. Они отличаются от предыдущих поколений. Иногда они делают глупости. Когда я бываю в районе Сибуя, мне странно и отвратительно видеть крашеные белые волосы и туфли на слоновьих платформах. Это ужасно глупо. Но они очень стараются. Это так нелегко - быть сейчас ребенком. Они не знают своей цели, своего предназначения, не понимают, что ими движет, когда они что-либо делают. Но я думаю, у них есть потенциал. И в то же время, они опасны. Национализм - опасное движение в Японии. Я всего лишь писатель, и иногда я чувствую себя бессильным. Против таких сильных течений не очень-то и поборешься. Но лозунги умирают быстро. А истории могут жить гораздо дольше. Пусть даже слова у хороших историй не настолько громкие - упадок проходит, а они остаются.
- О японской молодежи - тинэйджерах, двадцатилетних и старше - пишут сейчас довольно много как здесь, так и за границей. Теперь, когда лопнул экономический "мыльный пузырь" - есть ли у Японии шанс по-настоящему измениться?
- Я
принадлежу к поколению "бэби-бума", нас родилось тогда очень много. И
большинство нынешней молодежи наше поколение на дух не переносит. Поколение
двацатилетних - это поколение моих собственных детей. Я получаю от них много
писем, они пишут: "Вам столько же лет, сколько моему отцу". Я
отвечаю: "Но я не твой отец!" Они хотят знать, почему у них не
получается общения с собственными отцами. Они говорят: мой отец совершенно не
понимает меня, и я совершенно не понимаю своего отца. Но когда они читают мои
книги - мои чувства они почему-то понимают нормально. Многое меняется сейчас, в
Японии и во всем мире. Многое сдвигается. Нет никакой определенной системы или
строгого порядка. Многие чувствуют себя незащищенными.
Но мне кажется, я всю жизнь испытываю то же самое - с тех пор, как мне стукнуло
двадцать. И я могу чувствовать то, что чувствуют сегодня они. Я больше не
молод, но я эти вещи я ощущаю. В годы моего студенчества сам воздух, казалось,
сочился идеализмом, антивоенными настроениями, контр-культурой. Я тоже
участвовал в этом, понятное дело - но уже к началу 70-х со всем этим было
покончено. И тогда я понял, что надежности нет ни в чем. Я уже не мог ничему
доверять. И пообещал себе, что больше никогда не примкну ни к каким
движениям, идеологиям или "-измам". Они разочаровали меня. Они
предали меня. И я начал записывать то, что чувствовал обо всем этом мире. Это и
был мой старт.
И с тех пор я пишу об опасном мире, где под землей, прямо у тебя под ногами,
существуют еще подземелья, и всякие загадочные существа живут и передвигаются -
там внизу, в темноте. Ты не можешь ничего разглядеть - но чувствуешь,
как там что-то движется. Иногда удается разглядеть особо странные создания -
например, Человека-Овцу. Человек-Овца сам не хочет ничего сказать - он
просто возникает перед тобой, и все. Но он являет собой Послание, и все,
что тебе остается - это принять это Послание как оно есть. Его необязательно
как-то анализировать, достаточно просто принять. Некоторые при этом чувствуют
себя крайне неуютно. А я спокойно принимаю Послание как оно есть, ибо оно
- ключ к моему подсознанию. И я думаю, как раз вот такие структуры
особенно важны для моих историй...*
Да, "экономический пузырь" лопнул - но меня это не волнует. С гибелью контр-культуры мое поколение просто ушло в компании и работало, не покладая рук. Японская экономика достигла в развитии потолка - и резко провалилась сама в себя. Tак что если эти дети не могут доверять своим отцам, не любят своих отцов - я думаю, это потому, что поколение отцов проиграло, проиграли его экономические приоритеты. Но что особенно грустно - проиграли всеяпонские общественные ценности. Японцы так тяжело работали на протяжении 50-ти лет. Но вдруг оказалось, что это ничего не значит. И дети того поколения тоже ощутили себя одинокими и потерянными.
- Когда читаешь у вас о том, как проиграло поколение контр-культуры 70-х, а потом, двадцать лет спустя, точно так же проиграло поколение фанатиков экономического успеха, - невольно думаешь: как хорошо в ваших книгах схвачено это сверхестественное одиночество... Может быть, как раз на это и откликаются сегодняшние дети?
- Да. Герои моих книг - очень одинокие люди. Но у них есть хотя бы их стиль и их стремление выжить. А это много значит. Они не знают, для чего они живут и каковы их цели, но им все-таки приходится жить. Это своего рода стоицизм - выживать только на своей одержимости. Иногда это почти религиозность. Вы можете называть это постмодернистским взглядом - жить бессмысленную жизнь только на своем вкусе, своем стиле. Порой мои читатели бывают поражены таким стоицизмом. Это нелегко, вы знаете.
- Одиночество созерцания возможностей в мире, который к ним слеп - центральная тема в ваших книгах. Но ваши герои, похоже, находят себя в рассказывании историй?
-
Рассказывание историй лечит. Если ты можешь рассказать хорошую историю, ты
можешь быть исцелен. "Хроники заводной птицы" -
попытка абсолютного романа, собрание историй, рассказанных разными персонажами.
Они рассказывают и исцеляют друг друга. Роман - это книга исцеления. Когда ты
выбит из колеи появлением другого мира, новыми горизонтами - любовь исцеляет
тебя. И я думаю, рассказывание хороших историй - это проявление любви.
Наверное, поэтому я пишу книги. Я хочу исцелиться.
Перевод и комментарии: Инна Кригер + ДК
* Красным выделены места, не попавшие в
"бумажное" интервью и прозвучавшие лишь в сетевом варианте. Что лишь
доказывает актуальность того, о чем идет речь. Определенно - "something is
rotten in the Kingdom of Denmark"...
"Виртуальные Суси"
Аутсайдер
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ХАРУКИ МУРАKАМИ
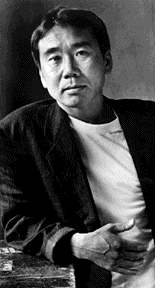 ХАРУКИ
МУРАКАМИ -
ХАРУКИ
МУРАКАМИ -
O ЧЕРНЫХ ГЛУБИНАХ
ПОДСОЗНАНИЯ,
ГАЗОВОЙ АТАКЕ СЕКТЫ "АУМ"
В ТОКИЙСКОМ МЕТРО
И ПРОБЛЕМАХ
ИНДИВИДУАЛИСТОВ
В ЯПОНИИ.
(перевод с англ., комментарии -
Юлия и Дмитрий Коваленины)
1-я страница из 3-х
Герои захватывающих и странных романов Харуки Мураками никак не соответствуют стереотипному образу современных японцев как "безликих трудоголиков". Это - мечтатели, мозгляки-интраверты, помешанные на классической и поп- культуре, тяготеющие к связям с загадочными женщинами и участию в потусторонних интригах. Тору Окада, протагонист его последнего (на 1997 г. - Д.К.) опуса, "Хроники заводной птицы", проводит чуть не половину времени повествования, наслаждаясь положением безработного - варит на кухне обеды, читает книги и купается в бассейне, то и дело встречаясь со странными людьми, которые рассказывают ему свои трагические истории.
Поскольку Мураками не скрывает сходства своих героев с самим собой, нетрудно поверить, что у себя на родине он очень долго ощущал себя чужаком - даже среди собратьев-писателей. Тем более примечательно, что в последнее время автор возвращается в своих темах именно к Японии и к ее "маленькому человеку". Особенно ярко это проявилось после публикации его интервью с жертвами газовой атаки секты Аум в Токийском метро 1995г., - материалов, которые он собирал больше года (Опубликованы в 1996 г. толстым томом под общим названием "Андерграунд". - Д.К.).
Как признается сам Мураками, "возврат к корням" начался в период его 4-хлетнего пребывания в Принстоне, когда создавались "Хроники заводной птицы". Помимо впечатляющего прогресса в английском языке, пребывание в Америке подарило Мураками сильнейший эмоциональный заряд, описать который он затрудняется даже теперь, через два года после возвращения в Японию.
Вместе с редактором журнала "Wanderlust" Доном Джорджем (который пришел на помощь с переводом в самый ответственный момент) мы встретили Мураками во время его короткого турне по Западному побережью, в которое писатель отправился для рекламной раскрутки своей последней книги, "Хроники заводной птицы". На наши вопросы Мураками отвечал неторопливо и очень прямо - что казалось скорее результатом редкой, исключающей всякое самолюбование искренности (он нечасто дает интервью), нежели следствием языкового барьера.
* * * * * *
- Как возникла идея "Хроник заводной птицы"?
- Когда я начал это писать, идея была очень маленькая - так, образ, даже идеей не назовешь. Тридцатилетний мужчина варит себе спагетти, и вдруг звонит телефон... Вот и все. Это так просто, но мне показалось, в этом что-то есть.
- Вы сами удивляетесь тому, что случается в повествовании, - ну, как если бы вы были читателем, - или же всегда знаете, что будет дальше?
- Никогда не знаю. Мне всегда нравилось писать именно потому, что я понятия не имею, что случится, заверни я за вон тот угол... Никогда не знаешь, что там найдешь. Читать книги особенно приятно именно так - вспомните детство! - когда не представляешь, что будет дальше. И когда я пишу, со мной происходит то же самое. Очень большое удовольствие.
- В этой книге вы затрагиваете новые для вас темы. Один из персонажей рассказывает совершенно ужасные вещи, которые случились с ним во Вторую Мировую войну. Что вас заставило обратиться к такой тематике?
- Я уже пытался писать о войне, но мне это давалось тяжело. У каждого автора есть своя техника - что он может, чего не может для описания таких вещей, как война или другие исторические события. Я не мастер писать о таких вещах, но я пытаюсь - потому что чувствую: это необходимо. У меня в голове как будто множество выдвижных ящиков, а в них - сотни и сотни разных материалов. И я достаю оттуда те материалы и образы, которые сейчас пригодятся. Война - это очень большой ящик у меня в голове, просто громадный. И я чувствовал, что придет время - и я воспользуюсь им, вытащу из него что-нибудь и напишу об этом. Не знаю, почему. Возможно, потому что это история моего отца. Мой отец - из поколения, которое воевало в 40-е. Когда я был маленький, отец иногда рассказывал о войне - не очень часто, но это много для меня значило. И мне захотелось узнать, что же случилось дальше. С этими людьми, с поколением моего отца. Такие воспоминания - своего рода наследие. Хотя то, что происходит в книге - вымысел от начала и до конца. Сюжет я сочинял сам.
- Чтобы написать эти части в книге, вам много пришлось копаться в истории?
- Да, пришлось заняться исследованиями. Ненадолго. Я жил в Принстоне, когда писал эту книгу, у них там большая библиотека. Я был совершенно свободен и ходил туда каждый день. Читал книги, в основном по истории. У них там хорошая подборка книг о том, что случилось тогда на границе Монголии и Маньчжурии. Признаюсь - большинство этих фактов было мне в новинку. Я просто поразился, насколько все было нелепо, жестоко и кроваво. А в Монголию, как ни странно, я поехал уже после того, как закончил книгу. Большинство нормальных людей едут к месту исследования до того, как что-то писать - а я поступил наоборот. Для меня очень важно мое собственное воображение, и я бы только испортил его, если бы поехал туда заранее.
Д А Л Ь Ш Е :
Открыть Японию, уехав из нее
Аутсайдер 2-я
страница из 3-х
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- Ваша последняя книга кажется более "японской", тогда как другие романы кажутся более "западными"...
- Что, в самом деле?
- О, да. Возможно, это потому, что ваши герои любят западную культуру. Когда читаешь эти книги, не возникает ощущения, что действие происходит в Японии. Впрочем, это впечатление западного читателя... Тем не менее, последний ваш роман гораздо больше сфокусирован на Японии. Откуда такой поворот?
- Но я же в то время жил в Штатах! Я провел здесь с 1991-го по 1995-й год - как раз когда писал эту книгу. И отсюда смотрел на свою страну и свой народ. А когда писались другие вещи, в Японии, я хотел просто вырваться на свободу. Однако стоило мне уехать из Японии, в голову сразу полезли вопросы: кто я? Что я есть как писатель? Раз я пишу книги на японском языке - значит, я японский писатель. Но в чем моя самобытность? Постоянно про все это думал, пока здесь жил... Возможно, это одно из объяснений, почему я стал писать о войне. В каком-то смысле мы, японцы, когда-то сбились с пути. Мы так тяжело работали после войны. Так сильно хотели разбогатеть. Наконец, мы достигли какого-то уровня - и лишь тогда спросили себя: что мы делаем? Куда мы идем? И ощутили растерянность... Ну и, кроме того, я ищу для себя побуждение, причину, чтобы писать. Это сложно объяснить словами... Слишком сложно для меня.
- Какой вам показалась Япония, когда вы были далеко от нее?
- (Долгая пауза) Очень большой вопрос.
- Может, попробуете по-японски?
- (По-японски) Даже по-японски - очень сложно.
- (Редактор журнала "Wonderlust" Дон Джордж, по-японски) Может, когда вы смотрите на свою страну со стороны, из-за границы - смысл того, что такое быть японцем, проявляется как-то отчетливее? Когда вы живете в Японии, внутри, вы просто не думаете обо всем этом - и лишь уехав, получаете иной угол зрения на то, что такое японец как таковой?
- В частности, и это тоже, но... Мне очень трудно это сформулировать. Может, перейдем к другому вопросу?
- С удовольствием. Ваши герои совершенно не вписываютсяв рамки той трудоголической системы ценностей, которая, как вы говорите, была так сильна в послевоенной Японии. Что вас привлекает в таких героях, как Тору - безработный, постоянно сидящий дома?
- Всю жизнь после окончания университета я сам жил, ни от кого не завися. Никогда не принадлежал никакой компании или системе. В Японии жить таким образом очень непросто. Тебя оценивают по тому, в какой фирме ты служишь или какой системе принадлежишь. Для большинства японцев это чрезвычайно важно. И в этом смысле я всегда был аутсайдером. Было довольно тяжело, но мне всегда нравился такой стиль жизни. И в последние годы молодежь в Японии старается, по возможности, жить именно таким стилем жизни. Они не верят ни в какие фирмы. Еще десять лет назад "Мицубиси"или другие фирмы-гиганты были непоколебимы. Теперь это не так. Особенно в самое последнее время. Молодые люди не доверяют вообще ничему. Они хотят быть свободными. Нынешние система, общество не принимают таких людей. Если по окончании университета они не идут наниматься в фирму - им приходится быть аутсайдерами. И на сегодняшний день такие люди составляют уже солидную группу в обществе. Я очень хорошо понимаю, что они чувствуют. Мне 48, а им за 20 или за 30 - но вот у меня есть страница в Интернете, где мы с ними переписываемся, и они мне шлют письма, и сообщают, что им нравятся мои книги. Как странно! Мы с ними такие разные, но можем понимать друг друга очень естественно. Мне нравится эта естественность. Я чувствую, наше общество постепенно меняется... Мы обсуждали с ними героев моих книг. Похоже, мои читатели действительно сопереживают моим героям, испытывают к ним симпатию. Я хочу верить, что это так. Что мои истории действительно созвучны их естественному желанию быть свободными и независимыми людьми.
- Стиль жизни ваших героев чем-то похож на стиль жизни писателей - все они тоже живут сами по себе. Трудно ли быть писателем в Японии?
- Да не так уж и трудно. Я - исключение. В Японии даже писатели собираются в общества. Один я ни во что не собираюсь. Еще и поэтому, кстати, я продолжаю "бежать" из Японии. Это моя привилегия. Я могу ездить куда угодно и жить где мне вздумается. А в Японии все писатели входят в какие-то объединения, кружки и сообщества. Пожалуй, процентов 90 всех японских писателей живет в Токио. Естественно, они там сбиваются в кланы. И связывают себя какими-то стилями поведения и обязательствами. Я считаю, это - полный идиотизм. Если ты писатель - ты свободен делать что хочешь и ездить куда тебе вздумается. Лично для меня нет ничего важнее этого. Понятно, почему большинство из них меня на дух не переносит. Потому что я не люблю элитарности. Мир не должен переворачиваться, если я вдруг пропадаю надолго.
- Их раздражает то, что вы пишете?
- Я обожаю поп-культуру - "Роллинг Стоунз", "Дорз", Дэвида Линча и все в таком духе. Я же говорю, что не люблю элитарности. Люблю фильмы ужасов, Стивена Кинга, Рэймонда Чандлера, детективы. Писать такие вещи я не хочу. Что я хочу - так это использовать их структуры, но не их содержание. Мне нравится наполнять эти структуры своим содержанием. Это - моя манера, мой стиль. Так что меня не любят писатели обоих типов. Меня не любят развлекательные писатели, и меня не любят солидные литераторы. Я же - посередине, я делаю нечто новое. Поэтому много лет я не мог найти в Японии своей ниши. Но сегодня я чувствую, что ситуация радикально меняется. Для меня теперь есть ниша, и она растет. За эти пятнадцать лет у меня появилась своя преданная аудитория. Мои читатели продолжают покупать мои книги, они на моей стороне. А писатели и критики - не на моей стороне. И чем больше становится моя ниша, тем больше ответственности я ощущаю именно как японский писатель. Вот что, собственно, происходит сейчас, и вот почему два года назад я решил вернуться в Японию. В прошлом году я написал книгу о зариновой атаке в Токийском метро 1995 года. Я опросил 63 жертвы происшествия - из тех, кто в тот день ехал в поезде. Я сделал это потому, что хотел послушать, что думают обычные японские люди. Ведь это был самый обычный день, утро понедельника - полдевятого или около того. Все едут в центр города. Вагоны битком набиты - ну, вы знаете, час пик, - все притиснуты друг к дружке вот так (сжимает плечи)... И вот этих обычных людей, которые так много и тяжело работают, этих обычных японцев вдруг травят газом ни за что ни про что. Полный идиотизм! И мне захотелось узнать - как они пережили все это? Что это были за люди? И вот я начал опрашивать их, одного за другим. Это заняло у меня год - и в итоге я остался под большим впечатлением, узнав всех этих людей поближе. Я всегда терпеть не мог всех этих служащих фирм - клерков, бизнесменов... Но после интервью с ними во мне поселилось нечто вроде сострадания. Я, честное слово, не знаю, зачем они все так тяжело работают. Некоторые из них встают каждый день в полшестого утра, чтобы ехать на работу в центр Токио. Это более двух часов на поезде, поезд забит вот так (снова сжимает плечи). Даже книгу не почитать. Но они живут такой жизнью лет тридцать - сорок подряд! Для меня это невероятно. Они возвращаются домой в десять вечера, и их дети уже спят. Единственный день, когда они видят своих детей - воскресенье. Это ужасно. Но они не жалуются. Я спросил их, почему - они говорят: а что толку? Так живут все - а значит, для жалоб нет оснований...
- Они завидуют таким, как вы?
- Нет, не завидуют. Они привыкли. Они живут так уже очень много лет. У них нет выбора, нет других вариантов. Я заметил странное сходство между ними, обычными работягами, и членами секты. Когда я обрабатывал эти интервью, это сходство не выходило у меня из головы. А когда закончил - заинтересовался, в чем разница. Это трудно выразить, но... Я просто влюбился в этих людей. Они рассказывали мне о своем детстве. Я спрашивал у них: каким вы были ребенком? Как учились в школе? Каким были, когда женились? Какой была ваша невеста? И в их жизнях оказалось столько историй! У каждого - своя замечательная история, я был просто в восторге... И сегодня, когда я еду в метро и вижу таких людей вокруг себя - мне гораздо уютнее с ними, чем раньше. Потому что теперь я точно знаю: у каждого из них есть своя история. Эти интервью дали мне очень много. Мне кажется, я меняюсь благодаря им.
- И какой была реакция на эту книгу?
- Пришло очень много писем от читателей. Они так прониклись... Некоторые даже писали, что теперь чувствуют больше уверенности в себе. Странная реакция на криминальную публицистику. Но они писали, что моя книга придала им сил. Эти люди, которые так тяжело работают, забывая про все на свете - были тронуты до глубины души... Тут дело даже не в том, что мы слишком привыкли считать, что много работать - это хорошо. Дело не в этом. Дело в сопереживании.
Аутсайдер 3-я
страница из 3-х
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- А вы брали интервью у членов секты?
- Я занимаюсь этим сейчас. Мне их очень жаль. Люди эти молоды, большинству нет и 30-ти. Это очень серьезные люди, идеалисты. Они всерьез размышляют об устройстве мира и о системах человеческих ценностей. Я родился в 1949-м и был студентом в 60-х, во время революций и контркультуры. Мы тоже были идеалистами, наше поколение, но это прошло. Пришла "бабл-экономика" (т.н. "экономика мыльного пузыря", возникающая в рез-те колоссального массового перепроизводства и характерная, по выражению самого Мураками, "переведением-всего-на-дерьмо", пример см. здесь. - Д.К.). И эти молодые люди чем-то похожи на нас - такие же идеалистичные и неспособные вписаться в систему. Никто не принимал их за своих, и поэтому они ушли в секту. Они рассказывали мне, что деньги для них ничего не значат. Они хотят чего-то более ценного, более значимого для себя. Чего-то духовного. И это вовсе не плохо. Но никто не предлагает им того, что они хотят, это может только секта. У них нет системы внутренней самопроверки, чтобы самим решать, что хорошо, что плохо. Мы не предложили им таких систем. И я думаю, здесь наша, писательская вина. Если я расскажу вам хорошую историю, эта история предложит вам систему ценностей, которой вы можете воспользоваться, чтобы судить - что хорошо, что плохо. В моем понимании, рассказать вам историю - значит поместить вас в чужую шкуру. На свете огромное количество разных шкур, и когда мы влезаем в очередную из них, мы всякий раз смотрим на мир еще чьими-нибудь глазами. Мы всегда учимся чему-то о мире вокруг нас из хороших историй, серьезных историй. Но этим людям никогда не предлагали хороших историй. И когда Асахара, гуру Аум, предложил им свою историю, она связала их своей силой по рукам и ногам. Да, Асахара сам обладает определенной силой, направленной в Зло - но дело тут именно в силе истории, которую он им предложил. Мне очень обидно за них. Мы должны были дать им хорошую историю, вот я о чем...
- В "Хрониках заводной птицы" у вас есть один интересный персонаж, Нобору - этакий "ученый муж" от масс-медии, который очень эффектно рассуждает по телевизору о политике и экономике, но сам ни во что не верит. Он всегда говорит лишь то, что стратегически выгодно на данный момент. Что вдохновило вас на его создание?
- Телевизор... (смеется). Вообще, я его почти не смотрю. Но посидите перед экраном с утра до вечера всего один день - у вас самих в голове легко возникнет подобный образ! Такой человек красноречив, но очень мелок. Внутри у него - пустота. В Японии очень много подобных персонажей, и в Штатах тоже. В Японии же таких особенно много среди националистов. При встрече с такими людьми я всегда ощущаю какую-то опасность. Мы можем над ними смеяться, но опасными они от этого быть не перестают.
- Вас пугает фашизм или что-нибудь вроде этого?
- Слово "фашизм" здесь не подходит, скорее - национализм и ревизионизм. Эти люди говорят во всеуслышанье, что не было никакой Нанкинской резни, и что проблема "комфорт- леди" высосана из пальца ("комфорт-леди" - эвфемизм для обозначения тысяч китайских и корейских женщин, угнанных во время войны в сексуальное рабство для нужд Императорской армии. - ДК). Это очень опасно. Два года назад я ездил в Маньчжурию и посетил там несколько деревень. Жители этих деревенеь говорили мне то и дело: "А вот здесь японские солдаты зверски замучили шестьдесят или семьдесят человек". Мне показывали места массовых захоронений - они и сейчас там есть. Такие факты слишком шокируют, чтобы чтобы кто-то мог так просто отрицать их, - однако эти люди отрицают. Можно двигаться сколько угодно вперед, но нельзя забывать прошлое. Мы вовсе не должны быть связаны этим прошлым по рукам и ногам, но помнить прошлое необходимо - вот в чем разница.
- Вы говорите, в вашем творчестве очень важно именно сочинительство. Местами ваши истории звучат совершенно реалистично, а иногда они же вдруг становятся очень... метафизическими.
- Я пишу мистические истории. Сам не знаю, почему я так люблю все мистическое. В жизни я реалист. И ни во что не ставлю все эти мифы Новой Эры - реинкарнации, сны, Таро, гороскопы... Просто не верю таким штукам ни на йоту. Я просыпаюсь каждое утро в 6 и ложусь каждый вечер в 10. Каждый день бегаю по утрам, плаваю в бассейне и ем "здоровую" пищу. Я ужасный реалист. Но когда я пишу - я пишу мистику. Это очень странно! Чем серьезнее то, о чем я хочу сказать, тем больше там мистики. Соберусь написать о реальности общества и мира - а выходит нечто потустороннее. Меня многие спрашивают, в чем тут дело, а я не могу объяснить. Но еще когда я брал интервью у тех 63-х человек, я обратил внимание: все они были очень прямодушные люди, обычные и вполне среднестатистические. Однако в их рассказах то и дело упоминалось что-нибудь сверхъестественное. Все это очень интересно.
- А вы сами когда-нибудь сидели, как ваш герой Тору, на дне высохшего колодца?
- Нет. Но меня всегда привлекали колодцы, и очень сильно. Стоит мне где-нибудь заметить колодец, я непременно подхожу и в него заглядываю.
- А сами как-нибудь решились бы спуститься в один из них?
- О, нет, нет...
- Слишком страшно?
- Слишком страшно... Я читал несколько историй
людей, который проваливались в колодцы. Одну из них написал Джон Карвер -
о мальчике, который провалился в колодец и провел там целые сутки.
Замечательная история...
- Но Карвер - очень реалистичный писатель...
- О да, очень. Но меня как писателя интересует человеческое подсознание. Я мало читаю Юнга, но в его вещах есть некое сходство с моими. Только для меня подсознание - terra incognita. Я не собираюсь это анализировать - а Юнг и все эти люди, психиатры, вечно анализируют природу сновидений и ищут скрытые значения в чем ни попадя... Я так не хочу. Я просто воспринимаю это как объект целиком. Может, это и есть метафизика - но, мне кажется, я умею правильно распоряжаться своей метафизикой. Хотя иногда это даже опасно - постоянно удерживать свою метафизику под контролем. Помните сцену в отеле с призраком? Мне всегда нравилась история об Орфее, о его путешествии в ад. И та сцена построена во многом на истории Орфея. Когда перед тобой Царство Мертвых - и ты входишь туда на свой страх и риск. Мне кажется, что я, писатель, знаю, как это нужно делать. Уверен, что смогу... Правда, для этого нужно время. Когда я только начал эту книгу, я писал и писал каждый день. И однажды пришла эта Темнота - и я вдруг понял, что готов войти туда. То есть, понадобилось время, чтобы достичь этой стадии. Нельзя сегодня начать что-то писать - а завтра уже войти в тот мир. Нужно изо дня в день терпеть и много работать. И - уметь концентрироваться. Последнее, пожалуй - самое важное для писательства. Я тренировался много дней подряд. И здесь нужны именно физические силы. Многие писатели это презирают! (смеется)... Они слишком много пьют и слишком много курят. Я их не критикую, просто для меня физическая сила - решающий фактор. Люди не верят, что я писатель, потому что я бегаю по утрам и плаваю каждый день. Они говорят: "Ну, какой же это писатель!.."
- А вам самим не страшно, когда вы описываете все эти ужасы?
- Нисколечко!
- Что, даже в сцене, где Зло пробирается в номер отеля, чтобы настичь Тору? Или когда с солдата снимают кожу живьем? Неужели эти сцены вас никак эмоционально не трогали?
- Ладно, сдаюсь!.. Конечно, страшно. Когда я писал это, я был там. И знал, чего ожидать от этого места, очень хорошо знал. Я умею ощущать темноту. Различаю странные запахи. Если кто-то всего этого не умеет - он не писатель. Писатель должен чувствовать это кожей. Поэтому когда с солдата снимали кожу, это было... Это был такой кошмар, что не передать. Я не хотел всего этого описывать, поверьте - но пришлось. Я чувствовал себя ужасно, когда это писал, - но для повествования эта сцена была необходима. Этого не избежать. Слишком большая ответственность.
- Выходит, именно то, что вам страшнее всего описывать, и становится мишенью, за которой вы охотитесь?
- От этого никуда не деться. Как говорят в Японии, "хочешь поймать тигренка - полезай в тигриное логово".
ON THE DARKNESS OF THE
SUBCONSCIOUS
the outsider T H E_ S A
L O N_ I N T E R V I E W_ H A R
U K I_ M U R A K A M I
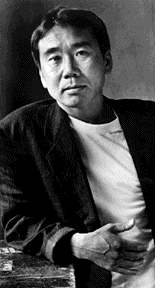 HARUKI MURAKAMI
HARUKI MURAKAMI
ON THE
DARKNESS OF
THE SUBCONSCIOUS,
THE AUM
CULT SUBWAY
GAS ATTACK AND BEING
AN
INDIVIDUALIST
IN JAPAN.
BY LAURA MILLER | The heroes in Haruki
Murakami's dazzling, addictive and rather strange novels ("A Wild Sheep
Chase," "Hard-Boiled Wonderland and the End of the World") don't
fit the stereotype of conformist, work-obsessed Japanese men at all. They're
dreamy, brainy introverts, drunk on culture (high and pop), with a tendency to
get mixed up with mysterious women and outlandish conspiracies. Toru Okada, the
narrator of Murakami's latest opus, "The Wind-Up Bird
Chronicle," spends a good portion of the novel in luxuriant
unemployment -- cooking, reading, swimming and waiting for a series of peculiar
characters to pop by and tell him their tragic stories. Since Murakami doesn't
hide his identification with his heroes, it's no surprise to learn that he has
long felt like an odd man out in his native land, even among other writers.
What's more remarkable is the novelist's recent rapprochement with Japan and
his countrymen, culminating in the year he spent interviewing victims of the
Aum cult's poison gas attack on a Tokyo subway in March 1995.
Murakami says this reassessment began during the four
years he spent at Princeton, writing "The Wind-Up Bird Chronicle."
Besides giving him an impressive command of English, Murakami's sojourn in
America had an emotional impact that he finds difficult to articulate even
today, two years after his return to Japan. With Wanderlust editor Don George,
who stepped in to translate at a key moment, I met with Murakami during his
brief West Coast book tour to promote "Wind-Up Bird Chronicle." The
novelist's slow, careful responses to our questions seemed more the result of a
rare, utterly unself-conscious sincerity (he seldom gives interviews) than any
language barrier.
How did you get the idea for "The Wind-Up Bird
Chronicle"?
When I started to write, the idea was very small, just
an image, not an idea actually. A man who is 30, cooking spaghetti in the
kitchen, and the telephone rings -- that's it. It's so simple, but I had the
feeling that something was happening there.
Are you always surprised by what happens in the story,
almost as if you were reading it yourself, or do you know where it's going
after a certain point?
I have no idea. I was enjoying myself writing, because
I don't know what's going to happen when I take a ride around that corner. You
don't know at all what you're going to find there. That can be thrilling when
you read a book, especially when you're a kid and you're reading stories. It's
very exciting when you don't know what's going to happen next. The same thing
happens to me when I'm writing. It's fun.
You deal with some topics in this book that are new to
you. You have one character describe some truly horrible experiences from World
War II. Why did you decide to explore that?
I'd been trying to write about the war, but it wasn't
easy for me. Every writer has his writing technique -- what he can and can't do
to describe something like war or history. I'm not good at writing about those
things, but I try because I feel it is necessary to write that kind of thing. I
have drawers in my mind, so many drawers. I have hundreds of materials in these
drawers. I take out the memories and images that I need. The war is a big
drawer to me, a big one. I felt that sometime I would use this, pull something
out of that drawer and write about it. I don't know why. Because it's my
father's story, I guess. My father belongs to the generation that fought the
war in the 1940s. When I was a kid my father told me stories -- not so many,
but it meant a lot to me. I wanted to know what happened then, to my father's
generation. It's a kind of inheritance, the memory of it. What I wrote in this
book, though, I made up -- it's a fiction, from beginning to end. I just made
it up.
Did you do much research for those sections?
I did do research, a little. I was at Princeton when I
was writing that book and they have a big library there. I was free to do
anything in those days, and I went to the library every day, reading books,
mostly history books. They have a good collection of books about what happened
on the Mongolian and Manchurian border. Most of those facts were new for me. I
was surprised to find that it was so absurd and cruel and bloody. I went to
Manchuria and Mongolia after I finished the book, which is strange. Most people
go to a place to research before writing the book, but I did the opposite.
Imagination is the most important asset of mine, so I didn't spoil my
imagination by going there.
N E X T+P A G
E +| Discovering Japan by escaping it
The outsider page 2 of 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
This book also feels more Japanese. Some of your other
books seem, to Western readers, as if the characters could be Western.
Really?
Yes. Perhaps because your characters are so fond of
Western culture. It doesn't feel, reading them, that the story is happening in
Japan -- but that's the impression of a Western reader. This book, however,
definitely feels more focused on Japan. Why did you decide to do that?
That's because I was living in the States! I was here
from 1991 to 1995, which was when I was writing this book. That's the reason
why I was looking at my own country and my own people. When I was writing my
other books, in Japan, I just wanted to escape. Once I got out of my country, I
was wondering: What am I? What am I as a writer? I'm writing books in Japanese,
so that means I'm a Japanese writer, so what is my identity? I was thinking
about that all the time when I was here.
I think
that's one of the reasons I wrote about the war. In a way we were lost, the
Japanese. We have been working so hard since just after the war. We were
getting rich. We reached a certain stage, but after reaching it, we asked
ourselves: Where are we going? What are we doing? It's a sense of loss. Also I
guess I am looking for some reason or cause to write. It isn't easy to explain.
It's too hard for me.
How did
Japan seem to you once you were far away?
[A long
pause] It is too big a thing.
Would
you like to try in Japanese?
[In
Japanese] Even in Japanese, it is very difficult to explain ...
[Wanderlust
Editor Don George, in Japanese:] Is it that if you are looking at your own
country from a distance, from another country, the meaning of being Japanese --
what it is to be Japanese -- becomes clearer? When you are in Japan, living in
Japan, you just don't think about such things -- but when suddenly you find
yourself in another country, you get a different perspective on what it is to
be Japanese.
Yes,
that's part of it, but ... It's really too overwhelming for me to talk about,
to articulate. Can we move to another subject?
Certainly.
Your heroes don't conform to the hard-working Japanese ethos that you observe
was so powerful after the war. What do you like about characters like Toru in
"The Wind-Up Bird Chronicles," who is unemployed and stays home a
lot?
I myself have been on my own and utterly independent
since I graduated. I haven't belonged to any company or any system. It isn't
easy to live like this in Japan. You are estimated by which company or which
system you belong to. That is very important to us. In that sense, I've been an
outsider all the time. It's been kind of hard, but I like that way of living.
These days, young people are looking for this kind of living style. They don't
trust any company. Ten years ago, Mitsubishi or other big companies were very
solid, unshakable. But not anymore. Especially right now. Young people these
days don't trust anything at all. They want to be free. This system, our
society, they won't accept such people. So these people have to be outsiders,
if they graduate from school and don't go to any company. These people are
becoming a big group in our society these days. I can understand their feelings
very well. I am 48, and they are in their 20s or 30s, but I have a Web page and
we're corresponding with each other and they're sending me so many e-mails
saying that they appreciate my books. It's very strange. We are so different,
but we can understand each other very naturally. I like that naturalness. I
feel that our society is changing.
We were talking about my heroes. Maybe my readers are
feeling some kind of empathy or sympathy with those heroes. I believe so. My
stories appeal to some sense of liberty or freedom in my readers.
Your heroes live a little bit like writers because
they work on their own. Is it hard to be a writer in Japan?
It's not that hard. I'm the exception. Even the
writers in Japan have made a society, but not me. That's one reason why I keep
escaping from Japan. That's my privilege. I can go anywhere. In Japan the
writers have made up a literary community, a circle, a society. I think 90
percent of Japan's writers live in Tokyo. Naturally, they make a community.
There are groups and customs, and so they are tied up in a way. It's
ridiculous, I guess. If you're a writer, an author, you're free to do anything,
go anywhere, and that's the most important thing to me. So, naturally, they
mostly don't like me. I don't like elitism. I am not missed when I'm gone.
Do they have a problem with what you write?
I love pop culture -- the Rolling Stones, the Doors,
David Lynch, things like that. That's why I said I don't like elitism. I like
horror films, Stephen King, Raymond Chandler, detective stories. I don't want
to write those things. What I want to do is use those structures, not the
content. I like to put my content in that structure. That's my way, my style.
So both of those kinds of writers don't like me. Entertainment writers don't
like me, and serious literature people don't like me. I'm kind of in-between,
doing a new kind of thing. That's why I couldn't find my position in Japan for
many years. But I'm feeling that things are changing drastically. I'm gaining
more territory. I have had my very loyal readers in these 15 years or so.
They're buying my books, and they're on my side. The writers and critics are
not on my side.
I'm feeling responsibility as a Japanese writer more
and more as I gain territory. That's what's happening to me right now and
that's why I came back to Japan two years ago. Last year I wrote a book about
the sarin gas attack on the subway train in Tokyo in March 1995. I interviewed
63 victims who were on the train that day. I did it because I wanted to
interview ordinary Japanese people. It was a weekday, a Monday morning -- 8:30
or something like that. They were commuting to the center of Tokyo. It was
packed, as you know, rush hour, and you can't move, you're like this [hunches
shoulders together]. But they are very hard-working people, ordinary people,
ordinary Japanese, and they were attacked with poison gas for no reason at all.
It was ridiculous. I just wanted to know what happened to them. Who are those
people? So I interviewed them one by one. It took one year, but I was impressed
to find who those people are.
So, I myself hate those company people -- salarymen,
businesspeople. But after those interviews, I had some compassion for them.
Honestly, I don't know why they are working so hard. Some of them got up at
5:30 in the morning to commute to the center of Tokyo. It takes more than two
hours by train, all of it packed like this [hunches]. You can't even read a
book. But they are doing that for 30 or 40 years. That's incredible to me. They
come home at 10 p.m. and their kids are sleeping. The only day they see their
children is Sunday. It's horrible. But they don't complain. So I asked them why
not and they said it's no use. It's what all the people are doing, so there's
no reason to complain.
Do they envy you?
No, they don't. They're used to it. They have been
doing that life for many years. They don't have any alternative. There's a
similarity between the cult people and ordinary people. When I studied those
interviews, the similarity was in my mind. When I finished, I was looking at
the difference instead. It's hard to say. In other words, I love those
people. I'm listening to their stories of their childhood. I asked, who were
you as a child? Who were you in high school? What kind of person were you when
you married? What kind of girl did you marry? There are so many stories in
their lives. Each person has his own interesting stories and that was very
exciting to me. Now when I ride on the train, and when I see people like that,
I don't know them, but I'm feeling more comfortable with them right now. I can
see that these people have their own stories. Those interviews did good to me.
I guess I'm changing.
What
was the reaction to that book?
I had many letters from readers. They were so
impressed. Some were encouraged. It was a strange reaction to a crime
nonfiction book. But they said they were encouraged. People are working so hard
and so sincerely, and they were moved by that. This isn't the same as what we
used to think -- that working so hard was a good thing. It's not that. It's a
kind of compassion.
N E X T+P A G
E +| Why cult members needed to hear
"a good story"
The outsider page 3 of 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Did you interview cult members?
I'm doing it right now. I'm feeling very sorry for
them. Those people are young, mostly in their 20s. They're very serious people,
idealistic. They were thinking so seriously about the world and value systems.
I was born in 1949 and I was in the university in the late '60s, a time of
revolution and counterculture. We used to be idealistic, our generation, but
it's gone. And the bubble economy came. Those young people are kind of the
same, idealistic, and they are not able to belong to the system. Nobody accepts
them, and that's why they went to the cult. They were saying that money doesn't
mean anything to them. They want something more precious, a more valuable
thing. A spiritual thing. It's not a bad idea. It's not wrong. But nobody can
offer them what they want, only cult people can do that. They don't have a
checking system, to decide what is right and what is wrong. We haven't given
them those judging systems. I suppose that we authors have a responsibility for
that. If I give you the right story, that story will give you a judging system,
to tell what is wrong and what is right. To me, a story means to put your feet
in someone else's shoes. There are so many kinds of shoes, and when you put
your feet in them you look at the world through other people's eyes. You learn
something about the world through good stories, serious stories. But those
people weren't given good stories. When Asahara, the Aum guru, gave them his
story, they were so tied up by the power of his story. Asahara, he's got some
kind of power that's turned to evil, but it's a powerful story he gave them. I
feel sorry about that. What I'm saying is that we should have given them the
good story.
In "The Wind-Up Bird Chronicle," Toru's
brother-in-law, Noboru, is a very interesting character, like a media pundit
who goes on TV to talk about politics and economics, but he doesn't believe in
anything. He just says whatever is strategic. What inspired him?
TV [laughs]. I don't watch it generally, but if you
watch it from morning to night, just for one day, you could make up that kind
of person. He can talk, but he's very shallow. He has nothing inside him. There
are so many of that kind of person in Japan, and many in the States. So many
nationalists in Japan are that kind of shallow person. I feel there's some kind
of danger in the presence of those people. We can laugh at them, but it's dangerous
at the same time.
Are you afraid of fascism or something like that?
Fascism is not the right word -- nationalism and
revisionism. They're saying there was no Nanking Massacre and no trouble with
comfort women [Chinese and Korean women who were forced into sexual slavery by
the Japanese Army]. They're remaking history. That's very dangerous. I went to
Manchuria a couple of years ago and visited some villages. The villagers told
me, "Japanese soldiers massacred four or five dozen people here."
They showed me the mass grave -- it's still there. It's shocking and nobody can
deny the fact, but they are doing it. We can go forward, but we have to
remember the past. We don't have to be tied by the past, but we have to
remember it -- that's different.
You say that imagination is very important in your
works. Sometimes your novels are very realistic, and then sometimes they get
very ... metaphysical.
I write weird stories. I don't know why I like
weirdness so much. Myself, I'm a very realistic person. I don't trust anything
New Age -- or reincarnation, dreams, Tarot, horoscopes. I don't trust anything
like that at all. I wake up at 6 in the morning and go to bed at 10, jogging
every day and swimming, eating healthy food. I'm very realistic. But when I
write, I write weird. That's very strange. When I'm getting more and more
serious, I'm getting more and more weird. When I want to write about the
reality of society and the world, it gets weird. Many people ask me why, and I
can't answer that. But I recognized when I was interviewing those 63 ordinary
people -- they were very straightforward, very simple, very ordinary, but their
stories were sometimes very weird. That was interesting.
Did you
ever sit in the bottom of a dry well, like your hero, Toru?
No. But I've always been attracted by wells, very
much. Every time I see one, I go over and look in.
Do you think you'll go down one some day?
No, no.
Too scared?
Too scared. I read some writings by people who dropped
down wells. One story, by Raymond Carver, was about a boy who dropped into a
well and spent a day at the bottom. It's a good story.
He's a very realistic writer.
Yes, very realistic. But the subconscious is very
important to me as a writer. I don't read much Jung, but what he writes has
some similarity with my writing. To me the subconscious is terra incognita. I
don't want to analyze it, but Jung and those people, psychiatrists, are always
analyzing dreams and the significance of everything. I don't want to do that. I
just take it as a whole. Maybe that's kind of weird, but I'm feeling like I can
do the right thing with that weirdness. Sometimes it's very dangerous to handle
that. You remember that scene in the mysterious hotel? I like the story of
Orpheus, his descending, and this is based on that. The world of death and you
enter there at your own risk. I think that I am a writer, and I can do that. I
am taking my own risk. I have confidence that I can do it.
But it takes time. When I started to write this book
and I was writing and writing every day, then when that darkness came, I was
ready to enter it. It took time before that, to reach that stage. You can't do
that by starting to write today and then tomorrow entering that kind of world.
You have to endure and labor every day. You have to have the ability to
concentrate. I think that's the most important ingredient to the writer. For
that I was training every day. Physical power is essential. Many authors don't
respect that. [Laughs] They drink too much and smoke too much. I don't
criticize them, but to me, strength is critical. People don't believe that I'm
a writer because I'm jogging and swimming every day. They say, "He's not a
writer."
Do you
scare yourself when you write these dark things?
No, not at
all.
Not even in the scene when the evil being is coming
through the hotel room door to get Toru, or when the soldier is skinned alive?
Doesn't writing those scenes upset you?
OK, yeah, I get scared. When I was writing those
scenes, I was there. I knew that place, I knew. I can feel the darkness. I can
smell the strange smells. If you cannot do that, you are not a writer. If
you're a writer you can feel that in your skin. When I was writing the scene of
the skinning, I was so ... it was so horrible, and I was scared. I didn't want
to write it, honestly, but I did it. I wasn't happy when I was doing it, but it
was so important to the story. You can't avoid that. It's your responsibility.
It sounds like when you feel scared about writing
something, you decide to pursue it.
You can't escape from that.
There is a saying in Japan: "When you want a tiger's cub, you have to
enter the tiger's den."
SALON | Dec. 16,
1997
О
книгах Мураками
Из книги Sputnik Sweetheart
Haruki Murakami J. Philip Gabriel
Chapter 1
In the spring of her twenty-second year, Sumire fell in love for the first time
in her life. An intense love, a veritable tornado sweeping across the
plains-flattening everything in its path, tossing things up in the air, ripping
them to shreds, crushing them to bits. The tornado's intensity doesn't abate
for a second as it blasts across the ocean, laying waste to Angkor Wat,
incinerating an Indian jungle, tigers and all, transforming itself into a
Persian desert sandstorm, burying an exotic fortress city under a sea of sand.
In short, a love of truly monumental proportions. The person she fell in love
with happened to be seventeen years older than Sumire. And was married.
And, I should add, was a woman. This is where it all began, and where it
all wound
up[1]. Almost.
At the time, Sumire-Violet in Japanese-was struggling to[1]
become a writer. No matter how many choices life might bring her way, it was
novelist or nothing. Her resolve[2]
was a regular Rock of Gibraltar. Nothing could come between her and her faith
in literature.
After she graduated from a public high school in Kanagawa Prefecture, she
entered the liberal arts department of a cozy little private college in Tokyo.
She found the college totally out of touch, a lukewarm, dispirited place, and
she loathed it-and found her fellow students (which would include me, I'm
afraid) hopelessly dull, second-rate specimens. Unsurprisingly, then, just
before her junior year, she just up and quit. Staying there any longer, she
concluded, was a waste of time. I think it was the right move, but if I can be
allowed a mediocre generalization, don't pointless things have a place, too, in
this far-from-perfect world?Remove everything pointless from an imperfect life,
and it'd lose even its imperfection.
Sumire was a hopeless romantic, set in her ways-a bit innocent, to put a nice
spin on it. Start her talking, and she'd go on nonstop, but if she was with
someone she didn't get along with-most people in the world, in other words-she
barely opened her mouth. She smoked too much, and you could count on her to
lose her ticket every time she rode the train. She'd get so engrossed in her
thoughts at times that she'd forget to eat, and she was as thin as one of those
war orphans in an old Italian movie-like a stick with eyes. I'd love to show
you a photo of her, but I don't have any. She detested having her photograph
taken-no desire to leave behind for posterity a Portrait of the Artist as a
Young (Wo)Man. If there were a photograph of Sumire taken at that time, I know
it would be a valuable record of how special certain people are.
I'm getting the order of events mixed up. The woman Sumire fell in love with
was named Miu. At least that's what everyone called her. I don't know her real
name, a fact that caused problems later on, but again I'm getting ahead of
myself. Miu was Korean by nationality, but until she decided to study Korean
when she was in her midtwenties, she didn't speak a word of the language. She
was born and raised in Japan and studied at a music academy in France, so she
was fluent in both French and English in addition to Japanese. She always
dressed well, in a refined way, with expensive yet modest accessories, and she
drove a twelve-cylinder navy-blue Jaguar.
The first time Sumire met Miu, she talked to her about Jack Kerouac's novels. Sumire
was absolutely nuts about Kerouac. She always had her literary Idol of the
Month, and at that point it happened to be the out-of-fashion Kerouac. She
carried a dog-eared copy of On the Road or Lonesome Traveler
stuck in her coat pocket, thumbing through it every chance she got. Whenever
she ran across lines she liked, she'd mark them in pencil and commit them to
memory like they were Holy Writ. Her favorite lines were from the fire lookout
section of Lonesome Traveler. Kerouac spent three lonely months in a
cabin on top of a high mountain, working as a fire lookout. Sumire especially
liked this part:
No man should go through life without once experiencing healthy, even bored
solitude in the wilderness, finding himself depending solely on himself and thereby
learning his true and hidden strength.
"Don't you just love it?" she said. "Every day you stand on top
of a mountain, make a three-hundred-sixty-degree sweep, checking to see if
there're any fires. And that's it. You're done for the day. The rest of the
time you can read, write, whatever you want. At night scruffy bears hang around
your cabin. That's the life! Compared with that, studying literature in college
is like chomping down on the bitter end of a cucumber."
"OK," I said, "but someday you'll have to come down off the
mountain." As usual, my practical, humdrum opinions didn't faze her.
Sumire wanted to be like a character in a Kerouac novel-wild, cool, dissolute.
She'd stand around, hands shoved deep in her coat pockets, her hair an uncombed
mess, staring vacantly at the sky through her black plastic-frame Dizzy
Gillespie glasses, which she wore despite her twenty-twenty vision. She was
invariably decked out in an oversize herringbone coat from a secondhand store
and a pair of rough work boots. If she'd been able to grow a beard, I'm sure
she would have.
Sumire wasn't exactly a beauty. Her cheeks were sunken, her mouth a little too
wide. Her nose was on the small side and upturned. She had an expressive face
and a great sense of humor, though she hardly ever laughed out loud. She was
short, and even in a good mood she talked like she was half a step away from
picking a fight. I never knew her to use lipstick or eyebrow pencil, and I have
my doubts that she even knew bras came in different sizes. Still, Sumire had
something special about her, something that drew people to her. Defining that
special something isn't easy, but when you gazed into her eyes, you could
always find it, reflected deep down inside.
I might as well just come right out and say it. I was in love with Sumire. I
was attracted to her from the first time we talked, and soon there was no
turning back. For a long time she was the only thing I could think about. I
tried to tell her how I felt, but somehow the feelings and the right words
couldn't connect. Maybe it was for the best. If I had been able to tell her my
feelings, she would have just laughed at me.
While Sumire and I were friends, I went out with two or three other girls. It's
not that I don't remember the exact number. Two, three-it depends on how you
count. Add to this the girls I slept with once or twice, and the list would be
a little longer. Anyhow, while I made love to these other girls, I thought
about Sumire. Or at least, thoughts of her grazed a corner of my mind. I
imagined I was holding her. Kind of a caddish thing to do, but I couldn't help
myself.
Let me get back to how Sumire and Miu met.
Miu had heard of Jack Kerouac and had a vague sense that he was a novelist of
some kind. What kind of novelist, though, she couldn't recall.
"Kerouac . . . Hmm . . . Wasn't he a Sputnik?"
Sumire couldn't figure out what she meant. Knife and fork poised in midair, she
gave it some thought. "Sputnik? You mean the first satellite the Soviets
sent up, in the fifties? Jack Kerouac was an American novelist. I guess they do
overlap in terms of generation. . . ."
"Isn't that what they called the writers back then?" Miu asked. She
traced a circle on the table with her fingertip, as if rummaging through some
special jar full of memories.
"Sputnik . . . ?"
"The name of a literary movement. You know-how they classify writers in
various schools of writing. Like Shiga Naoya was in the White Birch
School."
Finally it dawned on Sumire. "Beatnik!"
Miu lightly dabbed at the corner of her mouth with a napkin.
"Beatnik-Sputnik. I never can remember those kinds of terms. It's like the
Kenmun Restoration or the Treaty of Rapallo. Ancient history."
A gentle silence descended on them, suggestive of the flow of time.
"The Treaty of Rapallo?" Sumire asked.
Miu smiled. A nostalgic, intimate smile, like a treasured old possession pulled
out of the back of a drawer. Her eyes narrowed in an utterly charming way. She
reached out and, with her long, slim fingers, gently mussed Sumire's already
tousled hair. It was such a sudden yet natural gesture that Sumire could only
return the smile.
Ever since that day, Sumire's private name for Miu was Sputnik Sweetheart.
Sumire loved the sound of it. It made her think of Laika, the dog. The man-made
satellite streaking soundlessly across the blackness of outer space. The dark,
lustrous eyes of the dog gazing out the tiny window. In the infinite loneliness
of space, what could the dog possibly be looking at?
This Sputnik conversation took place at a wedding reception for Sumire's cousin
at a posh hotel in Akasaka. Sumire wasn't particularly close to her cousin; in
fact, they didn't get along at all. She'd just as soon be tortured as attend
one of these receptions, but she couldn't back out of this one. She and Miu
were seated next to each other at one of the tables. Miu didn't go into all the
details, but it seemed she'd tutored Sumire's cousin on piano-or something
along those lines-when she was taking the entrance exams for the university
music department. It wasn't a long or very close relationship, clearly, but Miu
felt obliged to attend.
In the instant Miu touched her hair, Sumire fell in love, like she was crossing
a field and bang! a bolt of lightning zapped her right in the
head. Something akin to an artistic revelation. Which is why, at that point, it
didn't matter to Sumire that the person she fell in love with happened to be a
woman.
I don't think Sumire ever had what you'd call a lover. In high school she had a
few boyfriends, guys she'd go to movies with, go swimming with. I couldn't
picture any of those relations ever getting very deep. Sumire was too focused
on becoming a novelist to really fall for anybody. If she did experience
sex--or something close to it--in high school, I'm sure it would have been less
out of sexual desire or love than literary curiosity.
"To be perfectly frank, sexual desire has me baffled," Sumire told me
once, making a sober face. This was just before she quit college, I believe;
she'd downed five banana daiquiris and was pretty drunk. "You know-how it
all comes about. What's your take on it?"
"Sexual desire's not something you understand," I said, giving my
usual middle-of-the-road opinion. "It's just there."
She scrutinized me for a while, like I was some machine run by a heretofore
unheard-of power source. Losing interest, she stared up at the ceiling, and the
conversation petered out. No use talking to him about that, she must have
decided.
Sumire was born in Chigasaki. Her home was near the seashore, and she grew up with
the dry sound of sand-filled wind blowing against her windows. Her father ran a
dental clinic in Yokohama. He was remarkably handsome, his well-formed nose
reminding you of Gregory Peck in Spellbound. Sumire didn't inherit that
handsome nose, nor, according to her, did her brother. Sumire found it amazing
that the genes that produced that nose had disappeared. If they really were
buried forever at the bottom of the gene pool, the world was a sadder place.
That's how wonderful this nose was.
Sumire's father was an almost mythic figure to the women in the Yokohama area
who needed dental care. In the examination room he always wore a surgical cap
and large mask, so the only thing the patient could see was a pair of eyes and
ears. Even so, it was obvious how attractive he was. His beautiful, manly nose
swelled suggestively under the mask, making his female patients blush. In an
instant-whether their dental plan covered the costs was beside the point-they
fell in love.
Sumire's mother passed away of a congenital heart defect when she was just
thirty-one. Sumire hadn't quite turned three. The only memory she had of her
mother was a vague one, of the scent of her skin. Just a couple of photographs
of her remained-a posed photo taken at her wedding and a snapshot taken right
after Sumire was born. Sumire used to pull out the photo album and gaze at the
pictures. Sumire's mother was-to put it mildly-a completely forgettable person.
A short, humdrum hairstyle, clothes that made you wonder what she could have
been thinking, an ill-at-ease smile. If she'd taken one step back, she would
have melted right into the wall. Sumire was determined to brand her mother's
face on her memory. Then she might someday meet her in her dreams. They'd shake
hands, have a nice chat. But things weren't that easy. Try as she might to
remember her mother's face, it soon faded. Forget about dreams-if Sumire had
passed her mother on the street, in broad daylight, she wouldn't have known
her.
Sumire's father hardly ever spoke of his late wife. He wasn't a talkative man
to begin with, and in all aspects of life-like they were some kind of mouth
infection he wanted to avoid catching-he never talked about his feelings.
Sumire had no memory of ever asking her father about her dead mother. Except for
once, when she was still very small; for some reason she asked him, "What
was my mother like?" She remembered this conversation very clearly.
Her father looked away and thought for a moment before replying. "She was
good at remembering things," he said. "And she had nice
handwriting."
A strange way of describing a person. Sumire was waiting expectantly,
snow-white first page of her notebook open, for nourishing words that could
have been a source of warmth and comfort-a pillar, an axis, to help prop up her
uncertain life here on this third planet from the sun. Her father should have
said something that his young daughter could have held on to. But Sumire's
handsome father wasn't going to speak those words, the very words she needed
most.
Sumire's father remarried when she was six, and two years later her younger
brother was born. Her new mother wasn't pretty either. On top of which she
wasn't so good at remembering things, and her handwriting wasn't any great
shakes. She was a kind and fair person, though. That was a lucky thing for
little Sumire, the brand-new stepdaughter. No, lucky isn't the right word.
After all, her father had chosen the woman. He might not have been the ideal
father, but when it came to choosing a mate, he knew what he was doing.
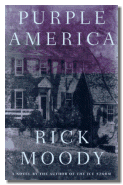 Rick Moody's
latest novel, Purple America, is the story of a stuttering son, Hex
Raitliffe, who is home to care for his mother, a long sick invalid, after she
is abandoned by his stepfather. Over the course of a single weekend Hex sees
his good intentions, his love for his mother, inhibited by her desire to die
from his love of alcohol. His mother has decided that her life is now over,
complete, and only a burden to those that she loves. She wants Hex to kill her.
The incredible sense of unease and psychological pleasure and displeasure is
monumental.
Rick Moody's
latest novel, Purple America, is the story of a stuttering son, Hex
Raitliffe, who is home to care for his mother, a long sick invalid, after she
is abandoned by his stepfather. Over the course of a single weekend Hex sees
his good intentions, his love for his mother, inhibited by her desire to die
from his love of alcohol. His mother has decided that her life is now over,
complete, and only a burden to those that she loves. She wants Hex to kill her.
The incredible sense of unease and psychological pleasure and displeasure is
monumental.
Moody's
rhapsodic, surging dialogue, the ins and outs of speech with thoughts, with
could-have-been-saids with weren't-saids, adds a third dimension to the
character's interactions. The son has a stuttering problem, adding pause to his
lines. The mother has a muscular disorder making nearly any speech impossible.
So how do they exchange so many lines of dialogue? Are these thoughts or actual
speech?
-What business is it of yours? ...Her words like a
mush, a consommй of talk. -Can't you-
-W-w-what? Hex shoves one of his chairs from the breakfast
table up next to her. -Ma? If we're g-g-going to... You'd better start by
trying to p-p-
-I don't ask
you .... about...
-Pronounce
your words...
-Dunwannapulllshhhhh,
somewhat plausibly. The words are onomatopoetic. Perhaps soundalike quality is
enough to convey sense.
This hey-what's-really-going-on-here?
dimension at once places you deeper into the story and forces you outside of
it.
Through
the thoughts and memories of Hex, his mother, stepfather, and Hex's girlfriend
from elementary school, we see a portrait of the family at its best and worst:
the love, naivetй,
and optimism of Hex's father (when he was alive) and mother years before, amid
the reality of his mother's debilitating disease and the ramifications of Hex's
alcoholism. Moody uses their voices to juxtapose the way the characters thought
their lives would turn out with how they actually did. The voices give us
detailed introspections, the mother longs to relive a moment from Hex's
childhood or the stepfather reveals that he never faced the reality of his
wife's disease, and we love the characters for knowing them so well. Their
damning present frustrates us, but we trust Moody and ultimately empathize with
the feelings and situations of his characters. The joy of the past, of a young
family, interweaves with the pain of the present one. The joy and the pain, the
past and the present, each is a part of the other.
Переводчики
ТАНЕЦ НА ХОДУ ХАРУКИ МУРАКАМИ
http://exlibris.ng.ru/person/2000-04-27/1_murakami.html
Дмитрий Коваленин: "Моя переводческая задача -
не перекрыть читателю кран"
Наталия
Бабинцева
|
|
|
Только
что в санкт-петербургском издательстве "Амфора" вышло второе издание
романа Харуки Мураками "Охота на овец" - одной из культовых книг позапрошлого
года, лучшего переводного произведения 1998 года по выбору "Ex libris НГ".
На новой обложке - прерафаэлитский козел отпущения, не похожий ни на козла, ни
на овцу. Внутри - странный текст, синкопированный и жесткий. Это другая Япония
и другая русская проза - потому что переводчик создает произведение на своем языке.
Переводчик Дмитрий Коваленин не был в России десять лет - командовал грузчиками
в японском порту Ниигата. Теперь, одновременно со вторым тиражом своей книги,
добрался до столиц. |
-Чем был обусловлен выбор автора, практически неизвестного русской
читающей публике?
- Выбирал автора абсолютно на пустом месте. Тут парадоксальная ситуация возникла: хотя я сам терпеть не могу переводы с японского, которые делают американцы - они очень многое кастрируют, - но тем не менее я перебирал именно те книги, которые американцы уже для себя выбрали как то, что будет понятно и неяпонцам тоже. Первый раз я прочитал Мураками именно в американском переводе. Я взял эту книгу в руки, открыл на какой-то случайной странице и почувствовал: "мое". Будь я чуть гениальнее, я бы сам такую книгу написал.
Так я занялся переводом Мураками, коротая вечера и ночи после работы в этой непонятной, недоброй по отношению к иностранцам стране. То есть в каком-то смысле это был аутотренинг по выживанию: создаешь свой мир у себя в компьютере, там живут, плачут и смеются люди, те же самые японцы, которые не хотят открывать душу нигде на улице, и они оживают у тебя под пальцами.
- Кто должен был его читать в России, то есть, проще говоря, для кого
переводил?
- Сперва я делал вещь в себе. Думал о том, что это прочитают мои друзья. Какой-то самиздатовский дух во мне сидел. Собственно, именно этим я и победил ситуацию, потому что большинство московских и питерских переводчиков сперва договариваются о предоплате, потом берутся что-то делать, а я пришел с готовой вещью, которую нужно было только издать. И тут включился мистический фактор. Мы делали с Вадимом Смоленским сайт "Виртуальные суси", посвященный Японии. Народ стал активно его посещать: Япония все же - модная тема, и мы вывесили на сайте кусочек из "Овец". И вот однажды я разболтался в Интернете с интересным человеком, даже имени его не знал, говорили о литературе в свое удовольствие, однажды он меня спросил про "Овец": а чего же ты не издашь такую интересную вещь. А я ему в ответ: японское издательство хочет за копирайт две тысячи долларов, российское издательство хочет шесть тысяч на покрытие риска (автор никому не известен). То есть восемь тысяч надо было выложить. На что мне мой виртуальный собеседник и говорит: ну ладно, давай издадим. Я его спрашиваю: ты вообще кто?. А он мне отвечает: я Гена, владею двумя заводиками по производству мебели. Так, гуляя по Сети, я нашел восемь тысяч долларов на издание романа.
- То есть издавали абсолютно вслепую ?
- Не совсем, конечно. Уже были очень хорошие отзывы в Сети. Было видно, что определенной части публики роман должен нравиться. Главный вопрос всех книг Мураками - когда герой хочет перестать плыть по течению и понять, кто он такой и зачем. То есть я рассчитывал на определенный круг молодежи около тридцати, которая пытается понять, что же делать в стране с сорванной культурой, под какую музыку сейчас танцевать в ситуации, когда все ценности приходится создавать на пустом месте.
- В таком случае ситуация сложилась весьма неожиданно. Нежданно-негаданно
ты опубликовал очень даже успешный роман, который быстро стал
"культовым" в определенных кругах молодежи. Ты можешь каким-то
образом объяснить механизм такого успеха?
- Я не знаю, какого ответа ты от меня ждешь. Герой Мураками - это тот, кто остается верен сам себе. Я думаю, это тот же механизм, что и у "Над пропастью во ржи" Сэлинджера. Герои и читатели Мураками - молодые люди, которые еще не ввинтились в систему пожизненных наймов и гигантских займов. Это нынешняя молодежь, которая не идет работать в фирмах, они работают в макдоналдсах и т.д., чтобы только не участвовать в этой эстафете пожизненных долгов.
- Насколько популярен Мураками в Японии?
- Самый читаемый автор.
- Но в таком случае кто же его читает, если ты утверждаешь, что эта
культура мертва?
- Его читают люди около тридцати. Старшие считают, что он продался иностранцам. Он напоминает старшим, какими они когда-то были и какими они уже не станут, а молодым он напоминает, что есть на свете еще какие-то ценности. На самом деле сейчас в Японии опять пошла волна молодежного нонконформизма, поэтому Мураками и актуален.
- Можешь ли ты каким-то образом означить свои переводческие принципы?
- Моя задача как переводчика - создать наибольшую свободу для разночтений: не пережать нигде свою линию, не перекрыть читателю кран для возможных интерпретаций. Это очень тонкая грань. Потому что не дожать тоже опасно. Иначе начнут разваливаться те тонкие связи между персонажами, которые у Мураками существуют.
- Это правда, что разные герои на разных этапах вторят друг другу, как
вариации одной и той же темы?
- Для меня в романе осталось множество загадок. Зачем он вообще вставил первую главу - это загадка. Может быть, чтобы задать тему потери. Это похоже на прелюдию к большой симфонии. Плюс там есть отсылка к предыдущему роману. Девушка из первой главы фигурировала в романе "Слушай песню ветра". Вообще у Мураками очень хорошее чувство юмора, и есть ощущение, что он постоянно задает себе вопрос: "А почему бы и нет? Можно и так написать роман". Своеобразный танец на ходу. Я вряд ли сейчас отвечу на те вопросы, которые следовало бы задавать автору. Я все-таки осознаю себя как коммутатор. Я только передаю. Стараюсь с наименьшими потерями.
Вообще у меня существует своя мистическая связь с текстами Мураками. Когда я переводил "Овец", герою было двадцать девять-тридцать, как и мне, сейчас я перевожу "Дэнс, дэнс, дэнс", третий роман трилогии: герою, как и мне, тридцать три - тридцать четыре. И те проблемы, которые Мураками выворачивает наизнанку, они и у меня в личной жизни происходят. И многие вещи я бы понял не так, будь я моложе или старше.
- Меня давно мучает вопрос, какая существует связь между человеком-овцой
и самой овцой.
- Давай я тебе не скажу.
- Почему?
- Потому что это лишит людей возможности других прочтений. В конце концов я просто не имею права как переводчик навязывать свою интерпретацию.
- Но переводчик же все равно интерпретирует.
- В таком случае моя интерпретация в том, чтобы избежать прямых интерпретаций. Я передаю точно сюжетную ситуацию. А то, что происходит на уровне связей между героями, - пусть читатель додумывает сам. Надо пропустить роман через себя, тогда эти связи восстановятся. "Дэнс" не станет такой попсовой книгой, как "Овцы". Я вообще против опопсевания Мураками. Я не хочу, чтобы эта книжечка лежала в дамской сумочке рядом с теннисной ракеткой и пастой "Аквафреш". Ее смогут прочесть лишь те, кого интересуют определенные вопросы.
Я во многом не достраиваю свою мысль до конца, потому что, если я буду ею увлекаться, я искажу перевод. Поэтому я больше настроен на создание воздушного пространства легкой неясности, в котором каждый бы мог чувствовать себя свободно. Эффект недостроенного моста. Задай линию, пусть человек сам додумывает. Это и есть японский подход.