Сканирование и форматирование: Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || yanko_slava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656 || Библиотека: http://yanko.lib.ru/gum.html ||
update 21.10.04
Гастон БАШЛЯР
ЗЕМЛЯ и грёзы о покое
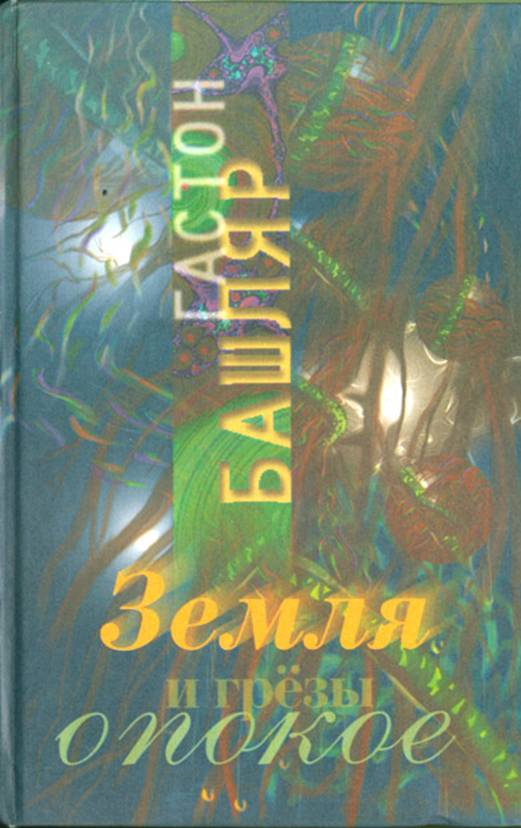

Издание осуществлено в рамках программы "Пушкин" при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посольства Франции в России.
Outrage réalisé dans le cadre du programme d'aide à la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères Français et de l'Ambassade de France en Russie.
Gaston BACHELARD
LA TERRE
et les rêveries du repos
Librairie José Corti
Перевод с французского Б.М. Скуратова
Москва
Издательство гуманитарной литературы
2001
УДК 1 ББК 87 Б 33
Серия 'Французская философия ХХ века' Руководитель серии - В.А. Никитин
Издание осуществлено при содействии
Министерства культуры Франции
(Национального центра книги)
Ouvrage réalisé avec l' aide du Ministère français de la Culture Centre national du Livre
Башляр Г.
Б 33 Земля и грезы о покое / Пер. с франц. Б.М. Скуратова. - М.: Издательство гуманитарной литературы, 2001 (Французская философия ХХ века). 320 с.
ISBN 5-87121-025-2
Книга 'Земля и грезы о покое' - заключительная часть пенталогии Башляра, посвященной поэтике стихий. Кроме того, это вторая часть дилогии о земле в рамках этой пенталогии.
Стихия земли рассматривается автором в психоаналитических аспектах жилища и хранилища сокровенных богатств. Автор анализирует отражение в литературе, в донаучных представлениях и просто в грезах таких архетипических образов, связанных с землей, как грот, корень, змея и лоза. Своеобразные психоана-литические идеи Башляра иллюстрируются примерами из произведений Шекспира, Гете, Гюго, Сартра, Малларме, Розанова и др.
Для студентов и преподавателей вузов - философов, филологов, психологов, а также широкого круга читателей, интересующихся историей мировой культуры.
ББК 87
ISBN 5-87121-025-2
© Librairie José Corti, 1948
© Б.М. Скуратов, перевод на русский язык, 2001
Глава 1. Грезы о материальной сокровенности
Глава 2. Распри в сокровенности
Глава 3. Воображение качеств. Ритмический анализ и нюансировка
Глава 4. Родной дом и дом онирический
Глава 10. Вино и лоза алхимиков
Башляр и психология. Б.М. Скуратов
Несколько соображений переводчика
Оглавление
Предисловие ........................................................................... 6
Часть первая
Глава I
Грезы о материальной сокровенности ........................... 11
Глава II
Распри в сокровенности................................................. 59
Глава III
Воображение качеств. Ритмический анализ и нюансировка................................................................... 78
Часть вторая
Глава IV
Родной дом и дом онирический.................................... 93
Глава V
Комплекс Ионы........................................................... 123
Глава VI
Грот............................................................................... 170
Глава VII
Лабиринт....................................................................... 195
Часть третья
Глава VIII
Змея.............................................................................. 241
Глава IX
Корень.......................................................................... 267
Глава X
Вино и лоза алхимиков................................................ 299
Б.М. Скуратов
Башляр и психология
Несколько соображений переводчика.............................. 309
Предисловие
Земля - это стихия, весьма подходящая для того, чтобы скрывать и являть вверенные ей предметы.
'Космополит'
I
Мы начали изучение материального вооб-ражения земной стихии в только что вы-шедшей книге 'Земля и грезы воли'. В ней мы рассматри-вали преимущественно динамические впечатления или, точ-нее говоря, динамические импульсы, пробуждающиеся в нас, когда мы формируем материальные образы земных суб-станций. По существу, представляется, что стоит нам при-коснуться к различным видам земной материи с любозна-тельностью и смелостью, как они пробудят в нас волю к их обработке. Итак, мы полагали, что можем говорить об акти-вистском воображении, и привели множество примеров воли, которая грезит и, грезя, наделяет свои действия будущим.
Если бы можно было систематизировать все импульсы, доходящие до нас из материи вещей, то на наш взгляд, удалось бы выправить слишком формальные элементы пси-хологии намерений. Мы отличали бы замыслы мастера от замыслов рабочего. Мы поняли бы, что homo faber - это не просто наладчик, но еще и формовщик, литейщик, куз-нец. Под выверенной формой он стремится обнаружить не-обходимую материю, материю, которая может действитель-но стать опорой формы. В воображении он переживает та-кую опору; он любит материальную жесткость, которая толь-ко и может придать форме длительность. И тогда человек как будто пробуждается для противодействия, для деятель-ности, предощущающей и предвидящей сопротивление ма-терии. На этом и основывается психология предлога про-
7
тив, движущегося от впечатлений непосредственно данно-го, неподвижного и холодного против в сторону против со-кровенного, защищенного множеством окопов, никогда не прекращающего сопротивление. Итак, изучая в предыду-щей книге психологию противления, мы начали рассмотре-ние образов глубины.
Но образам глубины присущ не только этот признак враждебности; для них характерны и аспекты гостеприим-ства, аспекты приглашения, а также прямо-таки динамика привлечения, привлекательности, призыва к легкому обез-движению с помощью мощных сил земных образов сопро-тивления. Стало быть, наше первое исследование вообра-жения земли, написанное под знаком предлога против, сле-дует дополнить исследованием образов, находящихся под знаком предлога внутри (dans).
И как раз изучению образов последнего типа мы посвя-щаем настоящую работу, которая, следовательно, предста-ет естественное продолжение предыдущей.
II
Впрочем, когда мы писали эти две книги, мы не стреми-лись к абсолютному разделению двух точек зрения. Ведь образы - не понятия. Они не изолируются в своих значе-ниях. Они именно стремятся преодолеть свои значения. И тогда воображение становится многофункциональным. Не успели мы различить два аспекта, как их уже надо объеди-нять. Фактически в весьма многочисленных материальных образах земли можно ощутить действие амбивалентного син-теза, диалектически объединяющего против и внутри и де-монстрирующего несомненную слитность процессов экст-равертирования и интровертирования. Начиная с первых глав нашей книги 'Земля и грезы воли', мы показывали, с какой яростью воображение стремится копаться в мате-рии. Все значительные силы человека - даже когда они развертываются вовне - воображаются в сокровенности.
А следовательно, в той же степени, в какой в предыду-щей книге мы отмечали во встреченных образах все, что относится к сокровенности материи, в настоящей работе мы
8
не преминем подчеркивать то, что относится к воображе-нию враждебности материи.
Если бы нам возразили, что интровертивность и эк-стравертивность следует характеризовать, исходя из субъек-та, мы ответили бы, что воображение и есть не что иное, как субъект, перенесенный внутрь вещей. В таких случаях образы несут на себе 'клеймо' субъекта. И клеймо это на-столько отчетливо, что, в конечном счете, именно посред-ством образов можно провести самую несомненную диаг-ностику темпераментов.
III
Впрочем, в этом кратком предисловии мы хотим попро-сту привлечь внимание к обобщенным аспектам наших те-зисов, и лишь при встрече с конкретными образами - про-яснить более частные проблемы. Итак, наскоро продемон-стрируем, что всякая воображаемая материя, всякая мате-рия, о которой размышляют, сразу же становится образом сокровенности. Сокровенность эта считается отдаленной; философы втолковывают нам, что она скрыта от нас на-всегда, что стоит приподнять над тайнами субстанции одно покрывало, как тут же натягивается другое. Но эти доводы здравого смысла не останавливают воображение. Оно тот-час же находит ценность всякой субстанции. Стало быть, материальные образы немедленно трансцендируют ощуще-ния. Образы формы и цвета вполне могут быть преобразо-ванными ощущениями. Материальные образы приводят нас к более глубокой эмоциональности, и именно поэтому они укоренены в более глубинных слоях бессознательного. Ма-териальные образы субстанциализируют некий интерес.
Эта субстанциализация сгущает многочисленные и раз-нородные образы, зачастую рождающиеся в ощущениях, столь отдаленных от явленной реальности, что кажется, буд-то внутри воображаемой материи содержится целая ощути-мая вселенная хотя бы в потенции. И тогда для того, чтобы вывести всю диалектику грез, касающихся внешнего мира, уже не будет достаточно стародавнего дуализма Космоса и Микрокосма, вселенной и человека. Тогда речь пойдет об
9
Ультракосмосе и Ультрамикрокосме. Мы грезим по ту сто-рону мира и по сю сторону наиболее четко определенных человеческих реалий.
Стоит ли тогда удивляться, что материя влечет нас в глу-бины своей малости, внутрь своей зернистости, к самой изначальности своих зародышей? Нам понятно, почему ал-химик Жерар Дорн смог написать: 'Нет никаких границ для центра, бездна его качеств и арканов беспредельна'1. Это происходит потому, что центр материи становится цент-ром интересов, входящих в царство ценностей.
Разумеется, при таком погружении в бесконечно малые области субстанции наше воображение доверяет самым что ни на есть необоснованным впечатлениям. С этой точки зрения материальные образы у людей, руководствующихся рассудком и здравым смыслом, считаются иллюзорными. Тем не менее, мы проследим перспективу этих иллюзий. Мы увидим, как совершенно наивные и реальные первооб-разы недр вещей, взаимовложения зерен, способствуют на-шим грезам о сокровенности субстанций.
И как раз грезя о такой сокровенности, грезят о покое бытия, об укорененном покое, о покое, обладающем на-пряженностью, а не просто представляющем собой чисто внешнюю неподвижность, которая царит между инертны-ми предметами. Именно поддаваясь соблазну этого сокро-венного и напряженного покоя, некоторые души определя-ют человека через покой, через субстанцию, в противопо-ложность усилиям, затраченным нами в предыдущем тру-де, чтобы определить человеческое существо через внезап-ность и динамизм.
Из-за невозможности вывести в книге о стихиях мета-физику покоя мы предприняли попытку охарактеризовать его наиболее непреложные психические тенденции. Если взять покой в его человеческих аспектах, над ним с необхо-димостью будет доминировать инволютивная психика. Уход в себя (le repliement sur soi) не может оставаться абстракт-
1 Цит. по: Jung C.G. Paracelsica, p. 92.
Арабскими цифрами в книге обозначены примечания автора, а буквами латинского алфавита - примечания переводчика.
10
ным понятием. Он наделяется повадками свертывания, тело становится объектом для самого себя и касается самого себя. Стало быть, для нас оказывается возможным привести об-разы этого свертывания.
Мы рассмотрим образы отдыха, убежища, укорененности. Несмотря на весьма многочисленные их разновидности, воп-реки очень важным различиям в их внешнем виде и фор-мах, мы признаем, что все эти образы являются если не изоморфными, то, по крайней мере, изотропными: все они советуют нам произвести одно и то же движение возвраще-ния к истокам покоя. Например, дом, чрево и пещера от-мечены одной великой чертой возвращения к матери. В этой перспективе повелевает и руководит бессознательное. Они-рические ценности становятся все более стабильными, все более регулярными. Все они устремлены в сторону абсолю-тизации ночных, подземных сил. Как пишет Ясперс, 'под-земные силы не желают, чтобы их считали относительны-ми, и если они, в конечном счете, торжествуют, то без по-сторонней помощи'2.
Именно этими ценностями абсолютного бессознательно-го мы руководствовались в поисках подземной жизни, кото-рая для стольких душ является идеалом покоя.
2 Jaspers К. La Norme du Jour et la Passion pour la Nuit. Trad. Corbin // Hermes. I, janvier 1938, p. 53.
Часть первая
Глава 1. Грезы о материальной сокровенности
Вы хотите знать, что происходит внутри вещей,
и довольствуетесь созерцанием их внешнего вида;
вы хотите вкушать сердцевину дерева,
а сами возитесь с его корой.
Франц фон БаадерA
Мне хотелось бы стать подобным пауку,
вытягивающему из живота все нити своего произведения.
Пчела мне ненавистна, а мед для меня - продукт воровства.
ПапиниB. Конченый человек
I
В 'Секретах зрелости' Ганс КароссаC пишет: 'Человек - это единственное создание на земле, у которого есть воля к закладыванию внутрь других созданий' (Trad., p. 104). Воля к заглядыванию внутрь ве-
А Баадер, Франц Ксавер фон (1765-1841) - нем. философ и теолог. Утверждал согласие веры и разума в рамках теории познания, где субъект и объект взаимно проникают друг в друга. Наряду с Шеллингом считается одним из крупнейших натурфилософов немецкого романтизма. Против-ник деизма Руссо и кантовской критики. В церковных вопросах отвергал главенство Папы, выступая за демократию в Католической Церкви, кото-рая должна управляться Вселенскими Соборами.
B Папини, Джованни (1871-1956) - итал.писатель. Основатель не-скольких журналов в эпоху футуризма. Философ-самоучка и поэт. Здесь цитируется автобиография 'Конченый человек' (1912).
C Каросса, Ганс (1878-1956) - нем. писатель. По образованию - врач. Испытал влияние Гете. Основные темы романов - страх смерти; жизнь как страдание. Роман 'Секреты зрелости' - 1936.
12
щей делает зрение проницательным, проникающим. Она пре-вращает зрение в некое насилие. Она обнаруживает слабое место, трещину или щель, через которые можно силой вы-ведать секрет скрытых вещей. По поводу этой воли к заг-лядыванию внутрь вещей, к подсматриванию того, чего не видно, чего не следует видеть, формируются странные на-пряженные грезы, грезы, из-за которых морщится межбро-вье. Речь идет уже не о пассивном любопытстве, дожидаю-щемся поразительных зрелищ, но об агрессивной, в этимо-логическом смысле надзирательской (inspectrice) любозна-тельности. Вот, например, любопытство ребенка, ломаю-щего игрушку, чтобы посмотреть, что у нее внутри. Если эта любознательность взломщика и в самом деле естествен-на для человека, то разве не удивительно (скажем это ми-моходом), что мы не сумели дать ребенку игрушку, облада-ющую глубиной, игрушку, которая действительно платила бы за глубинную любознательность? Мы набили Петрушку опилками и еще удивляемся, что ребенок в своей воле к изучению анатомии ограничивается тем, что рвет его одеж-ду. Мы помним лишь о потребности разрушать и ломать, забывая, что действующие силы психики притязают на то, чтобы отвлечься от внешнего вида и увидеть нечто иное, потустороннее, внутреннее, словом, избежать пассивности видения. Как натолкнула меня на мысль Франсуаза Дольто, целлулоидная игрушка, игрушка поверхностная и произво-дящая ложное впечатление тяжести, несомненно, лишает ребенка множества полезных для психики грез. Некоторым детям, имеющим массу интересов и жадным до реальнос-ти, психоанализ, знающий детей, справедливо рекомендует игрушки крепкие и тяжелые. Игрушка, наделенная внут-ренней структурой, дала бы нормальный выход пытливому взгляду, воле к разглядыванию, которому необходимы глу-бины предмета. Но то, чего не умеет делать воспитание, воображение совершает наудачу. Воля к разглядыванию выходит за пределы панорамы, предстающей спокойному зрению, и объединяется с изобретательным воображением, которое предвидит перспективу тайного, перспективу внут-реннего мрака материи. И как раз эта воля к заглядыванию внутрь всех вещей сопрягает материальные образы субстан-ции со столькими ценностями.
13
Ставя проблему субстанции в плане материальных обра-зов, мы были поражены тем, что столь многочисленные, столь изменчивые, а зачастую и столь смутные образы под-даются такой легкой классификации по различным типам перспективы скрытого. К тому же, эти разные типы помо-гают уточнению определенных оттенков чувства любопыт-ства. Возможно, классификация объективных образов мог-ла бы впоследствии дать темы, интересные для изучения субъективной сокровенности, для исследования психоло-гии глубин. К примеру, саму категорию экстравертов необ-ходимо разделить согласно планам глубины, на которые рас-ходуются интересы экстраверта. А тот, кто грезит о планах глубины в вещах, в конце концов, начинает определять пла-ны различной глубины в себе самом. Всякая теория образа зеркальна по отношению к психологии воображающего.
Вкратце перечислим четыре различных типа перспективы:
1. Отмененная перспектива;
2. Диалектическая перспектива;
3. Перспектива изумления;
4. Перспектива бесконечной субстанциальной напряженности.
II
1. Ради того, чтобы расклассифицировать все элементы взаимодействия образов, сначала назовем (на весьма фило-софский и догматический лад) отмененной перспективой категорический отказ, резко обрывающий всякое любопыт-ство, устремленное внутрь вещей. С точки зрения таких философов глубина в вещах есть иллюзия. Над всей все-ленной распростерто покрывало Майи, покрывало Исиды, вселенная и есть покрывало. Человеческая мысль, челове-ческая греза, как и человеческое зрение во веки веков мо-гут иметь дело лишь с поверхностными образами вещей, лишь с внешней формой предметов. Сколько бы человек ни долбил скалу, ему суждено обнаружить там лишь скаль-ную породу. Продвигаясь от скалы (rocher) к скальной по-роде (roche), он может 'забавляться' сменой грамматичес-
14
кого рода, но сколь бы необычными ни были такие инвер-сии, философа они не волнуют. Глубина для него - иллю-зия, а любопытство - бред. С каким же презрением к дет-ским грезам, к грезам, вызревания которых не в силах выз-вать воспитание, он обрекает человека на пребывание - как он любит говорить - 'в плане феноменов'! К этому запрету помыслить в какой бы то ни было форме 'вещь в себе' (о которой, между тем, продолжают мыслить) фило-соф часто добавляет афоризм: 'Всё только мнимость'. Бес-полезно заглядывать, еще бесполезнее воображать.
И как же у этого глазного скептицизма может быть столько пророков, если мир настолько прекрасен, глубин-но прекрасен, прекрасен в своих глубинах и в своих суб-станциях? Как не увидеть, что природа обладает глубин-ным измерением? И как избежать диалектики двусмыслен-ного кокетства, которое у стольких организованных существ прибегает к выставлению напоказ и сокрытию так, что сама их организация живет в ритме маскировки и бахвальства? Сокрытие - изначальная функция жизни. Это необходи-мость, связанная с экономией, с накоплением запасов. А у внутреннего имеются столь очевидные функции мрака, что для того, чтобы расклассифицировать грезы о сокровенно-сти, следует наделить первостепенной важностью 'выстав-ление на свет' и 'покров ночи'!
В данной работе нет необходимости в дальнейшем пока-зывать, что наука о материи движется вперед, вопреки зап-ретам философов. Она спокойно занимается химией глубин, исследуя в однородных субстанциях, вступающих в реак-ции, молекулы, в молекулах - атомы, в атомах - ядра. Философы не дают себе труда наблюдать эту глубинную перспективу; они считают, что спасут свой абсолютный феноменизмА, возражая нам, что все 'разумные существа' (которые, впрочем, достаточно легко вбирают в себя обра-зы) экспериментально можно познать лишь через феноме-ны человеческого масштаба. Поскольку эволюция фило-софской мысли дискредитировала понятие ноумена, фило-софы закрывают глаза на это удивительное складывание
А Неологизм Башляра.
15
ноуменальной химии, иллюстрирующей в ХХ веке великую систематику организации материи.
Это отсутствие симпатии со стороны современной фи-лософии к науке о материи, впрочем, представляет собой еще одну черту негативизма философского метода. Прини-мая один метод, философ отбрасывает остальные. Натаски-вая себя на один тип опыта, философ остается инертным к другим его типам. Так, порою весьма трезвомыслящие умы замыкаются в своем трезвомыслии и отрицают сложный свет, формирующийся в более темных зонах психики. Ста-ло быть, относительно занимающей нас проблемы мы ощу-щаем, что теория познания реального, не интересующаяся онирическими ценностями, оторвана от некоторых инте-ресов, способствующих познанию. Но этой проблемой мы займемся в другой работе.
А пока подчеркнем, что любое познание сокровенности вещей сразу же становится поэмой. Как ясно указывает Франсис Понж, - онирически работая внутри вещей, мы добираемся до корня слов, сокрытого в грезах. 'Я предла-гаю каждому открыть внутренние капканы, совершить пу-тешествие в гущу вещей, я предлагаю нашествие качеств, революцию или подрыв, сравнимый с тем, который произ-водит соха или заступ, когда внезапно и в первый раз попа-дают на свет миллионы частиц, соломинок, корней, червей и мелких зверьков, до сих пор прятавшихся в земле. О бес-конечные ресурсы толщи вещей, возвращенные на свет бес-предельными ресурсами семантической толщи слов!'
Итак, кажется будто слова вместе с вещами набирают глубину. В то же время мы продвигаемся к первоначалу вещей и к первоначалу слова. Спрятавшиеся и спасающие-ся бегством существа забывают обратиться в бегство, когда поэт называет их их настоящими именами. Сколько же грез содержится в следующих строках Рихарда Ойрингера:
И тогда я падаю подобно грузилу в сердцевину вещей, произвожу золотое сечение, вдыхаю в них имена и
заклинаю их,
пока они остаются бесправными и забывают обратиться
в бегство.
(Anthologie de la Poésie allemande. II. Stock, p. 216.)
16
Постараемся же здесь просто пережить формы грезящей любознательности, устремленной внутрь вещей. Как сказал об этом поэт:
Ouvrons ensemble le dernier bourgeon d'avenir. (Раскроем вместе последнюю почку будущего.)
(Eluard P. Gros. Poètes contemporaines, p. 44.)
III
2. Здесь мы больше не будем анализировать отвлечен-ные возражения философов, а проследуем за поэтами и гре-зовидцами внутрь некоторых предметов.
Мы избавились от внешних границ; до чего же вмести-тельно это внутреннее пространство, до чего успокоитель-на эта атмосфера глубин! Вот, например, один из советов из 'Магии' Анри МишоА: 'Я кладу яблоко на стол. А потом вкладываю себя в это яблоко. Какое спокойствие!' Игра столь стремительна, что кое-кто поддастся соблазну объя-вить ее ребяческой или попросту словесной1. Но выражать такие суждения означает отказываться от причастности к одной из наиболее нормальных и регулярных функций во-ображения, от миниатюризации. Всякий грезовидец, же-лающий жить в яблоке, будет миниатюризирован. Итак, можно высказать следующий постулат воображения: вещи, о которых грезят, никогда не сохраняют своих размеров, ни одно их измерение не бывает стабилизированно. И на-стоящие грезы об обладании, грезы, дарящие нам предмет, являются лилипутскими. Это грезы, которые дарят нам всевозможные сокровища сокровенности вещей. Здесь по-истине открывается диалектическая перспектива, некая об-ратная перспектива, которую можно выразить парадоксаль-ной формулой: недра малого предмета велики. Как сказал об этом Макс ЖакобB: 'Миниатюрное - это громадное!'
А Мишо, Анри (1899-1984) - франц. поэт. Цитируется сборник 'В стране магии' (1941).
1 Флобер продвигался медленнее, но говорил то же самое: 'Когда я долго смотрю на камень, животное или картину, я ощущаю, будто вхожу в них'.
B Жакоб, Макс (1876-1941) - франц. поэт и художник-акварелист. Представитель 'богемного' авангарда, друг Аполлинера и Пикассо. Цити-руется сборник 'Рожок игральных костей' (1917).
17
(Le Cornet a Dés. Éd. Stock, p. 25). Чтобы в этом убедиться, достаточно поселиться в нем в воображении. Один паци-ент Дезуайля, созерцая неописуемый свет драгоценного камня, сказал: 'Мой взор теряется в нем. Этот камень ог-ромен, и все же так мал: точка' (Le Rêve éveillé en Psychothérapie, p. 17).
Как только мы начинаем грезить в мире малого, все уве-личивается. Феномены из сферы бесконечно малого обре-тают космический размах. Стоит лишь почитать в работах ХоксбиА об электричестве описания свечений и шумов, тле-ющих разрядов и щелчков... Уже в 1708 году д-р Уолл с уверенностью писал, потирая алмаз: 'Мы считаем, что этот свет и это потрескивание как бы представляют гром и мол-нию.' Итак, мы видим, как развивается теория миниатюр-ного метеора, в достаточной степени демонстрирующая мощь воображаемых аналогий. О силах бесконечно малого всегда грезят, как о катаклизмах.
Эта диалектика, переворачивающая отношения между великим и малым, может обыгрываться и в плане забавно-го. Свифт в обоих своих противопоставленных друг другу путешествиях - в Лилипутию и в Бробдингнег - едва ли искал чего-то большего, чем отзвуки забавных фантазий, отмеченных сатирической тональностью. Он не преодолел идеала фокусника, у которого тоже большой кролик выс-какивает из маленькой шляпы, или, как у Лотреамона, швейная машинка вылезает из коробки с хирургическими инструментами ради эпатажа буржуа.B Но насколько боль-шей ценностью наделяются все эти литературные игры, если мы предаемся им с искренностью онирического опыта! И тогда мы посетим все предметы. Мы последуем за Феей
А Хоксби, Фрэнсис (ум. в 1713) - англ. физик. Сконструировал в 1706 г. электростатическую машину. Усовершенствовал пневматическую машину и продолжил опыты Отто Герике по передаче звука в вакууме. Доказал, что звук распространяется в воде.
B У Лотреамона: '... прекрасен... как встреча на анатомическом столе зонтика и швейной машинки' (Лотреамон. Песни Мальдорора. Стихотво-рения. М., 1988, с. 292. Пер. Н. Мавлевич). Провозглашенное сравнение стало хрестоматийным и эталонным для сюрреалистов и близких к ним направлений.
18
Хлебных Крошек в ее карете, большой, словно горошина, со всеми допотопными церемониями, - или же влезем в яблоко, бесцеремонно и с помощью одной приветливой фразы. Нам откроется сокровенная вселенная. Мы уви-дим изнанку всех вещей, глубинную безмерность малых предметов.
Парадоксальным образом грезовидец сможет войти и в самого себя. Находясь под воздействием пейотля, ми-ниатюризующего наркотика, один пациент Руйе сказал: 'Я нахожусь у себя во рту, рассматриваю свою комнату сквозь щеку'. Галлюцинации подобного рода получают от наркотиков разрешение на выражение. Но они неред-ки и в нормальных сновидениях. Бывают ночи, когда мы возвращаемся в самих себя, когда мы посещаем собствен-ные органы.
Эта онирическая жизнь подробностей сокровенного кажется нам весьма отличной от традиционной интуи-ции философов, всегда утверждающих, что они живут внутри бытия, которое созерцают изнутри. Эта интен-сивная приверженность к жизни изнутри немедленно способствует единству охваченного ею существа. Погля-дите на философа, предающегося этой интуиции: глаза у него полузакрыты, как при сосредоточенности. Вряд ли он думает о том, чтобы развлекаться или резвиться в своем новом жилище; да и его признания об объектив-ной жизни такого рода никогда не заходят по-настоя-щему далеко. Зато насколько разнообразнее ониричес-кие силы! Они забираются во все складки ореха, они знают жир его граней и весь мазохизм шипов, упираю-щихся в скорлупу изнутри! Как и все нежные существа, орех причиняет боль самому себе. Разве не от такой боли мучился Кафка из-за абсолютного вживания в собствен-ные образы: 'Я думаю о тех ночах, по прошествии кото-рых, выходя из сна, я просыпался с ощущением, будто я заперт в ореховую скорлупу' (Journal intime // Fontaine, mai 1945, p. 192). Но эта боль глубинно уязвленного (froissé), стиснутого в своей сокровенности существа зву-чит редкостной нотой. А восхищение концентрирован-ным бытием может исцелить от всех недугов. В 'Проме-
19
тее и Эпиметее' ШпиттелераА под сводом орешника бо-гиня спрашивает: 'Скажи мне, какое сокровище прячешь ты у себя под крышей; какой чудесный орех ты произвел на свет?' Разумеется, зло прячется подобно добру: колдуны часто вкладывают черта в орехи, которые они дают детям.
Аналогичный образ сокровенности находим у Шекспи-ра. Розенкранц говорит Гамлету (акт II, сцена II): 'Значит, тюрьмой ее (Данию - Б. С.) делает ваше честолюбие. Ва-шим требованиям тесно в ней'. Гамлет же отвечает: ' О Боже! Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности... Если бы только не дурные сны!'B Если мы согласимся наделить образы первореально-стью, если мы не будем ограничивать образы простыми вы-ражениями, мы внезапно ощутим, что внутренняя часть ореха обладает ценностью первозданного счастья. Мы бы жили счастливо, если бы находили там первогрезы блажен-ства, тщательно охраняемой сокровенности. Несомненно, счастье способно расширяться, у него есть потребность в экспансии. Но у него есть и потребность в концентрации, в сокровенности. Значит, когда мы его утрачиваем, когда жизнь показывает нам 'дурные сны', мы ощущаем тоску по сокровенности утраченного счастья. Первые грезы, свя-зываемые с сокровенным образом предмета, - грезы о сча-стье. Всякая объективная сокровенность, которую мы на-блюдаем в естественных грезах, - зародыш счастья.
И счастье это велико, поскольку оно сокрыто. Все, что находится внутри, запретно из-за чувства стыда. Именно этот нюанс тонко выражает Пьер Геган. Женщина стыдит-ся платяного шкафа: 'Когда Эрве ровно в два часа распах-нул шкаф, где - словно открывая тайную анатомию - гро-моздились ее блузки, юбки, все ее белье, она ринулась к шкафу, столь искренне ошарашенная, как если бы ее зас-
А Шпиттелер, Карл (1845-1924) - швейц. немецкоязычный писатель. Аристократ-пессимист, испытавший влияние Шопенгауэра. Основные сочинения представляют собой обработку античных мифов. Цитируемый здесь 'Прометей и Эпиметей' написан в 1880-1881 гг. Лауреат Нобелев-ской премии за 1919 г.
B Шекспир У. Гамлет. Пер. Б. Пастернака // 'Гамлет' в русских перево-дах. М., 1994, с. 57.
20
тали врасплох голой, и поправила полы этого деревянного плаща' (Arc-en-Ciel sur la Domnonée, p. 40).
Но как бы там ни было, слегка детское изображение внутренней части вещей всегда подразумевает должный порядок. Когда дедушка Лауры из романа Эмиля Клермона вскрывает перочинным ножиком цветочные бутоны, чтобы позабавить внучку, глазам восхищенного ребенка предста-ют внутренности приведенного в порядок шкафа.1bis Этот детский образ только и выражает, что одно из нескончае-мых блаженств для ботаников. В своих 'Лекарственных сред-ствах' ЖоффруаА пишет: 'Известно - и на это невозмож-но смотреть без удовольствия - с какой ловкостью побеги растений, снабженные листьями, цветами и плодами, рас-полагаются в почках.' (Т. I, р. 93). Надо ли подчеркивать, что удовольствие от созерцания этих внутренностей значи-тельно их увеличило. Видеть в почке лист, цветок и плод означает видеть глазами воображения"". Похоже, что вооб-ражение в таких случаях становится безумной надеждой на безграничное видение. Столь рассудочный автор, как П. Вань-ер, писал: 'Если бы достаточно умелый человек расколол ви-ноградную косточку, чтобы отделить друг от друга тонкие во-локна, он с изумлением увидел бы под нежной и изящной кожицей ветви и гроздья.' (Praedium Rusticum. Trad. Berland, 1756. T. II, p. 168). Что за грандиозная греза: читать о будущем сборе винограда по жесткой и сухой косточке! Ученый, кото-рый продолжит эту грезу, без труда согласится с тезисом о бесконечном взаимовложении зародышей.2
1bis Clermont È. Laure , p. 28.
A Жоффруа, Этьен Франсуа (1672-1731) - франц. врач и химик. Член Академии наук (1699). В своей работе 'Таблица различных отношений, наблюдаемых в химии между различными субстанциями' (1718), сформу-лировал понятие аффинности.
1ter Поэт может плохо разбираться в ботанике и написать такой пре-красный стих:
La fleur d'églantier sent ses bourgeons éclore.
(Цветок шиповника ощущает, как раскрываются его почки.)
(Мюссе. Майская ночь)
2 Пьер-Максим Шюль в статье, с которой мы познакомились лишь во время правки наших гранок, исследует эти грезы и мысли о взаимовложе-нии (Journal de Psychologie, 1947, no. 2).
21
Грезовидцу кажется, будто чем меньше существа, тем активнее их функции. Живя в малом пространстве, они живут в ускоренном времени. Когда ониризм замыкают, его динамизируют. Еще чуть-чуть, и можно будет предло-жить для онирической жизни принцип ГейзенбергаА. И тогда феи станут необычными видами онирической активности. А когда они перенесут нас на уровень мелких действий, мы окажемся в центре разумной и терпеливой воли. Потому-то лилипутские грезы столь целебны и благотворны. Они пред-ставляют собой антитезу нарушающим душевный покой грезам о побеге.
Итак, воображение мелочей стремится повсюду просколь-знуть, оно приглашает нас не просто вернуться в нашу рако-вину, а проскользнуть в любую раковину, чтобы обрести там настоящее убежище, 'свернутую' жизнь, жизнь, сосре-доточенную на себе, все ценности покоя. Именно таков совет Жан-Поля:B, 2. 'Посети рамки своей жизни, каждую дощечку в своей комнате, и свернись клубком, чтобы посе-литься в последней и самой спрятанной из спиралей в тво-ей улиточной раковине.' Вывеска обитаемых предметов может гласить: 'Всё - раковина.' А грезящее существо от-ветит эхом: 'Всё для меня - раковина. Я - мягкая мате-рия, которая желает найти себе защиту в разнообразных твердых формах и стремится внутрь каждого предмета, что-бы возрадоваться от осознания защищенности'.
Тристан ТцараC, как и Жан-Поль, слышит этот зов уменьшенного пространства: 'Кто зовет меня в дыру, оби-тую зернами материи, это я, отвечает разверстая земля, зат-
А Гейзенберг, Вернер Карл (1901-1976) - нем. физик. Сформулировал принцип, согласно которому невозможно одновременно наблюдать и из-мерять скорость и положение квантового объекта.
2 Richter J.-P. La Vie de Fixlein. Trad., p. 230.
B Рихтер, Иоганн Пауль Фридрих (Жан-Поль) (1763-1825) - нем. писатель; один из наиболее оригинальных представителей нем. романтиз-ма. По сентиментальному идеализму - последователь Ж.-Ж. Руссо; теоре-тик юмора и иронии. Здесь цитируется роман 'Квинтус Фиксляйн' (1796.)
C Тцара, Тристан (1896-1963), наст. имя Самуэль Розеншток - франц. поэт, драматург и эссеист. В 1916 г. в Цюрихе создал литературную груп-пировку дадаистов.
22
вердевшие слои нерушимого терпения, челюсть пола'. Лю-дям рассудочным и цельным свойственно обвинять такие образы в необоснованности. И всё же малой толики мини-атюризирующего воображения достаточно, чтобы понять, что между тонкими зубьями половицы, в этой микроско-пической залежи раскрывается и являет себя вся земля. Так примем же игры с масштабом и скажем вслед за Тристаном Тцара: 'Я - миллиметр'3. В том же произведении можно прочесть: 'С очень близкого расстояния я вижу увеличен-ные в детской грезе хлебные крошки и пыль на солнце между жесткими древесными волокнами' (La Pétrification du Pain, p. 67)4. Подобно мескалину, воображение изменяет разме-ры предметов5.
Если перелистать научные книги, сообщавшие, словно о подвигах, о самых первых открытиях, сделанных под мик-роскопом, можно обнаружить бесчисленные примеры раз-множения лилипутской красоты. Воистину можно сказать,
5 Tzara T. L'Antitête. Le Nain dans son Cornet, p. 44.
4 Tzara T. L'Antitête. Le Nain dans son Cornet, p. 44. Альфред ЖарриB находит абсолютную формулу лилипутских галлюцинаций в главе под на-званием 'Фостролль меньше Фостролля'. 'Однажды доктор Фостролль... захотел стать меньше самого себя и решил исследовать одну из стихий... избрав образец малости, он уменьшился до классических размеров клеща и путешествовал по капустному листу, не обращая внимания на кол-лег-клещей и увеличенные предметы до тех пор, пока не встретился с Водой'.
B Жарри, Альфред (1873-1907) - франц. писатель. Автор гротескных романов, среди которых цитируемый здесь 'Деяния и мнения доктора Фостролля' (1898). Автор знаменитого цикла пьес о короле Юбю. Созда-тель так называемой патафизики - 'науки о воображаемом решении про-блемы'.
5 В устричной раковине Франсис ПонжC видит даже 'Ангкорский храм'D (Le Parti Pris des Choses, p. 54).
C Понж, Франсис (1899-1988) - франц. поэт. Основная цель - отве-тить на 'вызов, который вещи бросают языку'. Несмотря на формальную близость к сюрреалистам, предпочитал позицию стороннего наблюдателя, избегая в творчестве личных переживаний и даже метафор. Цитируется сборник 'Приняв сторону вещей' (1942); русск. пер. 'На стороне вещей', М., 2000.
D Ангкорский храм, Ангкор Ват - храм в Камбодже (XII в.). Считается наиболее совершенным памятником кхмерского искусства. Первоначаль-но был посвящен Вишну; в XV в. стал буддийским святилищем.
23
что когда микроскоп возник, он служил калейдоскопом миниатюрного. Но чтобы оставаться верными нашей лите-ратурной документации, приведем лишь одну страницу, где образы реального выходят на уровень моральной жизни: 'Взять сложный микроскоп и заметить, что ваша капля бур-гундского - в сущности, Красное море, что пыль на кры-льях мотылька - павлинье оперение, плесень - поле цве-тов, а песок - куча драгоценностей. Эти развлечения, пред-лагаемые микроскопом, долговечнее самых дорогостоящих фонтанных механизмов... Впрочем, эти метафоры мне сле-дует объяснить через другие. Намерение, с которым я по-слал 'Жизнь Фиксляйна' в любекскую книжную лавку, в том-то и заключалось... что малые чувственные радости мы должны ценить больше больших' (La Vie de Fixlein, p. 24).
IV
После этого геометрического противоречия, в котором малое является глубинно большим, в грезах о сокровенно-сти можно заметить массу других противоречий. Кажется, будто в грезах определенного типа внутреннее автомати-чески становится противоположностью внешнего. Еще бы! У этого темного каштана такая белая мякоть! Под этим гру-бошерстным платьем сокрыта такая слоновая кость! Какая радость с такой легкостью находить субстанции, друг другу противоречащие, сочетающиеся для того, чтобы противо-речить друг другу! Так, МилошА в поисках герба своих грез находит
Un nid d'hermine pour le corbeau de blason. (Гнездо горностая для геральдического ворона.)
Мы ощущаем эти антитетические грезы в действии в следующей 'расхожей истине' Средневековья: сияющий
А Милош, Оскар Владислас де Любич-Милош (1877-1939) - франц. писатель литовского происхождения; один из любимых авторов Г. Башля-ра. Автор двух книг, толкующих Апокалипсис.
24
белизной лебедь внутри абсолютно черен. ЛанглуаB, 6 гово-рит нам, что эта 'истина' продержалась целое тысячелетие. При малейшем рассмотрении можно было бы убедиться, что внутренности лебедя по цвету не слишком отличаются от внутренностей ворона. Если же - вопреки фактам - столь часто повторялось утверждение об интенсивной чер-ноте лебедя, то причина здесь в том, что оно соответствует одному из законов диалектического воображения. Образы, представляющие собой изначальные психические силы, сильнее идей, сильнее реального опыта.
Например, в 'Церковном пении', следуя такому диалек-тическому воображению, Жан КоктоC пишет:
L'encre dont je me sers est le sang bleu d'un cygne. (Чернила, которыми я пользуюсь, - это голубая кровь лебедя.)
Иногда поэт настолько доверяет диалектическому вооб-ражению читателя, что приводит лишь первую часть обра-за. Так, Тристан Тцара, едва успев описать 'лебедя, поло-щущего свою белизну водой', только и добавляет, что 'внеш-нее бело' (L'Homme approximatif, 6). Прочесть эту корот-кую фразу в ее простой позитивности, узнать, что лебедь бел, - вот чтение без грез. Напротив, негативистское про-чтение, прочтение, достаточно свободное для пользования всевозможными поэтическими свободами, возвращает нас в глубины. Если 'внешнее бело', то это потому, что суще-ство расположило снаружи все белое, что в нем есть. Нега-тивность же пробуждает мрак.
B Ланглуа, Шарль Виктор (1863-1929) - франц. историк. Профессор палеографии и истории Средних Веков в Сорбонне. Один из основопо-ложников позитивистского метода в истории. Вместе с Шарлем Сеньобосом написал в 1897 г. 'Введение в изучение истории', по которому учились сторонники 'новых методов' в медиевистике, в том числе и в России (O.A. Добиаш-Рождественская).
6 Langlois Ch. V. L'Image du Monde. III, p. 179.
C Кокто, Жан (1889-1963) - франц. писатель и кинематографист, а также книжный иллюстратор, создатель балетных костюмов и декоратор часовен. Здесь цитируется его ранний поэтический сборник 'Церковное пение' (1923), отдельные стихотворения из которого представлены в русск. переводе в сборнике 'Петух и Арлекин', СПб., 2000.
25
Алхимия тоже зачастую доверяет этой упрощенной диа-лектической перспективе внутреннего и внешнего. Часто она задается целью 'перелицовывать' субстанции подобно тому, как выворачивают перчатки. Если ты умеешь распо-лагать снаружи то, что внутри, и внутри то, что снаружи, - говорит один алхимик, - ты хозяин своей работы.
Алхимики также часто советуют промывать внутренние части субстанции. Эта глубинная промывка порою требует 'вод', весьма отличающихся от обыкновенной. В ней нет ничего общего с поверхностным мытьем. Разумеется, глу-бинная чистота субстанции достигается и не путем ее про-стого измельчения под струей воды. С этой точки зрения пульверизация очищению не помогает. Только универсаль-ный растворитель может вызвать это субстанциальное очи-щение. Порою темы выворачивания субстанций и внутрен-него очищения объединяются. Субстанции выворачивают ради того, чтобы их очистить.
Итак, темы, характеризующие внутреннюю часть субстан-ций как противоположность внешней, изобилуют и усилива-ют друг друга. Такая диалектика придает ученый тон старин-ной поговорке: снаружи горькое, а внутри сладкое. Скорлупа горька, но орех хорош. ФлорианА написал басню на эту тему.
Не следует полагать, будто подобные инверсии внешних и внутренних качеств свойственны грезам, отжившим свой век. Поэтов, как и алхимиков, влекут глубинные инверсии, и когда такие 'перелицовки' производятся со вкусом, в результате получаются восхищающие нас литературные об-разы. Так, Франсис ЖаммB, глядя на море, терзаемое кам-нями пиренейских горных потоков, полагает, что видит 'изнанку воды'. 'Как же не назвать эту белизну изнанкой воды, воды, которая в спокойном состоянии бывает сине-зеленой, словно липа перед тем, как ее начинает сотрясать ветер?' (Nouvelle Revue Française, avril 1938, p. 640). Эта вода, вывернутая собственной субстанцией кверху, - удобный
А Флориан, Жан Пьер Клари де (1755-1794) - франц. писатель. Писал знаменитые пасторали, а также песни, исторические романы в духе XVII в., арлекинады для Итальянского театра. Сборник басен издан в 1792 г.
B Жамм, Франсис (1868-1938) - франц. поэт. Автор многочисленных 'деревенских' стихов; наивный певец 'католического возрождения'.
26
пример показать суровое удовольствие грезовидца, любя-щего воду материальной любовью. Он страдает, когда видит платье, разрываемое под бахромой пены, но без конца гре-зит о доселе невиданной материи. Ему диалектически от-крывается субстанция отражений. И тогда кажется, будто в воде есть 'чистая вода' в том смысле, в каком говорят об изумруде чистой воды. Глядя на горный поток, ТэнА в 'Путешествии в Пиренеи' также грезит о сокровенной глу-бине. Он видит, как 'исчерпывается' река; он видит 'ее мертвенно-бледное чрево'. Этот историк на каникулах, между тем, не замечает в ней образа встряхиваемой липы. Такая диалектическая перспектива внутреннего и внеш-него порою сопряжена с обратимой диалектикой снятой и вновь надетой маски. Строки из Малларме
Un chandelier, laissant sous son argent austère Rire le cuivre...
(Подсвечник, повергающий под своим суровым серебром Медь в смех...)
я прочитываю двумя способами в зависимости от часа моих грез: вначале - ироническим тоном, слыша, как медь сме-ется над россказнями серебрения, а затем - более смяг-ченным тоном, не издеваясь над канделябром, с которого сошло серебряное покрытие, а тщательнее анализируя ритм пошловатой суровости и здоровой радости двух объединен-ных металлических сил7.
А Тэн, Ипполит Адольф (1828-1893) - франц. философ и историк. Автор знаменитой позитивистской 'Философии искусства' (1882). Образ-цом для наук о духе, по мнению Тэна, должен служить биологический метод Линнея и Дарвина. Здесь цитируется работа, написанная в 1855 г.
7 Аналогичным образом можно отыскать два способа пить вино, если про-честь строки Андре ФреноB диалектически, оживляя каждый из двух цветов.
Le rouge des gros vin bleus.
(Краснота ярко-синих вин.) (Soleil irréductible, 14 juillet.)
Так где же здесь субстанция - в характеризующей вино красноте или же в его темных глубинах?
B Френо, Андре (1907-1993) - франц. поэт. Для его творчества харак-терен апофеоз молчания, отказа, 'ничто'.
27
В направлении тех же диалектических впечатлений мы займемся подробным анализом одного образа из Одибер-тиА, образа, живущего противоречием между субстанцией и ее атрибутом. В одном сонете Одиберти говорит о 'тайной черноте молока'. И что странно, так это то, что эти звуч-ные слова - не просто вербальная радость. Для любящего воображение материи это радость глубинная. По существу, достаточно немного погрезить об этой тестообразной бе-лизне, об этой густой белизне, чтобы ощутить, что матери-альному воображению под белизной необходимо темное тестообразное вещество. Иначе у молока не было бы этой матовой, действительно густой и уверенной в собственной густоте белизны. У этой питательной жидкости не было бы всевозможных земных ценностей. И как раз желание уви-деть под белизной изнанку белизны заставляет воображе-ние 'грунтовать' некоторые синие отсветы, пробегающие по поверхности жидкости, и находить путь к 'тайной чер-ноте молока'7".
Странную образную систему Пьера Гегана можно раз-местить как бы на острие множества метафор, касающихся тайной черноты белых предметов. Говоря о воде, сплошь замутненной от пены и совершенно белой от глубинных движений, о воде, которая, подобно белым коням РосмерсхольмаB, влечет меланхолика к смерти, Пьер Геган пишет: 'У этого свернувшегося молока был вкус чернил' (La Bretagne, p. 67). Как лучше выразить глубинную черно-ту, сокровенную греховность лицемерно доброй (douce) и белой субстанции! Какая прекрасная фатальность че-ловеческого воображения привела современного писателя к обретению понятия суровых вяжущих свойств, столь час-то встречающихся в сочинениях Якоба Бёме? У млечной в лунном свете воды - сокровенная чернота смерти, у баль-замической воды - привкус чернил, терпкость напитка для
А Одиберти, Жак (1899-1965) - франц. писатель; поэт и драматург. Отличается необузданным 'барочным' экспериментаторством в области языка. В отличие от творчества Ионеско и Беккета, алхимия слова у Оди-берти не утверждает абсурд, а способствует лучшему познанию человека.
7в См. Sartre J.-P. L'Être et le Néant, p. 691.
B Пьеса Г. Ибсена (1886).
28
самоубийства. Так бретонская вода Гегана становится по-добной 'черному молоку' Горгон, которое в 'Корабле' Эле-мира БуржаА названо 'железным семенем'.
Стоит лишь найти проявитель, как страницы, написан-ные полутонами, обнаружат необыкновенную глубину. С проявителем тайной черноты молока прочтем, к примеру, страницу, на которой Рильке рассказывает о своем ночном путешествии с девушками на холмы, чтобы пить молоко косуль: 'Блондинка несет каменную миску, которую ста-вит перед нами на стол. Молоко было черным. Каждый изумился этому, но никто не посмел высказаться о своем открытии; каждый подумал: ну что ж! Теперь ночь, и я ни-когда не доил косуль в такой час, а, значит, их молоко на-чало темнеть в сумерки, так что в два часа ночи сделалось подобным чернилам... Все мы отведали черного молока этой ночной косули...' (Fragments d'un Journal intime // Lettres. Éd. Stock, p. 14). С какой тонкостью штрихов подготовлен этот материальный образ ночного молока!
Впрочем, кажется, будто некая сокровенная ночь, хра-нящая наши личные тайны, вступает в общение с ночью вещей. Выражение этого соответствия мы найдем на стра-ницах Жоэ БускеB, которые будем анализировать в даль-нейшем: 'Ночь минералов, - говорит Жоэ Буске, - в каж-дом из нас то же самое, что межзвездная чернота в небес-ной лазури'.
Тайная чернота молока привлекает внимание и Бриса Парена8. Между тем, он усматривает в ней обыкновенный каприз фантазии. 'Я совершенно волен, - пишет он, - вопреки всякому правдоподобию говорить о "тайной чер-
А Бурж, Элемир (1852-1925) - франц. писатель. Испытал влияние Малларме и Вагнера. Автор исторических романов. В метафизической драме 'Корабль' (1904-1922) Прометей стремится спасти человечество, но, не найдя с ним общего языка, садится на корабль 'Арго' ради поисков более совершенного мира.
B Буске, Жоэ (1897-1950) - франц. поэт, тяжело раненный в битве при Вайи в 1918 г. и оставшийся на всю жизнь прикованным к постели. Его стихи отмечены печатью инициации, в которой мистика смешана с грезами. Осн. сборники: 'Перевод с языка молчания' (1939), 'Письма к золотой рыбке' (1967).
8 Parain В. Recherches sur la Nature et les Fonctions du Langage, p. 71.
29
ноте молока", и притом лгать, зная, что я лгу; похоже, что язык подготовлен ко всем моим капризам, поскольку это я веду его куда хочу'. Такая интерпретация несправедлива по отношению к поэтическому воображению. Кажется, будто в ней поэт становится всего лишь иллюзионистом, застав-ляющим ощущения лгать и накапливающим капризы и про-тиворечия в самой сердцевине образов. Между тем, един-ственного прилагательного, делающего черноту молока таинственной, самого по себе достаточно для обозначения глубинной перспективы. Всевозможные недомолвки вовсе не лгут, и необходимо уяснить, что материальные грезы, сами себе противореча, предоставляют нам две истины. Если бы речь шла о полемике между 'я' и 'ты', здесь можно было бы усмотреть потребность противоречить: достаточно ему сказать 'белое', чтобы он сказал 'черное'. Но греза не спорит, поэма не полемизирует. Когда поэт говорит о тай-не молока, он не лжет ни себе, ни другим. Напротив, он находит из ряда вон выходящую тотальность. Как выразил-ся Жан Поль Сартр9, если вы хотите в один прекрасный день обнаружить сердце вещей, его надо выдумать. Одибер-ти дает нам новую информацию о молоке, когда говорит о его 'тайной черноте'. Но для Жюля РенараА молоко являет-ся безнадежно белым, ибо оно 'лишь то, чем оно кажется'. И вот здесь-то и можно уловить различие между разны-ми видами диалектики рассудка, который сополагает про-тиворечия, чтобы покрыть все поле возможного, и разны-ми видами диалектики воображения, стремящегося схва-тить все реальное и находящего больше реальности в скры-вающемся, нежели в выставляющем себя напоказ. В диа-лектике соположения движение обратно по отношению к диалектике наложения. В первой синтез происходит ради примирения двух противоположных видимостей. Здесь син-тез - это последний шаг. Наоборот, при тотальной вообра-жаемой апперцепции (форма и материя) синтез происхо-дит вначале: образ, принимающий всю материю, делится в диалектике глубинного и поверхностного. Поэт, который
9 Sartre J.-P. L'Homme ligoté // Messages. II, 1944.
A Ренар, Жюль (1864-1910) - франц. писатель.
30
мгновенно вступает в контакт с глубинным материальным образом, хорошо знает, что для опоры столь тонкой белиз-не необходима непрозрачная субстанция. Брис Парен спра-ведливо сопоставляет с образом из Одиберти следующий текст АнаксагораА: 'Снег, состоящий из воды, черен вопре-ки тому, что мы видим'. Какая заслуга, в сущности, делает снег белым, если его материя всего лишь не черна? А если материя, явившись из своего темного бытия, не выкрис-таллизовалась в своей белизне? Воля быть белым - не дар 'взятого в готовом виде' цвета, который нужно лишь со-хранить. Материальное воображение, всегда обладающее демиургическим настроем, стремится творить любую белую материю, отправляясь от материи темной; оно хочет побе-дить всякую историю черноты. Отсюда масса выражений, которые кажутся трезвой мысли необоснованными или фальшивыми. Однако грезы о материальной сокровеннос-ти не подчиняются законам означающей мысли. Представ-ляется, что столь интересный тезис Бриса Парена о языке можно как бы продублировать, наделив являющий логос известной толщей, в которой могут обитать мифы и обра-зы. На свой лад образы также нечто показывают. И наи-лучшее доказательство объективности их диалектики - в том, что мы только что видели, как 'неправдоподобный образ' навязывает себя поэтическим убеждениям самых раз-личных писателей. Поэты же просто-напросто обнаружили гегелевский закон 'перевернутого мира', который выража-ется так: то, что по закону первого мира 'является белым, становится черным по закону перевернутого мира, так что черное в первом диалектическом движении является "бе-лым-в-себе"' {Hegel. La Phénoménologie de l'Esprit. Trad. Hippolyte. T. I, pp. 132, 134). Впрочем, заканчивая тему, вернемся к поэтам.
А Анаксагор (500-428) - греч. философ. Открыл собственную фило-софскую школу в Афинах. Автор трактата 'О природе', от которого сохра-нились фрагменты. Считал, что 'материя' состоит из бесконечного коли-чества бесконечно делимых элементов, так называемых гомеомерий, 'за-родышей вещей'. Выше материи ставил разум (нус), который представлял себе как более легкую и тонкую материю. Считается одним из первых механистических материалистов.
31
Всякий цвет, о котором медитирует поэт субстанций, полагает черноту как субстанциальную твердость, как суб-станциальное отрицание всего, что досягает света. Можно бесконечно грезить вглубь над странным стихотворением ГильвикаА:
Au fond du bleu il y a le jaune,
Et au fond du jaune il y a le noir,
Du noir qui se lève
Et qui regarde
Qu'on ne pourra pas abattre comme un homme
Avec ses poings.
(В глубине синего есть желтое,
А в глубине желтого - черное,
Черное, которое встает
И смотрит,
И которое мы не сможем свалить как человека
Своими кулаками.)
(Cahiers du Sud. Exécutoire, no. 280.)
Черный цвет, - говорит к тому же Мишель ЛейрисВ (Aurora, р. 45), - 'далек от того, чтобы быть цветом пусто-ты и небытия; это, скорее, активный цвет, откуда брызжет глубинная, а следовательно, темная субстанция всех вещей. Если же ворон черен, то это, по Мишелю Лейрису, следствие его 'кадаверических трапез', он черен 'подобно свернувшей-ся крови или обугленной древесине'. Чернота подпитывает всякий глубокий цвет, она представляет собой сокровенную залежь цвета. Так грезят о ней упрямые сновидцы.
А Гильвик, Эжен (1907-1997) - франц. поэт. Для него характерна ми-нималистская поэзия, описывающая предметы материального мира. Г. Баш-ляр упоминает сборники 'Исполнительный лист' (1977) и 'Из земли и воды' (1942).
В Лейрис, Мишель (1901-1990) - франц. писатель и этнолог. Начинал как сюрреалист и сподвижник А. Бретона, затем был близок к Ж. Батаю. Как этнолог описывал африканские общества, Китай и Кубу. Здесь цити-руется его прозаическое произведение 'Аврора'.
32
Великие грезовидцы черноты желают даже - подобно Андрею Белому - обнаружить (Le Tentateur // Anthologie Rais) 'черное в черноте', этот пронзительный цвет, дей-ствующий под притупившейся чернотой, эту черноту суб-станции, рождающую ее цвет бездны. Так современный поэт обретает стародавние грезы черноты алхимиков, искавших черное чернее черного: 'Nigrum nigrius nigro'.
Д. Г. Лоуренс находит глубину некоторых из своих впе-чатлений в аналогичных объективных инверсиях, перевора-чивая все ощущения. У солнца 'только и блещет, что его пыльная одежда. Значит, настоящие лучи, доходящие до нас, странствуя во тьме, - это движущийся мрак перво-зданного солнца. Солнце темное, и лучи его тоже темны. А свет - лишь его изнанка; желтые лучи не более чем изнан-ка того, что посылает к нам солнце...' (L'Homme et la Poupée. Trad., p. 169).
Благодаря этому примеру тезис становится грандиозным: 'Мы, стало быть, живем с изнанки мира - продолжает Лоуренс. - Настоящий мир огня - темный и трепещущий, чернее крови; мир же света, где мы живем, - его обратная сторона...
Слушайте дальше. Так же обстоят дела и с любовью. Та бледная любовь, которая нам знакома, - тоже изнанка, белое надгробие настоящей любви. Настоящая любовь дика и печальна; это трепет двоих во мраке...' Углубление обра-за способствовало вовлечению в него глубин нашей сути. Такова новая потенция метафор, работающих в том же на-правлении, что и изначальные грезы.
V
3. Третья перспектива сокровенности, которую мы со-брались изучать, - та, что открывает нам чудесный инте-рьер, изваянный и окрашенный с большей щедростью, не-жели самые прекрасные цветы. Стоит лишь убрать пустую породу и приоткрыть жеоду, как перед нами распахнется кристаллический мир; если рассечь хорошо отполирован-ный кристалл, мы увидим цветы, плетеные узоры, фигуры. И уже не прекратим грезить. Эта внутренняя скульптура,
33
эти глубинные трехмерные рисунки, эти изображения и портреты подобны спящим красавицам. Такой глубинный панкализмА вызвал самые разнообразные толкования, со-ответствующие способам грезить. Исследуем некоторые из них.
Пронаблюдаем за зрителем, пришедшим из внешнего мира, где он видел цветы, деревья, свет. Он входит в тем-ный и замкнутый мир и находит цветоподобия, древоподо-бия, светоподобия. Все эти смутные формы приглашают его грезить. В этих смутных формах, требующих завершен-ности, выделенности, скрывается примета грез. В нашей книге 'Вода и грезы' мы выделяли эстетические настрое-ния, получаемые грезовидцем от отражения пейзажа в ти-хой воде. Нам казалось, что эта природная акварель непре-рывно воодушевляет грезовидца, который также желает вос-производить цвета и формы. Пейзаж, отраженный в воде озера, обусловливает грезу, предшествующую творчеству. Больше души вкладывают в подражание той реальности, о которой сначала грезили. Один старый автор, написавший в XVII в. книгу по алхимии, у которой было больше читате-лей, чем у ученых книг той эпохи, поможет нам поддержать наш тезис об эстетических импульсах ониризма: 'И если бы эти дары и науки не были (вначале) в недрах Природы, само по себе искусство никогда бы не сумело выдумать эти формы и фигуры и не смогло бы изобразить ни дерево, ни цветок, если бы Природа вообще не сотворила их. И мы восхищаемся и впадаем в экстаз, когда видим на мраморе и яшме людей, ангелов, зверей, здания, виноградные лозы, луга, усеянные всеми видами цветов'10.
Эта скульптура, обнаруживаемая в глубинах камня и руды, эта сокровенная природная живопись, эти естественные статуи изображают внешние пейзажи и внешних персона-жей 'за пределами их привычной материи'. Такие сокро-венные произведения искусства восхищают грезящего о сокровенности субстанций. По мнению Фабра, гений, обра-
А Панкализм - наделение Природы, или макрокосма, принципом кра-соты. Термин широко использовался Башляром во всех его трудах. 10 Fabre P.-J. Abrégé des Secrets chymiques. Paris, 1636.
34
зующий кристаллы, - самый умелый из чеканщиков, са-мый дотошный из миниатюристов: 'Итак, мы видим, что эти естественные картины в мраморе и яшме более изыс-канны и намного более совершенны, нежели те, что пред-лагает нам искусство, ибо искусственные цвета никогда не бывают ни столь совершенными, ни столь живыми, ни столь яркими, как те, что применяет Природа в этих естествен-ных картинах'.
Для нас, рациональных умов, рисунок является челове-ческой приметой par excellence: стоит нам посмотреть на профиль бизона, нарисованного на стене пещеры и мы тот-час же узнаем, что здесь прошел человек. Но если грезови-дец считает, что природа - художница, что она пишет кар-тины и рисует, то не может ли она высекать статуи в камне с таким же успехом, как и лепить их во плоти? Грезы о сокровенных силах материи доходят у Фабра до следующе-го (р. 305): 'В гротах и земляных пещерах в провинции Лангедок близ Сорежа, в пещере, называемой на вульгар-ном языке Транк дель Калей, я видел самые совершенные приметы скульптуры и живописи из всех, какие можно по-желать; самые любопытные могут взглянуть на них, они увидят их в пещерах и на скалах, тысячью разновидностей фигур восхищающих взоры смотрящих. Никогда скульптор не входил туда, чтобы высечь или вычеканить образ... И это должно внушить нам веру в то, что Природа одарена спо-собностями и чудесными знаниями, пожалованными ей Творцом, чтобы она умела работать по-разному, что она и делает с разнообразнейшими материями.' И пусть не гово-рят, - продолжает Фабр, - что это делают подземные де-моны. Прошла пора, когда верили в гномов-кузнецов. Нет! Следует уступить очевидности и приписать эстетическую деятельность самим субстанциям, сокровенным потенциям материи: 'Это тонкие небесные, огненные и воздушные субстанции, которые живут в общем мировом духе и обла-дают способностью и властью располагать им, создавая все-возможные фигуры и формы, каковые может пожелать ма-терия, - (иногда) за пределами того рода и вида, где фигу-ра обыкновенно обретается, например, фигура вола или ка-кого-либо иного животного, которое можно представить себе
35
в мраморе, камне или дереве: эти фигуры зависят от есте-ственных свойств Архитектонических духов, существующих в Природе' (р. 305).
И Фабр приводит пример с корнем папоротника, ко-торый мы весьма часто встречали, читая книги по алхимии. Если из него вырезать 'козью ножку', он воспроизведет фигуру римского Орла. И тогда самая безумная из грез объе-динит папоротник, орла и Римскую империю: соответствие между папоротником и орлом остается таинственным, но их взаимоотношения от этого делаются лишь более глубин-ными: 'должно быть, папоротник служит орлам, обладая не-ким великим секретом их здоровья' (р.ЗО7). Что же касается Римской империи, тут все ясно: 'Папоротник растет во всех уголках мира... войска Римской империи считают естествен-ным собственное присутствие на всей земле.' Грезы, создаю-щие геральдические знаки, находят их в малейших намеках.
Если мы собираем столь бредовые тексты и такие чрез-мерные образы, то это потому, что их смягченные и скрыто действующие формы мы обнаружили у авторов, по всей вероятности, не испытавших влияния повествований алхи-миков и не читавших старинных колдовских книг. После того, как мы прочли страницу о корне папоротника у авто-ра XVII века, неудивительно встретить искушение подоб-ным образом и у столь осторожного писателя, как Каросса. В 'Докторе Гионе'А читаем как Цинтия, юная скульптор-ша, режет помидор: 'Такой плод много понимает в блес-ке', - заявила она и, показывая надрез белой сердцевины, которую окружал красноватый кристалл мякоти, попыта-лась продемонстрировать, что эта сердцевина напоминала ангелочка из слоновой кости, коленопреклоненного и с кры-льями, заостренными, словно у ласточек' (Trad. p. 23).
Почти то же читаем и в 'Инферно' Стриндберга: 'Когда посаженный мною орех через четыре дня пророс, я отделил зародыш в форме сердечка не больше грушевого зерныш-ка, вставленного между двумя семядолями и напоминав-шего видом человеческий мозг. Пусть же судят о моем вол-нении, когда на столике микроскопа я заметил две малень-
А Роман, написанный в 1931 г.
36
кие ручки, белые, словно алебастр, поднятые и сложенные как во время молитвы. Видение? Галлюцинация? Да нет же! Ошарашивающая реальность, внушившая мне ужас. Не-движные и протянутые ко мне, как при мольбе; я насчитал пять пальчиков, и большой был короче других, настоящие руки женщины или ребенка!' (р. 65). И этот текст, как и многие другие, на наш взгляд, характеризует мощь грез о бесконечно малом у Стриндберга, красноречивые смыслы, которыми он наделяет незначительное, - и то, что его не-отступно преследовали тайны, заключенные в мелких дета-лях. Вообще говоря, надрезать плод, зернышко или мин-дальный орех означает готовиться к грезам о вселенной. Любой зародыш существа есть зародыш грез.
Величайшие из поэтов, слегка растушевывая образы, ведут нас в глубины видений. В 'Воспоминаниях о Райнере Мария Рильке' княгини Турн-и-ТаксисА содержится пере-сказ сна Рильке, в котором взаимодействует диалектика сокровенности и поверхностности, диалектика, возникаю-щая на пересечении отвращения и очарованности. Поэт в своем ночном сновидении 'держит в руке комок земли чер-ной, влажной и отвратительной, и, по существу, ощущает по отношению к нему глубокое отвращение, омерзение и неприязнь, но он знает, что ему надо работать с этой гря-зью, и он с большой неохотой обрабатывает ее, словно гон-чарную глину; он берет нож, и ему предстоит снять тонкий слой с этого комка земли, и, надрезая его, он говорит себе, что внутренняя часть комка будет еще более ужасной, чем внешняя, и, чуть ли не колеблясь, он разглядывает внут-реннюю часть, которую только что обнажил, - а это поверх-ность бабочки с распростертыми крыльями, восхитительная по рисунку и цвету, чудесная поверхность живых драгоцен-ных камней' (Betz, p. 183). Рассказ немного шероховат, но его онирические смыслы на месте. Всякий адепт медленного чтения, плавно переставляя смыслы, обнаружит могущество этого светоносного ископаемого, окутанного 'черноземом'.
А Турн-и-Таксис-Гогенлоэ Мария фон - владелица замка Дуино, в ко-тором P.M. Рильке написал свои Дуинские элегии; представительница про-славленного в истории княжеского рода.
37
VI
4. Наряду с такими грезами о сокровенности, которые размножают и увеличивают разнообразные детали структу-ры, существует и иной тип грез о материальной сокровен-ности - последний из четырех упомянутых нами типов - и он осмысляет сокровенность не столько по чудесно рас-цвеченным фигурам, сколько по субстанциальной напря-женности. И тогда начинаются бесконечные грезы о бес-предельном богатстве. Обнаруживаемая сокровенность пред-стает не столько в виде ларца с бесчисленными сокровища-ми, сколько как таинственная и непрерывная мощь, спус-кающаяся в нескончаемом процессе в бесконечно малое субстанции. Чтобы наделить наше исследование материаль-ными темами, мы с определенностью будем исходить из диалектических отношений цвета и окрашенности (teinture). И тотчас же ощутим, что цвет представляет собой поверх-ностный соблазн, тогда как окрашенность - глубинную истину.
В алхимии понятие тинктуры (teinture) служит поводом для несметных метафор как раз оттого, что ему соответ-ствует всеобщий и отчетливый опыт. В таких случаях боль-ше всего осмысляется красильная способность (vertu tingeante). Существуют бесконечные грезы о взаимопревра-щении порошков, о способности окрашивать субстанции. Роджер Бэкон говорит, что силою своей тинктуры фило-софский камень может превращать в золото собственный свинцовый вес сто тысяч раз, Исаак Голландец - что мил-лион раз. А Раймунд ЛуллийА писал, что если бы мы обла-дали настоящей ртутью, мы окрасили бы море.
Но образы окрашенных жидкостей слишком слабы и пассивны, ибо вода - чересчур 'сговорчивая' субстанция, и потому не может предоставлять нам динамические обра-зы тинктуры. Как мы уже сказали, материальная драма, в которой замешан алхимик, представляет собой трилогию черного, белого и красного. Исходя из субстанциальной
А Луллий, Раймунд (1233-1315) - каталонский эрудит, философ, тео-лог, алхимик и поэт. Написал около 150 трудов на латинском, арабском и каталонском языках.
38
чудовищности черного, проходя через промежуточное очи-щение отбеленной субстанции, как добраться до высших цен-ностей красного? 'Вульгарное' пламя имеет мимолетно-крас-ную расцветку, которая может ввести в заблуждение профа-на. Необходим более сокровенный огонь, тинктура, которой удастся сразу и сжечь внутренние нечистоты, и оставить свои качества в субстанции. Эта тинктура истребляет черное, успо-каивается во время отбеливания, а затем побеждает глубин-ной краснотой золота. Преображать означает окрашивать.
Подводя итог этой преображающей силе, после разногла-сий, когда одни говорили, что философский камень имеет цвет шафрана, а другие - рубина, один алхимик написал: 'У философского камня все цвета - он белый, красный, желтый, небесно-голубой, зеленый'. У него все цвета, т. е. все потенции.
Когда тинктура осмысляется так, что становится подлин-ным корнем субстанции, до такой степени, что заменяет ли-шенную формы и жизни материю, мы лучше прослеживаем образы 'влитых' качеств и сил пропитывания. Греза о пропи-тывании причисляется к самым амбициозным грезам воли. Существует лишь одно дополнение к времени - вечность. Грезовидец в своей воле к коварному могуществу отождеств-ляет себя с силой, обладающей нестираемой стойкостью. При-мета может стираться. Настоящая тинктура нестираема. Внут-реннее покоряется в бесконечности глубины на беспредель-ное время. Так хочет цепкость материального воображения.
Если бы эти грезы о внутренней тинктуре, т. е. цвет, снабженный своей окрашивающей силой, можно было пред-ставить во всем их онирическом могуществе, мы, возмож-но, лучше бы поняли соперничество между психологичес-кими теориями, каковыми поистине являются учения о цвете у Гете и Шопенгауэра, и научным учением, опирающимся на объективный опыт, каким является теория цвета у Нью-тона. И тогда мы меньше удивлялись бы пылу, с каким Гете и Шопенгауэр боролись - столь безуспешно! - с тео-риями математической физики. У них были сокровенные убеждения, сформированные поверх глубоких материаль-ных образов. В общем, Гете ставит в упрек теории Ньютона учет лишь поверхностного аспекта окрашивания. С точки
39
зрения Гете, цвет - не просто игра света, а действие в глуби-нах бытия, действие, пробуждающее существенные ощутимые ценности. 'Die Farben, - говорит Гете, - sind Thaten des Lichts, Thaten und Leidem. Цвета - это деяния света, деяния и претер-певания. 'Как понять их, эти цвета, без сопричастности к их глубинному деянию? - думает такой метафизик, как Шопен-гауэр. - А каково действие цвета, если не окрашивание?'
Этот акт окрашивания, взятый во всей своей первоздан-ной силе, немедленно предстает как воля руки, руки, сжи-мающей ткани до последней нитки. Рука красильщика рав-нозначна руке месильщика, желающего добраться до дна материи, до абсолюта тонкости. Окрашивание также дви-жется к центру материи. Один автор XVIII столетия пишет: 'Ибо окраска подобна существенной точке, из которой, как из центра, расходятся лучи, размножающиеся при своей работе' (La Lettre philosophique. Trad. Duval, 1773, p. 8). Когда у рук нет силы, у них есть терпение. Домработница получа-ет такие впечатления, проводя тщательную чистку. Инте-ресная страница из одного романа Д. Г. Лоуренса показы-вает нам волю к белизне, волю к пропитке материи чисто-той, когда 'центр' материи столь близко, что кажется, буд-то материя взрывается, не в силах сохранить высшую сте-пень белизны. Вот великая греза об избыточной материаль-ной жизни, какую мы часто встречаем в стольких произве-дениях великого английского писателя: 'Генриетта стирала свое белье сама ради радости отбеливания, и ничего она так не любила, как думать о том, как она увидит его стано-вящимся все белее, когда миссис Спенсер будет выходить из моря в солнечную погоду каждые пять минут и смотреть на траву, каждый раз обнаруживая, что белье действитель-но сделалось более белым, - до тех пор, пока ее муж не объявит, что оно достигло такой степени белизны, что цве-та взорвутся, и, выходя, она найдет на траве и в кустах куски радуги вместо салфеток и рубашек.
- Вот уж я удивлюсь! - сказала она, допуская это, как вполне приемлемую возможность, и добавила с задумчи-вым видом: - Да нет же, это невозможно'11.
11 Lawrence D.H. Kangourou. Trad., p. 170.
40
Как лучше довести грезы до абсолютных образов, до образов невозможных! Такова греза прачки, обработанная материальным воображением с желанием субстанциальной белизны, когда чистота преподносится как нечто вроде ка-чества атомов. Чтобы зайти столь далеко, иногда достаточ-но как следует начать - и грезить во время работы, как умел Лоуренс.
Продолжительная верность окраски по отношению к материи может фигурировать в весьма любопытных прак-тиках. Так, Б. Карно напоминает, что черный цвет римские живописцы создавали при помощи обожженного винного осадка: 'Они полагали, что от качества вина зависит красо-та черноты' (La Peinture dans l'Industrie, p. 11). Итак, мате-риальное воображение с легкостью верит в переходный ха-рактер ценностей: хорошее вино дает хорошо сгущающий-ся осадок, а тот - прекрасную черноту12.
В 1783 году аббат Бертолон в книге о растительном элек-тричестве все еще утверждает: 'Граф де Муру в пятом томе туринских сочинений поставил себе задачей доказать с по-мощью многочисленных опытов, что цветы содержат особо стойкое окрашивающее начало, продолжающее существо-вать в пепле и придающее стеклу, в которое их добавляют, цвет цветка' (р. 280).
Об окрашивании вглубь, как и об остальном, Свифт рассуждает забавно. В 'Путешествии в Лапуту' он вклады-вает в уста изобретателя следующие слова: разве не глупо ткать нить шелковичного червя, если паук может стать на-шим рабом, умеющим для нас сразу и прясть, и ткать? Тог-да нам только и оставалось бы, что окрашивать. И даже если так - разве паук не подготовлен и к третьему ремес-
12 С этим прекрасным черным цветом сопоставимы чернила поэта. Д'Ан-нунцио грезит о том, чтобы записать свои клятвы несмываемыми чернила-ми, 'сделанными из черноты дыма, растворенного в меде, камеди, мускусе и галломане'A (Le Dit du Sourd et Muet qui fut miraculé en 1266. Rome, 1936, p. 11). Тот, кто любит субстанции, будет долго грезить перед такой чер-нильницей.
А Гиппоман (ветеринарный термин) - яйцеобразное или плоское тело, плавающее в аллантоидальной жидкости у кобыл и коров. Функция его неизвестна.
41
лу? Достаточно было бы кормить его 'разноцветными и блестящими' мухами... К тому же, поскольку цвета лучше усваиваются с пищей - отчего бы мух, скармливаемых па-укам, не кормить 'камедью, растительным маслом и клей-ковиной, необходимыми для того, чтобы паутина обрела достаточную густоту' (Trad. Ch. V, p. 155)13.
Нам, возможно, возразят, что эти игры ума весьма дале-ки от серьезности грез. Но если у грез нет привычки шу-тить, то существуют трезвые умы, умеющие оснащать свои грезы шуткой. Одним из них был Свифт. Тем не менее, остается справедливым, что его материальные фантазии формировались на тему усвоения пищи. Пищеварительная психика Свифта, которую без труда распознает начинаю-щий психоаналитик из-за обилия ее черт в 'Путешестви-ях', тем самым показывает нам материальное воображение в упрощенном свете, но всегда отмеченное признаками глу-бинной пропитанности субстанциальными качествами14.
Кроме прочего мы собираемся привести пример, кото-рый, по нашему мнению, как следует продемонстрирует, как столь редкостный материальный образ, как окраска, о которой грезят в ее субстанциальной пропитке, может сму-тить моральную жизнь и взять на себя моральные сужде-ния. Фактически воображение с таким же пылом способно ненавидеть образы, как и ласкать их. Сейчас мы встретим-ся с воображением, отвергающим любую окраску как заг-
13 Существует и другой способ 'преувеличения' образов, и это расска-зы о путешествиях. Путешественник, упоминаемый во 'Введении в фи-лософию древних' (1689), видел в Бразилии пауков, 'которые ткут паутину, достаточно крепкую для того, чтобы ловить в нее птиц размером с дрозда'.
14 Разумеется, воображение распространяет вглубь напряженность не только цвета, но и всех качеств. Для приготовления своей дегтярной на-стойки Беркли советует использовать 'поленья старых Сосен, хорошо про-питанных смолой' (См.: La Siris. Trad., p. 12)A.
A В работе 'Сейрис, или Цепь философских размышлений и исследо-ваний, касающихся достоинств дегтярной настойки и разных других пред-метов, связанных друг с другом и возникающих один из другого' Беркли дает сжатый очерк истории философии, а также излагает медицинские сведения на счет целебного действия дегтярной настойки, которую он считал панацеей. В русск. переводе (Беркли Дж. Соч. М., 1978, с. 465-509), стра-ницы, посвященные дегтярной настойке, отсутствуют.
42
рязненность, как своего рода материальную ложь, симво-лизирующую прочие виды лжи. Цитата длиннее обычной, однако заимствуем мы ее у Уильяма ДжемсаА, который без колебаний и вопреки ее анекдотическому характеру цели-ком включил ее в свою книгу 'Религиозный опыт'. Она покажет нам, что привлекательные черты или отвращение, формируемое воображением сокровенной материи предме-тов, может играть существенную роль в высших сферах ду-ховной жизни: 'Эти первые квакеры поистине были пури-танами... В "Дневнике" одного из них, Джона ВулмэнаB, читаем:
"Я часто раздумывал над первопричиной угнетения, от которого страдает столько людей... Время от времени я за-давал себе вопрос: во всех ли своих поступках я пользуюсь каждой вещью сообразно вселенской справедливости?...
Часто об этом размышляя, я всякий раз все больше тер-зался сомнениями относительно ношения шляп и костю-мов, окрашенных портящей их краской... Я был убежден, что эти обычаи не основаны на подлинной мудрости. Бо-язнь же из-за моего странного вида отдалить от меня тех, кого я любил, сдерживала и стесняла меня. Итак, я одевал-ся как прежде... Я заболел и слег... Ощущая потребность в большем очищении, я не имел ни малейшего желания выз-дороветь, прежде чем будет достигнута цель моего испыта-ния... Мне пришло в голову раздобыть фетровую шляпу, шерсть которой сохранила естественный цвет; но страх вы-деляться своим внешним видом все еще терзал меня. Он стал для меня причиной невыносимых мучений во время нашей общей ассамблеи весной 1762 г.; я страстно желал, чтобы Господь указал мне истинный путь. Низко согбен-
43
А Джемс (Джеймс), Уильям (1842-1910) - амер. философ и психолог. В философии - один из основателей прагматизма; его психологические идеи легли в основу бихевиоризма.
B Вулмэн, Джон (1720-1772) - американский лидер квакеров и аболи-ционист. Автор широко известного Дневника, впервые опубликованного посмертно в 1774 г. О популярности Дж. Вулмэна в англоязычных странах можно судить по тому, что американская библиотека всемирной литерату-ры Harward Classics отвела ему целый том, хотя в ней не представлены ни Л. Толстой, ни Ф. Достоевский.
ный духом перед Господом, я воспринял от Него волю к подчинению тому, чего - как я чувствовал - Он от меня требует. Собравшись с духом, я раздобыл себе шляпу из фетра естественного цвета.
Когда я участвовал в собраниях, этот диковинный вид стал причиной моих испытаний; как раз в ту пору некото-рые щеголи, любившие следовать изменениям моды, стали носить белые шляпы, похожие на мою: многие друзья, не знавшие моих мотивов ее ношения, избегали меня. На не-которое время это воспрепятствовало моей пастырской де-ятельности. Многие друзья опасались, что, нося такую шля-пу, я просто стараюсь выделиться. Что же касается тех, кто говорил со мною о ней в дружеском тоне, я обыкновенно в нескольких словах отвечал им, что если я ношу эту шляпу, то это не зависит от моей воли".
"Впоследствии - в пеших путешествиях по Англии - он получил аналогичные впечатления: "В своих путеше-ствиях, - пишет он, - я проходил мимо больших краси-лен и много раз я ступал на землю, пропитанную крася-щими веществами. Я остро желал, чтобы люди могли до-стичь чистоты своих жилищ, одежд, тела и духа. А ведь цель окраски тканей, с одной стороны, радовать глаз, а с другой - скрывать грязь. И часто, вынужденный брести по этой грязи, испускавшей нездоровое зловоние, я страстно желал, чтобы люди задумались над тем, чего стоит практика, состоящая в маскировке нечистоты под окраской.
Стирать наши одежды, чтобы держать их чистыми и оп-рятными, есть чистоплотность; но скрывать их нечистоту есть противоположность чистоплотности. Уступая этому обычаю, мы укрепляем в себе склонность скрывать от глаз то, что нам не нравится. Совершенная чистоплотность при-личествует святому народу. Но красить наши одежды ради сокрытия их загрязненности - противоположно совершен-ной искренности. Некоторые виды окраски делают ткань менее пригодной для ношения. Если бы все деньги, расхо-дуемые на красящие вещества и на процессы окраски, и все деньги, которые мы теряем, портя тем самым ткани, употреблялись на поддержание повсюду совершеннейшей чистоты, как воцарилась бы она в мире!"' (The Journal of
44
John Woolman. London, 1903. Ch. XII, XIII, pp. 158 et suiv., pp. 241, 242)15.
Как мы видим, некоторые души сопрягают ценности с самыми диковинными образами, оставляющими равнодуш-ными большинство людей. Это действительно доказывает нам, что любой искренне принимаемый материальный об-раз немедленно становится ценностью. Настаивая на этом факте, мы хотим закончить эту главу, пробудив решающую диалектику образов, диалектику, которую мы можем обо-значить в таких терминах: загрязнить, чтобы очистить. Она станет характерным признаком сокровенной битвы между субстанциями и приведет к подлинному манихействуA ма-терии.
VII
В работе о воздухе (Заключение, часть II) мы время от времени уже сталкивались с грезами об активной чистоп-лотности, о чистоплотности, обретенной в борьбе против коварной и глубокой неопрятности. Необходимо, чтобы любая ценность - чистоплотность, как и остальные, - была завоевана в борьбе с противоценностью, ибо без этого не происходит осмысления. И тогда, как мы указывали, в они-ризме активной чистоплотности развивается любопытная диалектика: сначала загрязняют, чтобы впоследствии луч-ше очистить. Воля к очищению требует противника своего масштаба. А для хорошо динамизированного материально-го воображения сильно загрязненная субстанция дает очи-щающему действию больше поводов проявиться, чем суб-станция просто замутненная. Грязь - это 'выступ', за ко-торый зацепляется очиститель. Домработницы больше лю-бят выводить пятна, чем смывать подтеки. Следовательно,
15 Можно, впрочем, задаться вопросом, не входит ли в терзания Вул-мэна сексуальный компонент. Вспомним, что с точки зрения бессозна-тельного, акт окраски является мужским действием. (См. Silberer H. Probleme der Mystik und ihrer Symbolik. S. 76.)
A Манихейство - восходящее к пророку Мани (III в.) учение о двух демиургах - добром и злом. У Башляра - пропитанность материи проти-воположно оцениваемыми началами.
45
представляется, что воображению борьбы за чистоту необ-ходимы провокации. Это воображение должно возбуждать-ся в злобном гневе. С какой злорадной улыбкой мы покры-ваем полировочной пастой медь водопроводного крана! Мы покрываем его кухонными отбросами с выпачканного тре-пела, пользуясь старой, грязной и жирной тряпкой. В сер-дце работающего накапливаются горечь и враждебность. За-чем нужна такая плебейская работа? Но стоит тряпке об-сохнуть, как злоба становится веселой, здоровой и словоо-хотливой: 'Кран, ты будешь зеркалом; котел, ты будешь солнцем!' Наконец, когда медь блестит и смеется с грубо-ватостью 'хорошего парня'А, заключается мир. Домработ-ница разглядывает свои сияющие победы.
Без одушевления подобной диалектикой невозможны домашняя работа 'по сердцу' и склонность к домашнему хозяйству.
В такой борьбе воображение варьирует свое оружие. По-разному оно обращается с трепелом и воском. Грезы о про-питанности поддерживают тихое терпение рук, наделяю-щих дерево красотой с помощью воска: воск должен плав-но войти в сокровенность дерева. Посмотрите, как в 'Саду Гиацинта' старая Сидония справляется с кухонной рабо-той: 'Под давлением рук и благодаря полезному теплу шер-сти нежный воск проникал в эту отполированную мате-рию. Поднос медленно наполнялся приглушенным сияни-ем. Казалось, оно, это излучение, притягиваемое магнети-ческим трением, исходит от столетней заболони, из самой сердцевины мертвого дерева, постепенно распространяясь по подносу уже в состоянии света. Щедрая ладонь, старые добродетельные пальцы извлекали из массивного куска де-рева и из его неодушевленных волокон скрытые потенции жизни'16. К таким страницам напрашиваются замечания, подобные тем, что часто делались в предыдущей книге: тру-
А Слово cuivre 'медь' во франц. языке мужского рода.
16 Bosco H. B Le Jardin d'Hyacinthe, p. 193.
B Боско, Анри (1889-1976) - франц. писатель. На протяжении всего творчества искал единства между 'почвой' и 'сердцем'. Для него нет раз-рыва между миром и человеком; в поклонении природе у него есть эле-мент язычества и мистерий. Оставил также несколько книг мемуаров.
46
дящийся не остается 'на поверхности вещей'. Он грезит о сокровенности, о сокровенных качествах с той же 'глуби-ной', что и философ. Дереву он отдает весь воск, который то может поглотить, - медленно и без излишка.
Можно предположить, что простым душам, душам, ко-торые размышляют, работая физически, вручную - каким был случай с Якобом Бёме - знаком реальный характер материального образа, превращающего 'выступ зла' в как бы необходимое условие пропитки благом. Нам представля-ется, что при чтении философа-сапожника можно уловить поединок образов, предшествующий их превращению в обыкновенные метафоры. Манихейство дегтя и воска ощу-тимо в постоянно возобновляемой ожесточенной борьбе между противоположными прилагательными, относящимися к вяжущим качествам и к сладости. На многих текстах можно убедиться, что отправной точкой для материальных грез Бёме является материя, одновременно терпкая, черная, сжатая, сжимающая и хмурая. В этой дурной материи порождаются стихии: 'Между вяжущими качествами и горечью порож-дается огонь; терпкость огня есть горечь, или само стрека-ло, а вяжущее качество - это и "пень", и отец первого и второго, и оно, тем не менее, порождено обоими, ибо дух подобен воле или возвышающейся мысли, которая в соб-ственном восхождении ищет, пропитывает и порождает себя.' (Les Trois Principes. T. I, p. 2). Впрочем, чтобы хра-нить верность бёмеанской мысли, необходимо системати-чески не располагать время вяжущего качества перед вре-менем сладости. Клод де Сен-МартенА говорит, что эти вы-ражения связаны с чересчур наивным согласием с тварным языком. Вяжущее качество и сладость сопряжены между собой материально: именно благодаря вяжущему качеству сладость сочетается с субстанцией, а через 'выступ зла' происходит пропитка благом. Материя чистоты остается
А Сен-Мартен, Луи Клод де (1743-1803) - франц. теософ и писатель. Посвятил жизнь распространению учения о реинтеграции, известной под именем мартинизма. Осн. труды: 'О заблуждениях и об истине' (1773); 'Человек желания' (1790); 'Мой исторический и философский портрет' (посмертно, 1962).
47
верной себе и активной посредством вяжущего сжатия ма-терии вязкой и едкой. Необходимо, чтобы острота такой борьбы непрестанно возобновлялась. Необходимо, чтобы чистота, как и благо, находилась в опасности, чтобы ос-таваться активной и свежей. Это - частный случай вообра-жения качеств. Мы вернемся к нему в главе о нюансировке качеств. А здесь хотим продемонстрировать, что по поводу внешне самых что ни на есть миролюбивых субстанций во-ображение может вызывать бесконечные сомнения, сомне-ния, проницающие самую упрятанную сокровенность суб-станций.
VIII
Впрочем, мы можем привести примеры и цепкой сокро-венности, сокровенности, которая удерживает свои каче-ства и в то же время возвышает их. К примеру, кажется, будто цель минералов - оценивать собственные цвета; мы воображаем минералы при активном панкализме, столь ха-рактерном для материального воображения.
По сути дела, именно через прекрасный цвет алхимия всегда характеризует счастливую субстанцию, ту, что испол-няет желания труженика, ту, которая кладет предел его уси-лиям. Алхимические феномены задаются не только как производство некоей возникающей субстанции, но и как чудо, обставленное всевозможной пышностью. ПарацельсА прокаливает ртуть 'до тех пор, пока она не явит себя в своем прекрасном красном цвете', или, как говорят другие адепты, в прекрасной красной тунике. Цвет, не называемый прекрасным, представлял бы собой знак незавершенной ма-нипуляции. Несомненно, современный химик пользуется аналогичными выражениями; он часто говорит, что такое-то тело прекрасного зеленого, а такое-то - прекрасного желтого цвета. Но здесь выражена реальность, а не цен-
А Парацельс, Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493- 1541) - швейц. врач и маг, отец герметической медицины. В своей прак-тике широко пользовался теорией соответствий между микрокосмом и макрокосмом. В качестве мага притязал на открытие эликсира вечной молодости.
48
ность. В этом отношении у научной мысли совершенно нет эстетической направленности. А вот в эпоху алхимии дела обстояли не так. Тогда красота подчеркивала результат, она служила приметой чистой и глубокой субстанциальности. Когда же историк наук, сильный научными познаниями собственной эпохи, перечитывает старые книги, он порою видит в этом обозначении прекрасного и подлинного цвета всего лишь средство характеристики анализируемой суб-станции. Он крайне редко пользуется алхимическими суж-дениями в подобающей им функции, как суждениями о сокровенной ценности, ценностными суждениями, где схо-дятся разнообразные воображаемые ценности. Чтобы су-дить о таких схождениях, необходимо сформулировать тео-рию не только опыта, но и грез.
Так, то, что алхимическая субстанция обладает прекрас-ным зеленым цветом, является для ценностного суждения признаком продвинутого осмысления. В массе случаев зеле-ный цвет - это первый прекрасный цвет. Шкала субстанци-ально осмысляемых ценностей, цветов, служащих призна-ками глубинной ценности, слегка варьирует в зависимости от адептов. Чаще всего шкала совершенства располагается в следующем порядке: черный, красный и белый цвета. Но встречается также и такая: черный, белый, красный. А ма-териальная сублимация означает реальное покорение цве-та. Возьмем, к примеру, господство красного.
Так, Сокол всегда возглашает на горной вершине:
Je suis le Blanc du Noir, le Rouge du Citrin.
(Я - Белизна Черного, Краснота Лимонно-Желтого.)
Разумеется, осмысление 'настоящего' цвета изобличает дьявольское непотребство цвета мутного, грязного или сме-шанного. В XVI в. саксонский электор запретил индиго как 'едкую дьявольскую краску - fressende Teufels Farbe'17.
Как бы там ни было, красота любого материального цвета проявляется как глубинное и напряженное богатство. Она служит признаком крепости минерала. И - по инверсии,
17 См. Hœfer. Histoire de la Chimie. T. II, p. 101.
49
весьма обычной в царстве воображения, - грезится чем прекраснее, тем более долговечной.
В 'Истории Химии' Фирц-Давида, где автору лучше, не-жели кому-либо из предшественников, удалось определить двойственный характер Химии и Алхимии, он справедливо указывает, что осмысление субстанциальных цветов лежит у основания изобретения пороха. Черный уголь 'как materia prima смешали с серой (красный мужчина) и солью (белая женщина)'. Вспышка как доселе невиданная космическая ценность послужила сияющим знаком рождения 'юного короля'18. Здесь невозможно не разглядеть воздействия оп-ределенной причинно-следственной связи между цветами; в порохе реализуется синтез потенций черного, красного и белого. Подобные грезы о субстанциальных потенциях те-перь могут показаться нам далекими и расплывчатыми. Мы едва ли можем согласиться с тем, что нам предлагают тео-рию изобретательских грез, теорию ложных грез, приводя-щих к подлинному опыту. Но требуется столько интересов, чтобы поддержать изначальное терпение, столько упований на магические свойства ради одушевления первых поис-ков, что не следует отбрасывать ни малейших поводов, на которых были основаны первые открытия во времена, ког-да объективные знания не были связаны никакой систе-мой, наделенной индуктивной силой и изобретательскими ценностями.
А значит, перед нами всегда стоит одна и та же пробле-ма: мы полагаем, что выражениям стоит придавать их пол-ный психический смысл, раз уж мы изучаем темы, где за-действованы подсознательные ценности, смешанные с объективными наблюдениями. Здесь цвета не подлежат ве-дению номинализма. Для активистского воображения они являются субстанциальными силами.
Аналогичным образом - когда возникают сравнения с космическими силами, эти сравнения следует усиливать до тех пор, пока они не превратятся в сопричастность, без которой психологические свидетельства ослабляются. На-
18 Fierz-David H. E. Die Entwicklungsgeschichte der Chemie. Basel, 1945, S. 91.
50
пример, когда алхимик говорит об осадке, белом, как снег, он уже восхищается и благоговеет. Восхищение есть пер-вичная и пылкая форма знания, это знание, которое похва-ляется своим предметом и наделяет его ценностью. При изначальной вовлеченности ценность не оценивают, ею восхищаются. И любое сравнение субстанции с чем-то при-родным - со снегом, с лилией, с лебедем - представляет собой сопричастность глубокой сокровенности, некоему динамическому качеству. Иначе говоря, всякий грезовидец, наделяющий ценностью белую субстанцию, сравнивая ее с незапятнанной материей, полагает, что улавливает белизну в ее действии, в ее природных действиях.
Без учета глубинного реализма выражений мы утратим благотворность материального и динамического воображе-ния как элемента психологического исследования. Алхи-мические тинктуры доходят до глубины субстанции, они сами - основы субстанции. На всем протяжении алхими-ческих трансмутаций присутствует воля к расцвечиванию, к окрашиванию. ФинализмА алхимического опыта обозна-чает цвет как цель. К примеру, высшая цель, белый ка-мень, в конце концов, становится больше белизной, не-жели камнем; он и есть сгусток белизны. И, следуя его осмыслению, мы хотим, чтобы этот камень перестал быть каменным, чтобы он сделался достаточно чистым для того, чтобы воплощать белизну.
Как только мы поймем это глубинное действие прекрас-ного материального цвета, мы раз и навсегда поймем, что красота без конца играет собственными плеоназмами. Имен-но так я переживаю следующие строки Люка Декона:
J'ai rencontré la belle neige aux bras de lin, La belle neige aux membres d'orge, La neige belle comme la neige.
(Я повстречал прекрасный снег с руками льна, Прекрасный снег с членами ячменя, Снег, прекрасный, как снег.)
(A l'Œil nu. Les Mains froides, p. 53.)
A Финализм - здесь: целенаправленность.
51
В последней строке белизна возвращается в свое лоно, круг субстанциальной красоты, сокровенности красоты, замыкается. Нет красоты без плеоназма. Тем самым демон-стрируется переходный характер других метафор: прочие метафоры выстраиваются в одну линию, поскольку они ведут к первосубстанции, в изумительном единстве грезы о белизне. И возникает все это лишь тогда, когда мы до-бавляем к литературному анализу анализ онирических ценностей. Но здесь присутствуют истины воображения, коих не приемлет классическая литературная критика. Привязанный к номинализму цвета, заботящийся о том, чтобы выпустить прилагательные на свободу, классичес-кий литературный критик стремится непрестанно отде-лять вещи от их выражения. Он не желает следовать за воображением, когда то воплощает качества. По суще-ству, литературный критик объясняет идеи через идеи, что правильно, - и грезы через идеи, что может быть полезным. Между тем, он забывает о необходимом: объяс-нять грезы через грезы.
Итак, греза о сокровенности материи совершенно не страшится тавтологичности впечатлений; она укореняет в субстанции качество, оценка которого наиболее важна. А это наделяет грезы о субстанции их уникальным постоян-ством. О золоте можно сказать, что оно физически неиз-менно. Для грезящего о материи благотворна своего рода стержневая укорененность его впечатлений. Ведь тогда ма-териальность сталкивается с идеальностью впечатлений, а грезы объективируются посредством своеобразного внут-реннего и внешнего обязательства. Возникает некий чару-ющий материализм, который может оставить в душе нести-раемые воспоминания.
Возможно, мы получим представление о должной мере бездонной глубины, которую грезят в сокровенности ве-щей, если рассмотрим миф о глубинном очищении суб-станций. Мы кратко упомянули желание Алхимика промы-вать внутреннюю часть субстанций, отметив диалектичес-кий характер этого желания. Однако такой образ влечет к себе несметные метафоры, не ограничивающиеся дублиро-ванием реальности, но наглядно доказывающие, что алхи-
52
мик стремится как бы произвести экзорцизм в реалисти-ческих образах. Это хорошо разглядел Герберт Зильберер (Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, p. 78). Он указыва-ет на сдвиг всех выражений. Идет ли речь о промывке водой - немедленно добавляют, что вода, эта не природная. О промывке мылом? - Это не обычное мыло. Ртутью? - Это не металлическая ртуть. Трижды значение оказалось сдви-нутым, и три раза реальность обладает лишь 'временным' смыслом. Воображение не обнаруживает в реальности истинного активного субъекта при глаголе 'промывать'. Оно стремится к неопределенной и бесконечной актив-ности, спускающейся в изощренные глубины субстан-ции. В действии ощущается мистика чистоплотности, ми-стика очищения. И тогда метафора, которой не удалось выразиться, начинает представлять психическую реаль-ность желания чистоты. Тут опять же открывается перс-пектива сокровенности, обладающая бесконечной глу-биной.
Здесь мы имеем хороший пример необходимости приум-ножения метафор, признаваемой большинством алхимиков. Реальность они считали обманом зрения. Сера, 'отягощен-ная' запахом и свечением, не была для них настоящей се-рой, корнем настоящего огня. Да и сам огонь не был насто-ящим огнем. Он был всего лишь пламенеющим, шумящим, дымящимся и испепеляющим, отдаленным образом истин-ного огня, изначального огня, чистого огня, субстанциаль-ного огня, огня-первоначала. Мы хорошо ощущаем, что греза о субстанциях творится как бы против феноменов субстанции, что греза о сокровенности есть становление тайны. Тайный характер алхимии не соответствует благора-зумному социальному поведению. Он тяготеет к природе вещей. Он тяготеет к природе алхимической материи. Это не секрет, который кому-то известен. Но это существен-ный секрет, который ищут и предощущают. К этому секре-ту приближаются, он вон там, сосредоточен и заперт во вложенных друг в друга сундуках субстанции, все крышки которых вводят в заблуждение. Итак, греза о сокровеннос-ти продолжается со странной верой в завершение, вопреки непрестанно возрождающимся иллюзиям. Алхимик настоль-
53
ко любит субстанцию, что не может поверить, что она лжет - вопреки всей ее лжи. Поиски сокровенности сопряжены с диалектикой, которую не может остановить никакой не-удачный опыт.
IX
Если мы прочтем объемистое исследование К. Г. Юнга, посвященное алхимии, мы сможем найти более совершен-ную меру для грез о глубине субстанций. В действительно-сти - и это продемонстрировал Юнг - алхимик проециру-ет на субстанции, подвергаемые длительной обработке, соб-ственное бессознательное, дублирующее ощутимые знания. Если Алхимик говорит о ртутиА, он 'внешне' думает о 'жи-вом серебре'А, но в то же время полагает, что находится в присутствии духа, сокрытого в материи или плененного ею (см. Jung K.G. Psychologie und Alchemie, S. 399), однако под этим термином 'дух', реализованным в картезианской фи-зике, начинает работать неопределенная греза, мысль, не желающая замыкаться в дефинициях, мысль, умножающая смыслы и слова, чтобы не запираться в точных значениях. Хотя К. Г. Юнг и не советует мыслить бессознательное, как нечто локализованное под сознанием, нам представля-ется, что можно говорить, что бессознательное Алхимика проецируется в материальные образы как глубина. Значит, в двух словах мы скажем, что Алхимик проецирует свою глубину. Во многих из следующих глав мы обнаружим то же проецирование. А следовательно, будем возвращаться к этой теме. Но мы считаем в любом случае полезным отметить закон, который мы назовем изоморфностью об-разов глубины. Грезя о глубине, мы грезим о нашей глу-бине. Грезя о тайных качествах субстанций, мы грезим о нашей тайной сути. Но наиболее значительные тайны на-шей сути сокрыты от нас самих, их скрывает тайна наших глубин.
А Франц. vif-aigent 'ртуть', как и нем. Quecksilber, буквально означает живое (или подвижное) серебро.
54
Полное изучение материальных образов сокровенности подразумевало бы подробное рассмотрение разнообразных ценностей скрытого тепла. Если бы мы за него взялись, нам следовало бы заново переписать всю нашу работу об огне, выразительнее подчеркивая черты, позволяющие го-ворить о подлинной диалектике тепла и огня. Если взять отчетливо различающиеся образы тепла и огня, то, на пер-вый взгляд, эти образы могут служить для характеристики интровертивного и экстравертивного воображения. Огонь экстериоризируется, взрывается, выставляет себя напоказ. Тепло интериоризируется, концентрируется, скрывается. Если следовать грезящей метафизике Шеллинга, названия тре-тьего измерения больше заслуживает тепло, чем огонь, 'Das Feuer nichts anderes als die reine der Körperlichkeit durchbrechende Substanz oder dritte Dimension seh (Огонь есть не что иное, как чистая субстанция, проницающая телесность, - или же тре-тье измерение.) (Œuvres Complètes. T. II, p. 82):
Грезы о внутреннем всегда бывают теплыми, но никогда - жгучими. Тепло в грезах всегда обладает мягкостью, посто-янством, регулярностью. Благодаря теплу все обретает глу-бину. Тепло - знак глубины, смысл глубины.
Интерес к мягкому теплу способствует накоплению все-возможных сокровенных ценностей. Когда в дискуссии, оживлявшей в XVII веке две великие теории желудочного пищеварения (перемалывание или переваривание), выдви-гали возражение, что столь мягкое тепло, как желудочное, тем не менее, за два часа способно растопить кость, 'кото-рую совершенно не под силу раздробить крепчайшему элик-сиру', некоторые медики отвечали, что это тепло заимствует дополнительную силу у самой души.
XI
Иногда диалектика сокровенности и расширения при-нимает у великого поэта столь смягченную форму, что мы забываем о диалектике великого и малого, каковая все же служит здесь основой. И тогда воображение уже не чертит, оно трансцендирует начертанные формы и в изобилии раз-
55
вивает смыслы сокровенности. В сущности, всякое сокро-венное богатство безгранично увеличивает внутреннее про-странство, где оно накапливается. Греза свертывается и раз-ворачивается в парадоксальнейшем из наслаждений, в са-мом неизгладимом из блаженств. Проследуем за Рильке, ищущим в сердце розы нежное и сокровенное тело:
Quels deux se mirent là
dans le lac intérieur
de ces roses ouvertes.
(Какие небеса глядятся друг в друга там
во внутреннем озере
этих раскрытых роз.)
(Intérieur de la Rose. Ausgewählte Gedichte. Insel-Verlag, S. 14). В пространстве розы содержится целое небо. В аромате живет мир. В интенсивности сокровенной красоты сгуща-ются красоты целой вселенной. Затем - как бы вторым дви-жением - поэт говорит о расширении красоты. Эти розы...
A peine peuvent-elles se tenir d'elles-mêmes,
maintes, gorgées, débordèrent d'espace intérieur
en ces journées s'achevant
en une plénitude vaste, toujours plus vaste,
jusqu'à ce que tout l'été devienne une chambre,
une chambre dans un rêve.
(Они едва могут держаться собственными силами,
многочисленные и переполненные, переливались
за пределы внутреннего пространства в те дни, завершаясь
обширной и непрерывно ширящейся полнотой,
пока все лето не стало комнатой,
комнатой в грезе.)
Все лето находится внутри цветка; роза переливается че-рез края внутреннего пространства. На уровне предметов поэт дает нам пережить два движения души, неуклюже назы-ваемые психоаналитиками интровертностью и экстраверт-ностью. Эти движения соотносятся с дыханием стихотво-рения настолько, что полезным было бы пронаблюдать их эволюцию. Поэт стремится сразу и к сокровенности, и к
56
образам. Он хочет выразить сокровенность существа из внеш-него мира. И делает это при необычайной чистоте абстраги-рования, отвлекаясь от непосредственно данных образов и прекрасно понимая, что описанием грезить не заставишь. Он переносит нас в присутствие простейших грезовидчес-ких мотивов; следуя за ними, мы входим в комнату грез.
XII
Итак, поочередно изучая медитации алхимиков, пред-рассудки, подобные распространенным среди древнеримс-ких живописцев, или же навязчивые идеи и мании пури-танского пастора, или шутки Свифта, или многословные и темные образы Бёме, или попросту мимолетные мысли дом-работницы, мы показали, что материальная сокровенность предметов требует весьма характерных грез, несмотря на некоторые сложные аспекты. Вопреки всевозможным зап-ретам философов, человек грезящий стремится проникнуть в сердцевину предметов, в саму материю вещей. Порою делают поспешный вывод, будто в вещах человек обретает самого себя. Но воображение больше жаждет известий из реальности, откровений материи. Оно любит открытый ма-териализм, непрестанно, при каждом удобном случае, пред-лагающий себя новым и глубоким образам. На свой лад воображение является объективным. Мы попытались дока-зать это, посвятив целую главу сокровенности грезы в пред-метах и не касаясь сокровенности грезовидца.
XIII
Разумеется, если бы мы поставили задачей исследова-ние наиболее скрытых уровней подсознания, если бы мы искали чисто личные источники сокровенности субъекта, нам потребовалось бы пройти по совершенно иному пути. И как раз этот путь позволяет нам, в частности, охаракте-ризовать возвращение к матери. Психоанализ исследовал вглубь эту перспективу столь тщательно, что мы обойдемся без ее изучения.
Мы ограничимся лишь замечанием, имеющим отношение к нашей конкретной теме: к обусловленности образов.
57
На наш взгляд, это возвращение к матери, предстающее в качестве одной из наиболее могущественных тенденций психической инволюции, сопровождается вытеснением обра-зов. Уточнение образов этого инволютивного возвращения мешает предаться его соблазну. По существу, на этом пути находят образы спящего существа, образы существа с зак-рытыми или полуоткрытыми глазами, но всегда лишенные воли к видению, - ведь это образы сугубо слепого бессоз-нательного, формирующего все свои ощутимые ценности с мягкой теплотой и комфортом.
Великие поэты умеют возвращать нас к этой изначальной сокровенности с весьма расплывчатыми формами. Их следу-ет читать, воспринимая образов не больше, чем есть у них в стихах, чтобы не погрешить против психологии бессознатель-ного. К примеру, в книге, где Рене Гиньяр аккуратно и тонко выявил социальное окружение Клеменса Брентано*, автор полагает, что о стихах можно выражать суждения с точки зре-ния трезвомыслящего сознания: 'Строфы, в которых ребенок напоминает матери о времени, когда он находился в ее лоне, кажутся нам малоудачными19. Разумеется, невозможно более адекватно изобразить интимный союз двух существ, однако нам кажется шокирующим вкладывать в уста ребенка слова:
Und war deine Sehnsucht ja allzugross Und wusstet nicht, wem klagen, Da weint ich still in deinen Schooss Und konnte dirs nicht sagen.
(И так как была твоя тоска слишком велика, И ты не знала, кому пожаловаться, Я тихо рыдал в твоем лоне И не мог тебе ничего сказать.)
'Мы задаемся вопросом, - продолжает критик, - тро-гательно это или смешно: в любом случае Брентано очень любил эти стихи, и из периода жизни, который мы не мо-жем точно определить, он оставил именно их, чтобы под-черкнуть их едва ли не религиозный характер'.
А Брентано, Клеменс (1778-1842) - нем. поэт; автор сказок и духов-ных сочинений. Представитель гейдельбергской ветви нем. романтизма. 19 Guignard R. La Vie et l'Oeuvre de Clemens Brentano. 1933, p. 163.
58
Неспособность судить с точки зрения бессознательного здесь очевидна. Университетский критик составил себе ви-зуальный образ ребенка в лоне матери. И образ этот шоки-рует. Если читатель отчетливо формирует его, то воображе-ние поэта от него ускользает. Если критик наблюдал за гре-зой поэта в мире смутного тепла, безграничного тепла, где обретается бессознательное, если он пережил время перво-го кормления, он поймет, что в тексте Брентано образуется третье измерение, измерение, избегающее альтернативы между 'трогательным и смешным'.
Причина того, что поэт 'очень любил эти стихи' и даже стремился придать им религиозный оттенок, заключается в том, что этот текст был наделен для него некоей ценностью, а 'эру-дированная' критика может искать эту ценность разве что в бессознательном, поскольку отчетливая часть этого стихотво-рения, как ее видит Рене Гиньяр, довольно-таки убога. Наша углубленная критика без труда заметит влияние сокровенности материнских сил. Следы такой сокровенности очевидны. Дос-таточно лишь посмотреть, куда они ведут. Поскольку Брента-но разговаривает со своей невестой, 'словно ребенок... с мате-рью', критик усматривает здесь 'весьма характерный символ слабости поэта, прежде всего, желающего ощущать себя ласка-емым и лелеемым'. Лелеемым! Что за хирургическое вмеша-тельство в живую и здоровую плоть! Да, этот сон крепче того, которого просил у любви Клеменс Брентано!
В действительности, сколько следствий придется пропро-анализировать, исходя из столь сложных стихов! Чтобы изу-чить материнскую сокровенность Смерти недостаточно од-ного-единственного абзаца: 'Если мать слишком бедна, что-бы вскормить своего ребенка, пусть она тихонько положит его "на пороге смерти" и умрет вместе с ним, дабы он узрел ее на небе, открывая глаза!' У такого неба, несомненно, будет бледность лимба, а у такой смерти - нежность лона: таков союз в жизни более тихой, чем эта, в пренатальном существо-вании. Но ведь когда воображение идет по этому пути, обра-зы расплываются и изглаживаются. Та сокровенность, кото-рая притягивала столько образов, когда о ней грезили в суб-станциях, на этот раз превращается в чистую интенсивность. Она дает нам изначальные ценности, укорененные в столь отдаленном бессознательном, что они выходят за рамки зна-комых образов и касаются весьма архаичных архетипов.
Глава 2. Распри в сокровенности
Внутреннему бытию присущи всевозможные аффекты.
Анри Мишо
I
Для заурядного философа, который каждый день пишет и читает, его книга тождествен-на неооратимои жизни, и подобно тому, как он хотел бы прожить свою жизнь заново, чтобы лучше осмыслить ее (единственный философский метод прожить ее лучше), ему хочется по написании книги взяться за ее переделку. Едва эта книга будет написана, как он преподнесет новенькую! У меня складывается грустное впечатление, что в процессе письма я узнаю, как мне следовало читать. Хотя я столько про-чел, мне хочется все перечитать. Сколько литературных обра-зов я не разглядел, не сумев совлечь с них одеяния банальности! К примеру, среди прочего я сожалею о том, что вовремя не изучил литературных образов глагола кишеть (fourmiller). Слиш-ком уж поздно я заметил, что к реалиям, которые 'кишат', присоединяется некий фундаментальный образ, вызывающий у нас реакцию, принцип подвижности. Внешне этот образ убог; чаще всего он представляет собой слово, и даже слово с отри-цательной коннотацией: это признание того, что нам не под силу описать то, что мы видим; доказательство того, что мы безучастны к беспорядочным движениям.
А, между тем, как же мы убеждены в ясности этого сло-ва! Каков диапазон его применения! От червивого сыра до звезд, населяющих бескрайнюю ночь - все суетится, все кишит. В этом образе - отвращение и восторг. Потому-то
60
он с легкостью притягивает противоположные ценности. Стало быть, это архаический образ.
Как в таком случае не распознать этот чудесный образ миллионов движений, всевозможные анархические радос-ти буйства динамической сокровенности! Охарактеризуем этот образ, по меньшей мере, через двойной парадокс.
Во-первых, заметим, что мы воображаем статический беспорядок как колышущееся множество: звезды столь многочисленны, что прекрасными летними ночами кажет-ся, будто они кишат. Множественность есть колыхание. В литературе не существует одного-единственного неподвиж-ного хаоса. Самое большее, мы находим, как у Гюйсманса, хаос обездвиженный, хаос окаменелый. И не случайно в книгах XVIII века и предыдущих столетий слово хаос (chaos) иногда писалось как cahots (суматоха, сутолока).
Но вот обратный парадокс. Стоит посмотреть на некое множество тел, колышущихся в разные стороны, или вооб-разить эти тела, как мы сразу припишем им количество, намного превосходящее реальное: колыхание есть множе-ственность.
II
Впрочем, посмотрим, как, основываясь на этих пара-доксах, взаимодействуют некоторые идеи и образы. Тем самым мы уясним, с какой легкостью простые и мимолет-ные образы становятся 'первичными' идеями.
Например, ферментация часто описывается как кише-ние (mouvement fourmillant), и отсюда выводилось ее пред-назначение - служить посредником между косной матери-ей и живым. Из-за внутреннего брожения ферментация является жизнью. Во всей своей наивности этот образ встре-чается у Дункана: 'Активные начала, ускользая от грубых частей, обволакивавших их, ведут себя подобно муравьям, что сами выходят через дверь, которую для них открывают'1. Вот так образ кишения возводится на уровень объяснитель-ного средства. 'Активные' начала ферментации превраща-ют воображаемую субстанцию в настоящий муравейник.
1 Duncan D. La Chymie naturelle... T. I, p. 206.
61
Флобер также подчиняется закону воображения, наде-ляющего малое суетой. В книге 'Искушение Святого Анто-ния' (первый вариант) он вкладывает в уста пигмеев сле-дующие слова: 'Маленькие простачки, мы кишим на зем-ле, словно паразиты на верблюжьем горбу.' Между про-чим, что могут делать пигмеи под пером у писателя, чей рост превосходил метр восемьдесят? В нашей предыдущей работе мы указали, что путешественники, находящиеся на высоких горах, любят сравнивать людей с суетящимися му-равьями. Таких образов малого слишком много, и потому они не бессмысленны.
Как у всех фундаментальных образов, ценность образа муравейника может повышаться или понижаться. Это мо-жет быть образ активности или образ суеты. В последнем случае говорят о 'пустых хлопотах'. Но именно так во время бессонницы приходят 'идеи' к человеку умствен-ного труда. Разве терпящий бедствие муравейник не яв-ляет собой точь-в-точь образ души, утратившей самокон-троль, увлекаемой бессвязными словами, - образа 'der turbulenten Zerstreuheit des Daseins' (рассеянно волную-щегося здесь-бытия)?...1b В таком случае образ муравей-ника может служить тестомВ для активистского анализа. В зависимости от состояний души, в нем может быть ссора или единение. Само собой разумеется, что от такого об-разного анализа следует отстранять знания, доставляе-мые книгами. Естественная история муравьев здесь ни при чем.
А вот - чтобы покончить с этими бедными образами - просто ради улыбки страница, провести психоанализ кото-рой не составит труда. Она взята из работы, написанной серьезным тоном, из произведения, ни разу не отступив-
1b Binswanger L.A Ausgewählte Vorträge und Aufsätze, Bern, 1947, S. 109.
A Бинсвангер, Людвиг (1881-1966) - швейц. психиатр. Работал вместе с К.Г. Юнгом в больнице Бургхёльцли; поддерживал продолжительные отношения с 3. Фрейдом. Под влиянием Гуссерля и Хайдеггера разрабо-тал весьма оригинальный синтез фрейдизма и феноменологии, создав так называемый Dasein-анализ. Осн. труды: 'Введение в Dasein-анализ' (1947), 'Греза и экзистенция' (1954).
B От слова 'тест'.
62
шего от основательности. Если рассмотреть под микроско-пом, - говорит Гемстергейс, - семенную жидкость живот-ного, которое несколько дней не приближалось к самке, то можно обнаружить 'поразительное количество этих части-чек, или зверюшек Левенгука*, но все они будут в состоя-нии покоя и без малейших признаков жизни'2. Зато после вашего анализа под микроскопом стоит лишь подвести самку к самцу, как 'вы найдете всех этих зверюшек не только живыми, но с потрясающим проворством плавающими в жидкости, которая и без того густа'. Так серьезный фило-соф наделяет сперматозоид разнообразными волнениями полового желания. Микроскопическое существо мгновен-но регистрирует состояние психологии духа, волнуемого страстями.
Эта 'вертлявая' сокровенность может показаться па-родией на глубинные ценности, но, на наш взгляд, она хорошо характеризует наивность воображения внутрен-них волнений. Впрочем, переходя от волнения к ссоре, мы сейчас увидим более динамичные образы, где воля к власти и враждебности задействована на полную мощ-ность.
III
Весьма часто внутреннее волнение субстанций пред-стает как внутренний бой между двумя или несколькими материальными началами. Материальное воображение, обретавшее покой в образе неподвижной субстанции, в волнующейся субстанции в замкнутом пространстве на-чинает своего рода битву. Оно субстанциализирует битву.
Даже в XVIII веке многочисленны книги по химии, ко-торые самими своими названиями напоминают о битвах
А Ван Левенгук, Антоний (1632-1723) - голландский естествоиспыта-тель. Изобретатель линз и микроскопов, с помощью которых открыл про-стейших животных, затем сперматозоиды, микробы, красные и белые кро-вяные тельца и пр. Осн. труд 'Opera omnia sive Arcana naturae ope exactissimorum microscopiorum detecta' (1715-1722).
2 Hemsterhuis. Œuvres. T. I, p. 183.
63
между субстанциями. Стоит лишь пролить уксус на мел, как шипение сразу же становится объектом интереса для юных адептов. Это первое практическое занятие по химии превращается - в стиле XVIII века - в бой субстанций. Кажется, будто грезящий химик наблюдает за борьбой кис-лоты и мела, словно за петушиным боем. При необходимо-сти он хлещет стеклянной палочкой участников боя, когда процесс замедляется. А в книгах по алхимии нередки ос-корбления кусающейся {mordicante) субстанции, ведь она больно кусается.
Алхимические обозначения вроде прожорливого волка, прилагаемые к субстанциям (можно было бы привести и массу других), в достаточной степени доказывают анимали-зацию образов вглубь. У этой анимализации - надо ли го-ворить? - нет ничего общего с формами или цветом. С внешней стороны ничто не легитимизирует метафоры льва или волка, гадюки или собаки. Все животные проявляются как метафоры психологии буйства, жестокости и агрессив-ности, например, они соответствуют стремительности ата-ки3. Этот бестиарий металлов действует в алхимии. Это не инертный символизм. С субъективной стороны он отмеча-ет странную сопричастность алхимика битвам между суб-станциями. На всем протяжении развития алхимии скла-дывается впечатление, что бестиарий металлов бросает вы-зов бестиарию-алхимикуА. Объективно говоря, существует мера - несомненно, исключительно воображаемая, - для измерения сил враждебности различных субстанций по отно-шению друг к другу. Слово аффинностьB, длительное время бывшее - и все еще остающееся для донаучного сознания - объяснительным термином, вытеснило собственный анто-ним: враждебность.
А ведь химия враждебности существовала параллельно химии аффинности. Эта химия враждебности объясняла аг-
3 Образы ушли, а слова остались. Мы ограничиваемся утверждением, что серная кислота нападает (attaque) на железо и не нападает на золото.
А В последнем случае слово 'бестиарий' означает 'гладиатор' или 'ук-ротитель диких зверей'.
D Можно понимать как 'близость, дружественность'.
64
рессивные силы минералов, прямо-таки зловредность ядов и отрав. Она знала мощные и многословные образы. Такие образы поблекли и ослабели, но в них можно вдохнуть новую жизнь под словами, ставшими абстрактными. По сути дела, именно химический и материальный образ за-частую наделяет жизнью анимализированные выражения. Так, 'грызущее' горе никогда бы не получило своего име-ни, если бы неутомимая ржавчина не оставляла следов своих крысиных зубок на железе топоров4. Если мы по-думаем о кролике, относящемся к отряду грызунов, то грызущее горе будет, если можно так выразиться, невня-тицей (coq-à-1'âne). Опосредованность материальным об-разом необходима для того, чтобы находить онирические корни выражения горя, грызущего сердце. Ржавчина пред-ставляет собой экстравертивный - и, несомненно, весь-ма неадекватный! - образ муки или искушения, грызу-щих душу.
Было бы трудноразрешимой проблемой разработать це-лую химию чувств, которая позволила бы определять наши внутренние тревоги посредством образов сердцевины суб-станций. Но такую экстравертизацию нельзя назвать на-
4 Один автор XVII века говорит, что 'ананас ест железо'. Если в анана-се оставить нож, то последний 'в течение дня будет съеден и поглощен плодом'. В таком тексте нужно придать полный смысл глаголу 'есть', ибо если мы продолжим чтение, то узнаем, что таким способом съеденное желе-зо обретается в стебле. К тому же, автор говорит об экзотических деревьях, в которых в качестве сердцевины ствола содержится железо. В этом случае мы видим, как слово 'есть' 'плавает' между буквальным и переносным смыслами. В XIX веке Пьер ЛеруA выводит из игры слов целую филосо-фию. Он разрабатывает несложную философию, основываясь на факте, что латинское 'esse' означает сразу и 'быть', и 'есть', и добавляет: '"Есть" значит отрицать, пожирать, быть жестоким, быть убийцей. Следовательно, "существовать" означает быть жестоким и убийцей... Кислота ест, и ще-лочь тоже; растение ест, животное ест, человек ест, все ест' (La Grève de Samarez. Livre II, p. 23). С большей погруженностью в грезы мы вернемся к двум значениям латинского слова 'esse' в главе о комплек-се Ионы.
А Леру, Пьер (1797-1871) - франц. политик. Был каменщиком, типог-рафским рабочим, затем журналистом. Исповедовал 'религию человече-ства'. Цель любой социальной организации видел в установлении равен-ства.
65
прасной. Она поможет нам вывести наши горести 'нару-жу', заставить функционировать наши беды так, как если бы это были образы. Творчество Якоба Бёме зачастую во всех подробностях одушевлено аналогичными про-цессами экстравертизации. Философ-сапожник проеци-рует анализ морали внутрь вещей; в борьбе между вос-ком и смолой он видит борьбу сладости и вяжущего на-чала.
Но экстравертизация недолговечна. Она обманчива, когда притязает добраться до сердца субстанций, поскольку, в конце концов, обнаруживает там всевозможные образы че-ловеческих страстей. Так, человеку, переживающему соб-ственные образы, можно показать 'борьбу' щелочей и кис-лот, но он на этом не остановится. Его материальное вооб-ражение незаметно превратит эту борьбу в борьбу воды и огня, а затем - в борьбу женского и мужского начала. Вик-тор-Эмиль Мишле все еще говорит о любви 'кислоты к щелочи, когда кислота убивает щелочь и самое себя, чтобы образовать соль'.
С точки зрения Гиппократа, здоровый человек есть слож-ное вещество, в котором вода и огонь находятся в равнове-сии. При малейшем недуге борьба двух враждебных стихий в человеческом теле возобновляется. Глухие ссоры являют себя по малейшему поводу. Тем самым можно перевернуть перспективу и заняться психоанализом здоровья. Средото-чие борьбы мы улавливаем в амбивалентности анимусаА и анимыB, в амбивалентности, порождающей в каждом из нас борьбу противоположных начал. Воображение усеивает об-разами именно противоположные принципы. Всякая раз-драженная душа вносит раздор в разгоряченное тело. И тогда она уже готова прочитывать в субстанциях всевозможные образы собственного волнения.
Впрочем, чтобы получить некоторый запас динамичес-ких образов, оживляющих переживание внутренней борь-
А Анимус - согласно терминологии Юнга, архетип, представляющий мужскую часть души субъекта.
B Анима - согласно терминологии К.Г. Юнга, архетип, представляю-щий женскую часть души субъекта.
66
бы, читателям, не желающим в своих грезах заходить слиш-ком далеко, достаточным будет поразмышлять о 'сильных' и 'слабых' кислотах. Фактически - в силу упрощенчес-кого постулата динамических образов - любая борьба со-пряжена с двоичностью. Но и обратно: для воображения всякая двоичность есть борьба. С точки зрения воображе-ния, как только субстанция перестает быть элементарной, она обязательно становится разделенной. И деление это происходит не мирным путем. Когда воображение стано-вится утонченным, его перестают удовлетворять субстан-ции с жизнью простой и монотонной. При малейшем бес-порядке, воображаемом внутри субстанций, грезовидец начинает считать себя свидетелем волнения и вероломной борьбы.
Материальные образы сокровенных распрей находят себе опору как в виталистских, так и в алхимических ин-туициях. Они сразу же сцепляются 'с гастрической ду-шой'. Психоаналитик Эрнст Френкель любезно предоста-вил нам статью, где он изучает пищеварительную инстан-цию психики под именем гастрической души. В ней он показывает, что гастрическая душа по сути является сади-ческой, и добавляет: 'Гастрический садизм есть садизм химика, подвергающего свою жертву воздействию жгучей кислоты'.
Когда мы поймем, как функционирует пессимистическое воображение, вкладывающее тревогу в сердце субстан-ций, мы иными глазами прочтем страницы, подобные тем, на которых Фридрих Шлегель в XIX веке истолковывает тучу саранчи как непосредственное порождение замут-ненного воздуха. И тогда саранча становится субстанци-ей зла, ставшей видимой: 'Что же говорить об этих роях саранчи... Что это, как не болезненное творение воздуха, инфицированного некими заразными элементами и под-вергшегося распаду? Я полагаю общепринятым, что воз-дух и атмосфера наделены жизнью и даже весьма тонко устроенной; я считаю, что впредь не будут оспаривать то, что этот самый воздух представляет собой хаотический состав противоположно направленных сил, в коем баль-замическое дыхание весны борется против жгучего ветра
67
пустыни и всякого рода заразных миазмов'5. Так дадим же воображению поработать, и мы уразумеем, что миазмы густеют до тех пор, пока не превращаются в саранчу. Это насекомое, умеющее быть сразу и зеленым, и сухим, - син-тез материально противоположных качеств6 - является зем-ной материей, порождаемой в самом воздухе дурными свой-ствами губительного флюида.
Разумеется, мы будем поставлены в тупик, если ради обоснования тезиса Шлегеля понадобится привести малей-ший объективный аргумент, ничтожный реальный образ. Но субъективных аргументов хоть отбавляй. Стоит дать волю материальному и динамическому воображению, иными сло-вами, стоит вернуть воображению его изначальную роль, 'разместив' его у порога речи и мысли, как мы ощутим анимализацию губительных флюидов, замутняющих и вол-нующих субстанции, достойные похвалы. Когда воображе-ние возвращают к его жизненно важной роли, состоящей в оценивании процессов материального обмена между чело-веком и вещами, когда оно становится поистине образным комментарием к нашей органической жизни, тогда гигие-на, естественно, обнаруживает собственные субстанциаль-ные образы с положительной или отрицательной оценкой. Молодое и здоровое дыхание мощно втягивает воздух, а сча-стливое воображение называет его чистым и, как утверждает философия жизни, 'воздухом, наделенным жизнью'. И на-оборот, сдавленная грудь обнаруживает 'сгущенный' воз-дух, согласно выражению, столь часто применявшемуся по-этами, которые разрабатывали тему сатанизма дурных запа-хов7. Итак, в воздухе две субстанции - хорошая и дурная - изначально находятся в состоянии борьбы.
5 Schlegel F. La Philosophie de la Vie. T. I, p. 296.
6 В царстве материального воображения зеленый цвет акватичен. Ср. саранчу, 'изготовленную' Сатаной из останков животных. (Hugo V. Légende des Siècles. Puissance égale Bonté).
7 Для Дю БартасаA Сатана - это 'Бунтовщик, Царь наиболее сгущен-ных воздухов' (La Semaine, p. 19).
А Дю Бартас, Гийом (1544-1590) - франц. поэт; гугенот. Автор поэм 'Седмица' (1579), живописующей семь дней Творения, и 'Вторая седми-ца', которая должна была описать историю человечества до Страшного суда, но осталась неоконченной.
68
В таком случае мы лучше поймем интуицию Шлегеля, воображавшего в самом воздухе столкновение двух проти-воположных сил, производящих добро и зло, мир или вой-ну, радости жатвы или стихийные бедствияA, благоуханные дуновения и миазмы. Так хочет чувство жизни, делающее живыми и жизненно важными все виды материи во вселен-ной. Тем самым чувствование воссоединяется с мышлени-ем, как этого хотел Зольгер8.
Однако раз уж мы взяли за правило мимоходом отме-чать разнообразные отношения между субстанциальными ценностями и их словесным выражением, то в надежде по-степенно собрать элементы выговоренного воображения сделаем несколько ремарок относительно чисто языкового понижения субстанциальных ценностей.
Существуют 'противодыхательные' слова, вызывающие у нас удушье, слова, заставляющие нас гримасничать. Они изображают у нас на лице волю к отказу. Если бы филосо-фы соблаговолили возвратить слова в наши уста вместо того, чтобы чересчур поспешно превращать их в мысли, они об-наружили бы, что произнесенное слово - или даже попро-сту слово, произнесение которого мы воображаем - явля-ется актуализацией бытия в целом. Целостность нашего бытия выстраивается с помощью речи, в частности, слова отказа влекут за собой такую искренность, что их невоз-можно вежливо вышучивать.
К примеру, послушайте, с какой искренностью мы про-износим слово 'миазмы'. Не задействована ли тут своего рода беззвучная ономатопея отвращения? Выбрасывается полный рот загрязненного воздуха, а затем рот энергично закрывается. Воля хочет сразу и молчать, и не дышать9.
Аналогично этому, вся химия XVIII века обозначала сло-вом moffetteB газ, вызывающий тошнотворные реакции; руд-
А Слово fléaux можно понимать и как 'цепы'.
8 См. Boucher M. Thèse, Paris, p. 89.
9 Было бы интересно сфотографировать какого-нибудь великого писа-теля, когда он произносит - или хотя бы пишет - слово moisi
(заплесневелый), играющее определенную роль в его материализме пре-зрения: 'Меня окутывает пошлый запах плесени'.
B Буквально: вонючка, т. е. углекислый газ или скунс.
69
никовые испарения. В этом слове отражается более сдер-жанное воображение, которое, однако, работает в том же направлении, что и миазмы, обозначая субстанции распа-да. Moffettes - это ученые гримасы.
Этот психологический реализм речи как бы наделяет тяжеловесностью дурной воздух, которым мы дышим. И тогда воздушные флюиды заряжаются злом, поливалент-ным злом, объединяющим в себе все пороки земной суб-станции, когда миазмы принимают на себя все зловоние болота, a moffettes - всю серу рудников. Небесный воздух таких гадостей объяснить не может. Тут необходима глу-бинно замутненная субстанция, но, прежде всего, субстан-ция, которая могла бы субстанциализировать тревогу. Весь XVIII век страшился материй лихорадки, материй зачум-ленности, материй, замутненных настолько глубоко, что они смущают сразу и вселенную и человека, Макрокосм и Мик-рокосм. По мнению аббата Бертолона, эти 'мефитические' ('моффетические') испарения, выходящие из рудников, вредят как электрическим, так и жизненным феноменам. Тлетворные пары вводятся в средоточия субстанций и вно-сят в них зародыш смерти, само начало распада.
Даже столь тусклое понятие, как износ, понятие в наше время, являющееся для рационального сознания совершенно экстравертивным, может выступать в перспективе интро-вертизации. И тогда мы сможем привести примеры, в кото-рых вообразим воздействие подлинной материи разрушения. Существо, как любят повторять, подтачивается изнутри. Но воображение обозначает это глубинное самоуничтожение через активную субстанцию, через зелье или яд.
В сущности, воображение субстанциализирует разруше-ние. Оно не может удовлетвориться обветшанием, внешним износом. В 1682 г. Дункан писал: при мысли о том, что наитвердейшие тела, в конце концов, изнашиваются, этот врач не желает, чтобы обвиняли попросту время. Он, ско-рее, воображает влияние Солнца или 'натиск тонкой мате-рии, которая стремительно проходит сквозь поры всех тел, незаметно разрушая их части'. И добавляет, переходя от догматизма к критике, как зачастую делают те, кто заменя-ет один образ другим: 'В этом общем рассеянии, в силу
70
которого постепенно изнашиваются наитвердейшие тела, время обвиняют разве что поэты'.
IV
Ради примера несчастной субстанции можно вспомнить массу страниц, на которых алхимики воскрешают матери-альный образ смерти или, точнее, материализованного рас-пада. Если три материальных начала Парацельса - сера, ртуть и соль - обыкновенно (как мы показали в предыду-щей работе) являются принципами единения и жизни, то они могут подвергнуться такому внутреннему перерожде-нию, что станут началами смерти, разлагающей даже внут-ренние части стихий9bis.
Этот материализм смерти весьма отличается от нашего отчетливого понятия причин смерти. Он весьма отличается и от персонификации Смерти. Без сомнения, Алхимик, как и все мыслители Средневековья, трепетал от символичес-кого представления Смерти. Он видел, как Смерть вместе с живыми танцует данс-макабр. Но эти более или менее за-вуалированные образы скелетов полностью не покрывают более приглушенных и субстанциалистских грез, когда че-ловек размышляет об активном распаде плоти. И тогда он боится уже не только образов скелета. Он страшится лярв, он страшится пепла и праха. В лаборатории он видел слиш-ком уж много процессов распада - с помощью водыА, с помощью огня, посредством известкового раствораB и по-тому может вообразить, что и сам обречен стать обезличен-ной субстанцией. Обрисуем некоторые из этих ученых стра-хов. Мы ощутим их тем более активными, чем крепче - как в эпоху алхимии - соединим их с реалиями Макрокосма и с человеческими реалиями Микрокосма.
Радикальная соль, связывающая в нашей плоти огонь души с радикальной влагой тела, может развязываться. И тогда смерть входит в саму субстанцию человека. Болезнь уже
9bis См. Земля и грезы воли. Гл. IX.
А Dissolution - не только распад, но и растворение.
B По-французски mortier, что ассоциируется с la mort (смерть).
71
представляет собой частичную смерть, болезнетворную субстанцию. А значит, Смерти - утверждает Пьер-Жан Фабр - тоже свойственно 'реальное и материальное пребывание' в нашем страдающем теле10.
Фабр входит в подробности распрей, терзающих субстан-ции, нарушающих функционирование крепчайших субстан-ций. Жизненно важной сере противостоят серы противоес-тественные.
Мышьяк и Реальгар, Орпин и Сандарак - до чего пре-красный александрийский стих! - относятся к последним.
Аналогично этому, всевозможные 'горячие и огненные яды, будь то небесные, воздушные, водяные или земные', являются материей лихорадки.
И точно так же 'ртуть смерти' с самого начала нашей жизни начинает свою работу распада. Это 'главный враг жизненной соли, коей она открыто объявляет войну', 'вы-зывающий порчу, гниение и разрушающий твердость во всех вещах, делая их мягкими и жидкими'. Будучи затопленным этой холодной ртутью, наше существо тонет изнутри. 'Мы вкушаем лихорадку вместе с водянистыми овощами', - го-ворит Рембо.
Так обнаруживается Контрприрода, которая борется с Природой, и борьба эта является глубинной; она происхо-дит в лоне наитвердейших субстанций.
Чтобы как следует уразуметь природу этой глубинной контрприроды, необходимо вновь увидеть все алхимичес-кие грезы о сокровенности. Сначала нужно вспомнить, что минерал обладает некоей минеральной жизнью, затем - что эта минеральная жизнь с эпохи Парацельса изучается по своему воздействию на человеческую жизнь. Человечес-кое тело превратилось в аппарат для экспериментов, в ре-торту, в атанор. Именно в человеческом сосуде предстоит свершиться наиболее интересным и ценным эксперимен-там. Алхимик занимается поисками скорее питьевого золо-та, нежели золота в слитках. Он работает скорее над мета-форами золота, нежели над его реальностью. И совершен-
10 Fabre P. Abrégé des secrets chymiques. Paris, 1636, p. 91.
72
но естественно, что самой большой ценностью он наделяет величайшие метафоры, метафоры молодости.
Но вот, насколько 'хрупкими' должны быть такие цен-ности? Если какая-нибудь химическая субстанция свиде-тельствует о собственной чрезвычайной ценности в каче-стве снадобья, то в какой измене можно будет ее уличить? Если лекарство действует неправильно, оно целиком несет за это ответственность. Изнемогающее человеческое тело ни в чем не обвиняют. В ртуть из микстуры (potion)A про-кралась ртуть яда (poison). Сера жизни извращается, стано-вясь серой смерти, с тех пор как 'разогреватель' перестает выполнять свою задачу, а питьевое золото уже не возвра-щает отвагу в ослабевшее сердце".
Вот так телесная сокровенность человека задействована в определении ценностей, связанных с минералами. Не надо удивляться тому, что контрприрода субстанций проявляет-ся в масштабе человека. Ведь именно в человеке и через человека природа определяет себя в качестве контрприро-ды. Для многих алхимиков материальное начало смерти смешалось с материальными началами жизни в миг перво-родного греха. Первородный грех вложил червя в яблоко, и все плоды мира как в своей реальности, так и метафори-чески от этого испортились. Материя разложения прокра-лась во все предметы. А плоть с тех пор стала самим оли-цетворением вины.
Плоть сама по себе есть материальный ад, субстанция, раздираемая, терзаемая, непрестанно волнуемая распрями. У этой адской плоти есть место в Аду. В Аду, говорит Пьер-Жан Фабр (Abrégé des secrets chymiques, p. 94), сосредото-чены 'все недуги', и не столько как 'казни', сколько как
А Франц. слово poison 'яд' произошло от potion 'микстура', ранее означавшего питье в широком смысле.
11 Jarry A. Spéculations. Éd. Charpentier, 1911, p. 230: 'Язык, который регистрирует истины, освященные опытом, но с течением времени пере-ряживает их, фабрикуя удобные заблуждения, сопоставляет в этимологи-ческих дублетах два полюса антиномии: мы говорим "poison" (яд) и "potion" (микстура). Простонародное и устрашающее слово poison было придумано массой наивных душ ради обозначения лекарств, к которым они не дерза-ли прикасаться каждый день...'
73
'казнимая материя'. Там царят 'смешение и хаос невооб-разимых бедствий'. Субстанциальный ад - это как раз смесь противоестественной сферы, чуждой влаги и разъедающей соли. В этой адской субстанции вовлечены в борьбу всевоз-можные силы минеральной бестиальности. Мы видим, как в такой субстанциализации зла действуют необычные потен-ции материальной метафоры. Речь идет поистине об абст-рактно-конкретных образах, и они уносят в сферу интен-сивности то, что мы чаще всего подвергаем воздействию безмерности. Они нацелены в средоточие зла, они концент-рируют муки. Фигурально представляемый Ад, Ад со своим антуражем, Ад со своими чудовищами создан для того, что-бы задевать воображение простонародья. Алхимик полагал, что в своих медитациях и творениях он давно выделил суб-станцию чудовищности. Но у настоящего алхимика благо-родная душа. И возиться с квинтэссенцией чудовищного он предоставляет колдуньям. К тому же, колдунья работает лишь с животным и растительным царствами. Ей неведомо наиболее сокровенное зло, то, что вписано в извращенный минерал.
V
Но мы не увидим конца работы, если пожелаем изучить в подробностях образы раздора в сокровенном, всяческие виды динамизма сил, рождающихся от распрей внутри су-щества, различные грезы взбунтовавшейся оригинальнос-ти, из-за которой существо уже не хочет быть тем, что оно есть. В этих наскоро сделанных заметках нам хотелось бы всего лишь обозначить глубину перспективы, которую мож-но охарактеризовать как пессимизм материи. Мы хотели бы показать, что греза о враждебности может наделяться настолько глубинным динамизмом, что парадоксальным об-разом она повлечет за собой расщепление простого, разде-ление стихии (элемента). В лоне любой субстанции вообра-жение материализованного гнева порождает образ контр-субстанции. И тогда кажется, что субстанция сохраняется, борясь с враждебной субстанцией в самом лоне собственно-го бытия. Тем самым алхимик, субстанциализирующий все
74
свои грезы, а также реализующий собственные провалы в той же степени, что и упования, формирует подлинные ан-тистихии. Такая диалектика уже не довольствуется аристо-телианскими оппозициями качеств - ей требуется диалек-тика сил, сопряженных с субстанциями. Иначе говоря, про-должая первогрезы, диалектическое воображение уже не удовлетворяется оппозициями между водой и огнем - оно стремится к более глубоким распрям, к раздорам между субстанцией и ее качествами. Читая алхимические сочине-ния, мы часто встречались с материальными образами хо-лодного огня, сухой воды, черного солнца. Более или менее эксплицитные, более или менее конкретные, они еще по-являются в материальных грезах поэтов. Поначалу они ха-рактеризуют волю к противоречию видимости, затем - волю к увековечению этого противоречия с помощью внутрен-него и фундаментального разлада. Тот, кто следует по пути таких грез, сначала выделяется оригинальным поведением, означающим готовность бросить всевозможные вызовы ра-зумному восприятию, а впоследствии становится жертвой этой оригинальности. И тогда его оригинальность превра-щается всего лишь в процесс отрицания.
В воображении, находящем удовлетворение в таких обра-зах радикальной оппозиции, укоренена амбивалентность са-дизма и мазохизма. Несомненно, эта амбивалентность хоро-шо знакома психоаналитикам. Однако они изучают разве что ее аффективный аспект, область социальных реакций на нее. Воображение заходит дальше; оно творит философию, оно обусловливает манихейский материализм, в коем субстанция всех вещей превращается в арену ожесточенной борьбы, фер-ментации враждебности. Воображение приступает к онтоло-гизации борьбы, когда существо характеризует себя как 'про-тиво-я' (contre-soi), сливая воедино палача и жертву, палача, у которого нет времени насытиться собственным садизмом, и жертву, которой не позволяют удовлетвориться ее мазохиз-мом. Покой отрицается раз и навсегда. Сама материя не име-ет на него права. Так утверждается внутреннее волнение. Тот, кто следует подобным образам, в результате познает динами-ческое состояние, как правило, переживаемое не без упое-ния: это суета как таковая. Это муравейник - и только.
75
VI
Один из значительных факторов внутреннего волнения вступает в игру, как только мы начинаем воображать сум-рак. Если с помощью воображения в этом замкнутом ноч-ном пространстве мы входим внутрь предметов, если мы действительно переживаем их сокровенную черноту, мы обнаруживаем сердцевину несчастий. В предыдущей главе мы расстались с образом тайной черноты молока, припи-сав ему безмятежность. Но он может быть и признаком глу-бинных волнений, и теперь необходимо вкратце отметить враждебный характер таких образов. Если бы мы могли объединить и расклассифицировать все черные образы, об-разы субстанциальной черноты, то, на наш взгляд, можно было бы собрать хороший литературный материал, способ-ный служить дополнением фигуративного материала рор-шаховского анализа. Лично мы познакомились с превос-ходными трудами Людвига Бинсвангера и Роланда Куна, посвященными Dasein-анализуА и анализу тестов Рорша-хаВ, слишком поздно. И потому мы сумеем воспользовать-ся ими лишь в одной из следующих работ. Так ограничим-ся же в конце этой главы несколькими замечаниями, спо-собными обозначить ориентацию наших исследований.
Среди десяти карточек анкеты Роршаха фигурирует на-громождение внутренней черноты, зачастую производящее 'черный шок' (Dunkelschock), т. е. вызывающее глубокие эмоции. Так, стоит лишь начать грезить о глубинах одного-единственного черного пятна с внутренним узором, как мы оказываемся в ситуации сумрака. Это явление удивит лишь психологов, которые отказываются дополнять психологию формы психологией воображения материи. Тот, кто следу-ет собственным видениям, и, в особенности, тот, кто виде-
А Dasein-анализ - термин экзистенциальной терапии Л. Бинсвангера.
В Тест Роршаха разработан цюрихским психиатром Германом Рорша-хом (1884-1922) в 1921 г. Пациенту предлагается 10 цветовых пятен, 5 из которых - черные, 2 - красно-черные и 3 - пастельных тонов. Психолог спрашивает испытуемого о том, на какие мысли его наводит то или иное пятно. После этого делается вывод о 'нормальности' пациента и о состо-янии архаических уровней его сознания.
76
ния комментирует, не может оставаться в кругу форм. При малейшем зове сокровенности он проникает в материю сво-ей грезы, в материальную стихию своих фантазмов. В чер-ном пятне он прочитывает эмбриональные возможности или беспорядочную суету лярв. Всякий сумрак текуч, следова-тельно, всякий сумрак материален. Так протекают видения ночной материи. А у настоящего грезовидца сокровеннос-ти субстанций какой-нибудь тенистый уголок может воз-буждать прямо-таки страхи всеобъемлющей ночи.
Весьма часто, черпая материал для своей уединенной ра-боты в книгах, мы завидовали психиатрам, которым жизнь каждый день предлагает все новые 'случаи', пациентов, приходящих к ним со всей своей психикой. Для нас же 'слу-чаями' являются совершенно неприметные образы, обна-руживаемые в уголках страниц, в изолированности нео-жиданной фразы, без всякой вовлеченности в описания реальности. Между тем, несмотря то, что наш метод редко способствует успехам, у него есть одно преимущество: он оставляет нас 'наедине' с одной лишь проблемой выраже-ния. Стало быть, у нас есть средство для создания психоло-гии самовыражающегося субъекта, а точнее - субъекта, во-ображающего собственное выражение, субъекта, изливающего свою ответственность в самой поэтике самовыражения. Если бы наши усилия увенчались успехом, у нас возникла бы возможность рассмотрения мира выражения как самостоя-тельного мира. Мы увидели бы, что этот мир выражения иногда предстает как средство освобождения с точки зре-ния трех миров, учитываемых Dasein-анализом - Umwelt'a, Mitwelt'a и Eigenwelt'a - окружающего мира, мира межче-ловеческого общения и личного мира. Здесь можно прове-сти разграничение, как минимум, между тремя мирами выражения, тремя видами поэзии. К примеру, исходя из космической поэзии, можно увидеть, как она осуществляет освобождение реального мира, освобождение окружающего нас, стискивающего нас, угнетающего нас Umwelt'a. Вся-кий раз, когда нам удавалось возвести образы на косми-ческий уровень, мы отдавали себе отчет, что такие образы наделяют нас счастливым сознанием, сознанием демиурга. Если сопоставить труды Людвига Бинсвангера с работами
77
МореноА, то, возможно, имеет право на существование сле-дующая схема. С Eigenwelt'oM, миром личных фантазмов, можно было бы сравнить психодраму, с Mitwelt'ом, межче-ловеческим миром - социодраму. В таком случае к Umwelt'y, к так называемому реальному миру, к миру, ре-альность восприятия которого декларируется, пришлось бы подойти с принципами материального воображения. Тогда бы удалось разработать особую психическую инстанцию, которую достаточно удачно можно было бы назвать инстан-цией космодрамы. Грезящий занялся бы работой над ми-ром, он сталкивался бы с экзотикой на дому, он взялся бы за героическую задачу борьбы с материей, он вступал бы в битвы с сокровенной чернотой, он определял бы своих со-юзников в соперничестве тинктур. Он восторжествовал бы над мелочами образов, над всякими 'черными шоками'.
Но чтобы описать эти битвы, эти распри в сокровенном, потребовалась бы целая книга. Мы же в ближайшей главе намерены довольствоваться рассмотрением битвы между двумя прилагательными. Мы увидим, что эта простая диа-лектика приносит воображающему счастливую бодрость.
А Морено, Джейкоб Леви (1892-1974) - амер. социопсихолог румын. происхождения. Создатель психодрамы, а также теорий социометрии и групповой динамики. Осн. работа - 'Кто выживет?' (1934).
Глава 3. Воображение качеств. Ритмический анализ и нюансировка
Когда мы пишем, мы буквально
предаемся излишествам.
Анри Мишо. Свобода действий
I
Любые психологические описания, относя-щиеся к воображению, исходят из того по-стулата, что образы с большей или меньшей верностью воспроизводят ощущения, а когда какое-либо ощущение обнаруживает в субстанции ощутимое качество - вкус, запах, звук, цвет, гладкость, округлость - мы с трудом ви-дим, как воображение может преодолеть этот изначальный урок. В таком случае в царстве качеств воображению сле-довало бы ограничиться комментариями. В силу этого нео-споримого постулата мы пришли к тому, что преоблада-ющая и длительная роль отводится именно познанию качеств. В действительности, любые проблемы, ставив-шиеся качествами разнообразных субстанций, всегда разрешались как метафизиками, так и психологами, имен-но в плане познания. Даже когда начинают вырисовываться экзистенциалистские темы, качество сохраняет свою сущ-ность чего-то познанного, испытанного, пережитого. Каче-ство есть то, что мы познаем в субстанции. Сколько ни до-бавляй к этому познанию всевозможных свойств сокровен-ности или неповторимой свежести мгновения, нам всегда хочется, чтобы качество обнаруживало бытие и способ-
79
ствовало его познанию. Даже своим сиюминутным опытом мы гордимся, словно нерушимым знанием. Мы превраща-ем его в основу наиболее непреложного узнавания. К при-меру, склонность к воспоминаниям дана нам ради того, чтобы мы узнавали свою пищу. И - подобно Прусту - мы изумляемся изысканной надежности простейших воспо-минаний, таким способом сопрягаемых нами с глубинами материи.
Если же теперь, радостно вкушая плоды новой осени, мы примешиваем к своим ощущениям безудержную хвалу, если мы воображаем целый мир для того, чтобы похвалить одно из его благ, то создается впечатление, будто мы поки-даем радость ощущения ради радости говорения. И тогда кажется, будто воображение качеств мгновенно располага-ется на обочине реальности. У нас есть наслаждения, и мы сочиняем о них песни. Теперь лирическое упоение пред-стает как всего лишь пародия на дионисийскую опьянен-ность.
Несмотря на весьма разумный и классический характер этих возражений, нам кажется, что они попадают мимо смысла и функции страстной привязанности к субстанци-ям, которые мы любим. Короче говоря, воображение, на-зываемое нами абсолютно позитивным и изначальным, бе-рясь за тему качеств, должно отстаивать экзистенциальность собственных иллюзий, реальность своих образов, саму но-визну своих вариаций. Итак, согласно нашим общим тези-сам, нам следует поставить проблему воображаемой ценно-сти качеств. Иначе говоря, качество, с нашей точки зре-ния, предполагает столь значительное оценивание, что его пассионарная ценность не замедлит вытеснить его познание. В способе, каким мы любим ту или иную субстанцию или расхваливаем ее качества, обнаруживается реактивный ха-рактер всего нашего бытия. Воображаемое качество откры-вает нам нас самих как квалифицирующий субъект. А до-казательство того, что поле воображения покрывает все, что оно гораздо больше поля воспринимаемых качеств, состо-ит в том, что реактивный характер субъекта обнаруживает-ся в аспектах, более всего друг другу противопоставленных:
80
в безудержности и концентрации - когда человек тысячью жестов выражает приятие мира и когда человек углубляется в удовольствия, связанные с ощущениями.
Вот так, затрагивая проблему субъективной ценности об-разов качества, мы должны убедиться в том, что проблема их значения уже не является первостепенной. Ценность ка-чества располагается в нас вертикально; наоборот, значе-ние качества в контексте объективных ощущений присут-ствует в нас горизонтально.
В таком случае мы можем сформулировать Коперни-ков переворот в области воображения, по мере возмож-ности ограничиваясь психологической проблемой вооб-ражаемых качеств: вместо того, чтобы искать качество в целостности объекта, как глубинный признак его субстан-ции, качество следует искать в тотальном сцеплении с объектом субъекта, с головой окунающегося в то, что он воображает.
Бодлеровские соответствия давно научили нас вести под-счет качеств, соответствующих разным органам чувствА. Од-нако они возникают в плане значений, в атмосфере симво-лов. Теория воображаемых качеств должна не только до-вершить бодлеровский синтез, добавив к нему наиболее глубокие и скрытые типы органического сознания; она дол-жна еще и способствовать развитию некоего разбухающего сенсуализма, дерзновенного и упоенного собственной не-точностью. Без такого органического сознания и этого чув-ственного буйства соответствия рискуют оставаться на уров-не ретроспективных идей, оставляющих субъект в созерца-тельной позиции, в позиции, отнимающей у него ценности сцепления.
Когда счастье от воображения продлевает счастье ощу-щения, качество задается целью накапливания ценностей. В царстве воображения не бывает ценности без поливален-тности. Идеальный образ должен соблазнять нас через все наши органы чувств, и он должен обращаться к нам по ту
A Имеется в виду часто упоминаемое Башляром стихотворение Ш. Бод-лера 'Соответствия' из сборника 'Цветы зла'.
81
сторону наиболее явно задействованного смысла. В этом-то и секрет соответствий, приглашающих нас к многослож-ной жизни, к жизни метафорической. Ощущения теперь становятся разве что случайными причинами изолирован-ных образов. Подлинной причиной, вызывающей прилив обра-зов, поистине является причина воображаемая; пользуясь двойственным характером функций, упоминавшихся нами в предыдущих книгах, мы охотно сказали бы, что функция ирреального есть функция, которая действительно динами-зирует психику, тогда как функция реального представляет собой функцию остановки, функцию ингибирования, фун-кцию, редуцирующую образы так, что к ним возвращается простая ценность знаков. Следовательно, мы наглядно ви-дим, что наряду с непосредственными данными ощущения следует принимать во внимание непосредственные 'взно-сы' воображения.
Где можно лучше пронаблюдать действие ирреального, нежели в выговоренных ощущениях, в ощущениях, кото-рыми похваляются, в ощущениях литературных?
С точки зрения самовыражающегося сознания первым благом является образ, и значительные ценности этого об-раза состоят в самом его выражении.
Самовыражающееся сознание! А что, бывают другие?
II
Диалектика ценностей одушевляет воображение качеств. Воображать качество означает наделять его ценностью, пре-восходящей ощутимую ценность, ценность реальную, или же ей противоречащей. Воображение проявляется, оттачи-ваясь на чувствах, растормаживая неглубокое ощущение цвета или запаха, и восхищается их тонкостью и разнооб-разием. В самотождественном ищут иного.
Возможно, эта философия прояснилась бы, если бы мы поставили проблему воображения качеств, исходя из точки зрения воображения литературного. Мы без труда привели бы примеры, когда один орган чувств возбуждается при помощи другого органа. Иногда существительное сенсиби-
82
лизируется посредством двух противоположных прилагатель-ных. В сущности, какой прок в царстве воображения от существительного, снабженного одним-единственным при-лагательным? Не будет ли тогда прилагательное сразу же поглощено существительным, да и как прилагательное бу-дет сопротивляться этому поглощению? Какова же роль единственного прилагательного, если не ложиться бреме-нем на существительное? Сказать, что гвоздика является крас-нойА не то же самое, что привести выражение красная гвозди-ка (œillet rouge). Богатый язык выразил бы это одним словом. Следовательно, ради передачи 'ржания' красного аромата гвоз-дики, когда мы его впиваем, требуется нечто большее, чем связанные между собой слова 'красная' и 'гвоздика'. Кто поведает нам об этом внезапно возникшем качестве? Кто про-будит садизм и мазохизм нашего воображения при созерца-нии этого отважного цветка? - Аромат красной гвоздики, 'глаз-ка', который не может позволить не обращать на себя внима-ние даже зрению, - вот запах непосредственной реакции, о нем следует молчать, или же его надо любить!
Сколько же раз писатели пытались приблизить друг к другу отдаленные и антитетичные слова, - в основном, это касается качественных прилагательных, противоречащих друг другу при определении одного и того же слова... На-пример, в книге, где всех персонажей удалось одушевить точнейшей психологической амбивалентностью, где все про-исшествия и - как мы увидим - сами слова вызывают вибрацию этой амбивалентности, Марсель Арлан (Etienne, р. 52) услышал, как молодая женщина пела 'хорошо по-ставленным голосом полунаивный, полунепристойный ро-манс в стиле старых крестьянок'. Требуется недюжинная психологическая сноровка, чтобы поддерживать в состоя-нии равновесия сталкиваемые писателем борт о борт два прилагательных, каждое из которых несет половину смыс-ла: полунаивный, полунепристойный. Психоанализ риску-ет оказаться чересчур догматичным в отношении весьма
А Œillet - гвоздика и глазок.
83
тонких и подвижных нюансов. Он наскоро изобличит фаль-шивую наивность; при малейшем упоминании слова полу-непристойный он посчитает обоснованным разоблачение всевозможных недомолвок. А ведь писатель имел в виду нечто иное; он говорит о 'нерастраченной' невинности, о еще могучих корнях свежей наивности. Надо следовать его замыслу, представляя себе равновесие между его образами; необходимо слушать молодую женщину, которая поет ста-рую песню хорошо поставленным голосом. И тогда у нас будет удобный случай пережить ритмический анализ, како-вому по силам восстановить две противоположные тенден-ции в ситуации, когда существо с двумя противоположны-ми качествами самовыражается как таковое, как существо, двусмысленно самовыражающееся.
Впрочем, мы не можем углубляться в анализ моральных качеств, который так легко наталкивает нас на примеры двусмысленных выражений. Наша работа лишь выиграет от сосредоточенности на качествах материальных, на вообра-жении, получающем нюансировку с помощью двух проти-воположных качеств, прилагаемых к одной и той же суб-станции, к одному и тому же ощущению.
Например, в 'Чревоугодии' Эжен СюA показывает нам каноника, вкушающего 'яичницу из яиц цесарки, жарен-ных на перепелином жиру и опрысканных подливкой из раков'. Счастливый едок пьет 'вино, сразу и сухое, и бар-хатистое' (éd. 1864, р. 232). Несомненно, такое вино может показаться сухим, когда оно сразу ударяет в голову, а за-тем, по некотором размышлении - бархатистым. Но гур-ман то и дело приговаривает об этом вине: 'Как же оно тает!' Кроме прочего на этом примере можно представить себе сопряжение метафор с реальностью; если дотрагивать-ся пальцем до вещей сухих и вещей бархатистых, они будут без устали друг другу противоречить; так, шероховатость бархата шла бы вразрез с его торговой ценностью. Но стоит лишь перенести прилагательные из убогой сферы осязания
А Сю, Эжен (Мари-Жозеф) (1804-1857) - франц. писатель.
84
в область великолепия вкуса, как они начнут обозначать изысканнейшие оттенки. Описаниям вина свойственна мас-са невероятных тонкостей. Мы приведем и другие примеры на эту тему, которые будут на наш взгляд, тем нагляднее, чем удаленнее от сферы ощущений. Противоречия, кото-рые оказались бы нестерпимыми в их первичном ощути-мом состоянии, оживут при их транспозиции в другой орган чувств. Так, в 'Яшмовой трости'А Анри де Ренье говорит о 'клейких и гладких' водорослях (р. 89). Осязание не может объединить эти два прилагательных при отсутствии зрения, зрение же выступает здесь в роли метафизического осязания.
Такой выдающийся стилист визуальных качеств, как Пьер ЛотиB, умело исходит из мощного противоречия между све-том и тенью и делает это противоречие более ощутимым, уменьшая его экспрессию. Например, едва успел он пока-зать нам 'пронзительные сполохи света, натыкающиеся на громадные жесткие тени', как тут же этот удар резонирует в 'гамме жгуче-серого и красновато-коричневого'. Застав-лять серое ярко гореть, пробуждать читателя, заблудивше-гося среди гризайли собственных книг - вот в чем мастерство писательского искусства. Пылающий серый цвет у Лота - един-ственная по-настоящему агрессивная серость, какую я встре-чал в книгах (Fleurs d'Ennui. Suleima, p. 318).
A вот другой пример, в котором звук диалектически об-работан воображаемыми интерпретациями. Когда Ги де Мопассан слушает реку, незримо текущую под ивами, ему слышится 'громкий звук, сердитый и нежный' (La Petite Roque, p. 4). Вода ворчит. Упрек ли это или просто звук? А действительно ли добр этот нежный шепот? Может, это го-лос полей? И как раз в овраге на дороге, которая тянется вдоль реки, происходит описанная писателем драма. Все
А Ренье, Анри де (1864-1936) - франц. писатель. Эволюционировал от 'Парнаса' к символизму, затем к неоклассицизму, затем снова к 'Парна-су'. Его творчество проникнуто ностальгией по античной красоте и среди-земноморским пейзажам.
B Лота, Пьер (Жюльен Вио) (1850-1923) - франц. писатель, морской офицер. Прославился увлекательностью стиля и разнообразием поверхно-стных сюжетов.
85
существа мира, все голоса пейзажа становятся в умело по-строенном повествовании pars familiarisA и pars hostilisB для человека воображающего, словно печень жертвенного жи-вотного, которую разглядывали римские жрецы. Мирная река говорит в этот день о страхах, связанных с преступле-нием. В таком случае медленно читающий может предаться грезам, исходя из самих подробностей фраз. Здесь - в промежутке между ворчливой нежностью и ласковым гне-вом - он сможет провести ритмический анализ впечатле-ний, часто блокируемых 'единой' системой обозначений. Настоящий психолог обнаружит в человеческом сердце союз противоположных аффектов, транспонирующий более гру-бые амбивалентности. Недостаточно сказать, что страстное существо одушевляется одновременно и любовью, и нена-вистью; необходимо узнать эту амбивалентность в самых что ни на есть затаенных впечатлениях. Так, в 'Черном ветре' Поль Гаденн приводит массу точных амбивалентно-стей. В одной главе один из его героев смог сказать: 'Я ощущал в себе столько же кротости, сколько и буйства.' Синтез поистине редкостный, однако упомянутая книга Поля Гаденна демонстрирует всю его реальность.
Стало быть, в литературе следует проводить различие между прилагательным, ограничивающимся как можно бо-лее точной характеристикой объекта, и прилагательным, затрагивающим сокровенность субъекта. Когда субъект все-цело предается своим образам, он подходит к реальности с позиции гадательной воли. В объекте, в материи, в стихиях субъект ищет предостережений и советов. Но такие голоса не могут произносить ясные речи. Они сохраняют оракуль-скую двусмысленность. Вот почему чтобы небольшие ора-кульские объекты заговорили с нами, им требуется сочета-ние слегка противоречащих друг другу прилагательных. В повести, с полным правом возводимой к вдохновению Эдгара По, Анри де Ренье припоминает голос, звуки ко-
А Дружественная сторона (лат.).
B Враждебная сторона (лат.).
86
торого 'казались столкновением прозрачных и ночныхА кристаллов'1. Прозрачные и ночные! Какая нюансировка нежной и содержательной грусти! Образ становится все глубже, и писатель, следуя за своей грезой и видя мыс-ленным взором прозрачность и тень ночи, воскрешает в памяти 'источник в кипарисовом лесу', - то, чего лич-но я никогда не видел, то, что я с трепетом стремлюсь увидеть... Да-да, и я знаю почему: в тот день я не прочел больше ни строчки...
III
Но повторим: энергия образов, их жизнь не приходит со стороны объектов. Воображение есть - прежде всего - нюансированный субъект. На наш взгляд, этой нюансировке субъекта присущи два несходных вида динамизма, в зави-симости от того, совершается ли она при своеобразном на-пряжении всего существа или же, наоборот, в некотором роде в состоянии совершенно расслабленной и всеприем-лющей свободы, готовой к взаимодействию образов, кото-рые поддаются тонкому ритмическому анализу. Порыв и вибрация - это два весьма разнородных вида динамики, когда мы ощущаем их живость.
Рассмотрим сначала примеры, в которых напряжение сенсибилизирует существо, доводя его до пределов чувстви-тельности. В этих случаях ощутимые соответствия появля-ются не у основания различных органов чувств, а на их психических вершинах. Это поймет тот, кто в чернейшую ночь страстно ждал любимое существо. Тогда напряженное ухо хочет видеть. Если провести опыт на самих себе, то мы заметим диалектические отношения между ухом 'собран-ным' и ухом напряженным, когда напряжение ищет 'ту
А Франц. прилагательное 'nocturne' гораздо изысканнее русск. 'ноч-ной' и употребляется лишь в особых контекстах. Ср. русск. заимствование ноктюрн.
1 Régnier H. de. La Canne de Jaspe. Manuscrit trouvé dans une Armoire, p. 252.
87
сторону' звука, а собранное ухо спокойно наслаждается приобретенным богатством. Томас Гарди пережил такую трансцендентность ощущений и отчетливо записал ее2. 'Его внимание было напряжено до такой степени, что казалось, будто его уши чуть ли не выполняют зрительную функцию точно так же, как и слуховую. Такое расширение способ-ностей органов чувств в подобные моменты можно лишь констатировать. Вероятно, под властью эмоций такого рода находился глухой доктор Китто, когда - по слухам - в результате длительных тренировок ему удалось сделать соб-ственное тело настолько чувствительным к воздушным виб-рациям, что он слышал им, будто ушами.' Конечно, не наше дело - дискутировать по поводу реальности таких притяза-ний. Для нашей темы достаточно, чтобы их воображали. Достаточно, что великий писатель Томас Гарди воспользо-вался ими как приемлемым образом. Именно этот прин-цип, заимствованный у арабов, вспоминает Гумбольдт: 'Луч-шее описание - то, которое превращает ухо в глаз'3.
Аналогично этому испуганный человек слышит страш-ный голос всем содрогающимся телом. До чего же недоста-точны медицинские описания слуховых галлюцинаций у Эдгара По! Медицинское объяснение зачастую делает гал-люцинацию сплошной, не распознавая ее диалектического характера, ее трансцендирующего воздействия. Визуальные образы, создаваемые напряженным ухом, переносят вооб-ражение по ту сторону безмолвия. При интерпретации ощу-щений образы не формируются ни вокруг реальных полу-теней, ни вокруг шепотов. Образы необходимо пережить в самум действии напряженного воображения. О материале ощущений, предоставляемом писателем, следует судить как о выразительных средствах, о средствах доведения до чита-теля совершенно изначальных образов. Существует способ чтения рассказа 'Падение дома Эшеров' с чистотой слухо-вого воображения, когда тому, что мы видим, мы возвра-щаем основополагающую связь с тем, что мы слышим, с
2 Hardy Th. Le Retour au Pays natal. Trad. 3-е partie, p. 156.
3 Humboldt A. Cosmos. Trad., II, p. 82.
88
тем, что слышал великий грезовидец. Не будет преувеличе-нием сказать, что он слышал борьбу темного цвета со смут-ными и расплывчатыми свечениями. Читая эту величай-шую из повестей о затухающем пейзаже с вниманием ко всем ее воображаемым отзвукам, мы обретем откровение самой чувствительной из человеческих арф, которые ког-да-либо содрогались при пролетании какой бы то ни было темной материи, движущейся ночью.
Итак, когда воображение вкладывает в нас наиболее интенсивную чувствительность, мы отдаем себе отчет в том, что воспринимаем качества не столько как состояния, сколько как становления. Качественные прилагательные, пережитые в воображении - да и как пережить их иначе - ближе к глаголам, нежели к существительным. Красный ближе к глаголу краснеть, чем к существительному красно-та. Воображаемый красный цвет вот-вот потемнеет или по-блекнет, в зависимости от онирического веса воображаемых впечатлений. Всякий воображаемый цвет превращается в слабый, эфемерный, неуловимый нюанс. Он причиняет Тан-таловы муки грезовидцу, желающему его обездвижить.
Эта 'тантализация' затрагивает все воображаемые каче-ства. Великие сенсибилизаторы воображения, такие, как Рильке, По, Мэри Уэбб, Вирджиния Вулф, умеют заста-вить соприкасаться между собой 'слишком' и 'недостаточ-но'. Это требуется ради того, чтобы простым чтением обус-ловить сопричастность читателя описанным впечатлениям. В том же духе высказался Блейк: 'Не узнаешь меры, пока не узнал избытка' ('Бракосочетание Рая и Ада'А). Жид де-лает следующее примечание к своему переводу этой фразы: 'Буквально: ты не можешь знать, чего достаточно, если ты сначала не изведал того, что более чем достаточно'. Совре-менная литература изобилует образами избыточности. Так, Жак ПреверВ в 'Набережной туманов' пишет: 'Я изобра-
А Блейк У. Стихи. М., 1982, с. 361. Пер. А. Сергеева.
B Превер, Жак (1900-1977) - франц. писатель. Автор известных песен и киносценариев для Ж. Ренуара и М. Карне ('Набережная туманов' - 1938).
89
жаю то, что находится по ту сторону видимого. Например, когда я вижу пловца, я описываю утопленника'. Вообража-емый утопленник определяет нюансировку пловца, кото-рый борется не просто с водой, но именно с водой опасной и убийственной. Самая напряженная борьба происходит не против реальных сил, она разворачивается против сил во-ображаемых. Человек - драма символов.
Так, не ошибается тот здравый смысл, который - со-гласно шаблону - твердит, что настоящие поэты вызыва-ют у нас 'вибрацию'. Но ведь если это слово наделено оп-ределенным смыслом, необходимо как раз то, чтобы 'слиш-ком' напоминало о 'недостаточно', а недостаточно тотчас же 'слишком' переполнялось. Лишь тогда интенсивность того или иного качества обнаруживается в ощущении, во-зобновляемом посредством воображения. Переживать ка-чества можно, лишь переживая их вновь и вновь при учас-тии всего, что приносит воображаемая жизнь. Д. Г. Лоу-ренс пишет в одном письме: 'Внезапно в этом мире, пол-ном тонов, оттенков и отблесков, я улавливаю некий цвет; он вибрирует на сетчатке моих глаз, я окунаю в него кисть и восклицаю: вот он, цвет!' (Цит. по: Reul P. de, p. 212). Правильно думает тот, кто считает, что этим методом 'ре-альность' не изобразишь. Мы входим в мир образов 'на дружеской ноге' с ними, или, точнее, становимся нюанси-рованным подлежащим при глаголе 'воображать'.
Из-за собственной чувствительности образ, находящий-ся между 'недостаточно' и 'слишком', никогда не бывает окончательным; он живет в дрожащей длительности, в не-коем ритме. Любой светящийся валер наделен ритмом цен-ностей (valeurs)4. И ритмы эти медлительны, ими распоря-жается именно тот, кто желает медленно их переживать, смакуя свое удовольствие.
И вот здесь-то чисто литературное воображение как бы устраивается помощником к всевозможным блаженствам,
4 Надо ли говорить, что этот ритм не следует путать с вибрациями, о которых говорят физики?
90
доставляемым образами; оно приглашает субъект к вообра-жаемым радостям, к радостям, воображаемым как во благо, так и во зло. В продолжение наших исследований вообра-жаемых стихий мы часто встречались с этим резонансом глубинных слов, слов, которые - согласно выражению Ива Беккера - можно назвать словами-пределами:
Eau, lune, oiseau, mots limites.
(Вода, луна, птица, слова-пределы.)
(Adam. La Vie Intellectuelle, novembre 1945.)
Подле этих слов начинает колыхаться все древо языка. Этимология может порою противоречить этому, но вообра-жение тут не обманывается. Это воображаемые корни. Они обусловливают в нас некую воображаемую сопричастность. Мы настолько пристрастны в их отношении, что их реаль-ные черты в счет почти не идут.
Короче говоря, реализм воображаемого сплавляет вое-дино субъект и объект. И тогда-то интенсивность качества воспринимается как нюансировка всего субъекта.
Но литературный образ, этот триумф духа изящества, может обусловливать и более легкие ритмы, ритмы легкие - и только, как, например, дрожь листвы сокровенного дре-ва, интимно ощущаемого нами как древо языка. И тогда мы прикасаемся к простому очарованию комментирован-ного образа, образа, которому идут на пользу наложения метафор, образа, черпающего в метафорах свои смысл и
жизнь.
Таков, пожалуй, прекрасный образ, с помощью которо-го Эдмон ЖалуА дает нам почувствовать в старом вине, в вине попросту 'нищем' 'несколько наложенных друг на друга букетов'. Вслед за писателем мы вскоре признаем пря-мо-таки вертикальность вина. Не являются ли эти 'нало-
А Жалу, Эдмон (1878-1949) - франц. романист и литературный кри-тик. Автор многочисленных романов, повестей и рассказов о любви, в ко-торых герои, будучи слегка 'не от мира сего', предаются вольному полету воображения.
91
женные друг на друга букеты' - все более изысканные - противоположностью вина с 'привкусом'? И как раз на-ложенные друг на друга букеты говорят нам о субстанци-альной высоте, творимой зовом образов, образов самых что ни на есть редких и отдаленных. И естественно, образы эти - литературные: им необходимо самовыражаться, и они не могут довольствоваться простыми выражениями, одним-единственным выражением. Если бы мы дали высказаться этим литературным метафорам, они наделили бы подвиж-ностью весь язык. Эдмон Жалу здесь восхитительно апол-лонизирует дионисийство. Совершенно не утрачивая безум-ной радости, он дает выход радостям, бьющим через край. И тогда тот, кто предается медитациям по поводу вина, научается выражать его. Становится понятным, почему Эжен Сю смог написать о медитирующем дегустаторе вина: 'И если можно так сказать, в течение мгновения он при-слушивался к собственному смакованию винного букета' (La Gourmandise, p. 231). Вот так завязывается бесконеч-ное взаимодействие образов. Кажется, будто читателя при-зывают продолжать образы, рожденные писателем; чита-тель ощущает себя в состоянии открытого воображения, он получает от писателя полную свободу воображать. Вот образ, когда он достигает наибольшего размаха: 'Вино (бу-тылка алеатико 1818 г.) было нищим, словно стиль Раси-на, и, как стиль Расина, составлено из нескольких нало-женных друг на друга букетов: настоящее классическое вино'5.
В другой работе мы уже говорили об одном образе, в котором Эдгар По, переживая длительное страдание в ночь цвета эбонового дерева, вспомнил стиль Тертуллиана, что-бы связать свое горе с окружающим мракомА. Если чуть-чуть покопаться, можно заметить, что многие метафоры, выражающие какое-нибудь ощутимое качество, могут быть обозначены великим литературным именем. И дело здесь в
А Об этом см.: Башляр Г. Грезы о воздухе. М., 1999, с. 329. Пер. Б. Скура-това.
92
том, что для того, чтобы не только как следует выразить, но и должным способом похвалить материальные качества, полностью сокрытые в вещах, требуется владеть всем язы-ком, иметь стиль. Поэтическое познание предмета, можно сказать, имеет в виду прямо-таки стиль.
Впрочем, во многих характерных чертах литературный образ является полемичным. Писать означает кому-то нра-виться и многим не нравиться. Литературный образ крити-куется с совершенно противоположных сторон. С одной стороны, его обвиняют в банальности, с другой - в высп-ренности. Он вовлекается в распри между хорошим и дур-ным вкусом. Но и в полемичности, и даже в своей избы-точности литературный образ столь живо диалектичен, что он наделяет диалектичностыо субъект, переживающий весь его пыл.
Часть 2.
Глава 4. Родной дом и дом онирический
Сочетайся и не сочетайся с домом твоим.
Рене ШарA. Листья Гипноса
Покрытый соломой, обитый соломой,
Дом похож на Ночь.
Луи РенуB. Гимны и молитвы Веды
I
Как только мы отправляемся жить в дом из воспоминаний, реальный мир мгновенно исчезает. Что значат дома на улице, когда мы вспоминаем родной дом, дом абсолютной сокровенности, дом, где мы узнали смысл слова 'сокровенность'? Он далек, этот дом, он утрачен, мы там больше не живем, мы - увы! - увере-ны, что никогда больше не будем там жить. И тогда он ста-новится больше чем просто воспоминанием. Это дом грез, наш онирический дом.
(Нас обступали дома. Есть ли домам забота Нас узнавать? Как нереален плач!)
(Рильке P.M. Сонеты к Орфею. 2, VIII. Пер. Б. Скуратова)
А Шар, Рене (1907-1997) - франц. поэт. Его стиль отличался пре-дельной плотностью метафорического строя и даже 'Гераклитовой тем-нотой'. Здесь цитируется сборник 'Листья Гипноса' (1946).
B Рену, Луи(1896-1966) - франц. санскритолог. Автор Санскритской грамматики (1930), Санскритско-французского словаря (1932), Веди-ческой грамматики (1953), Истории санскрита (1955) и т.д.
94
Да-да, что реальнее: дом, где мы спим, или же дом, куда мы преданно отправляемся видеть сны, когда засыпаем? В Париже, в этом геометрическом кубе, в этой цементной ячей-ке, в этой комнате с железными ставнями, столь враждебны-ми всякой ночной материи, я снов не вижу. Когда сны про-являют ко мне благосклонность, я отправляюсь туда, в до-мик в Шампани, или в какие-нибудь другие дома, где сгу-щаются мистерии блаженства.
Среди всех вещей прошлого, возможно, дом удается вос-кресить лучше всего, до такой степени, что, по выражению Пьера Сегерса, родной дом 'стоит в голосе'1 вместе со всеми погибшими голосами:
Un nom que le silence et les murs me renvoient, Une maison où je vais seul en appelant, Une étrange maison qui se tient dans ma voix. Et qu'habite le vent.
(Имя, направляемое ко мне из безмолвия и от стен, Дом, где я одиноко иду и кого-то зову, Странный дом, который стоит у меня в голосе. И в котором живет ветер.)
Когда нас так застигает греза, возникает впечатление, будто мы живем в образе. В 'Записках Мальте Лауридса Бригге' Рильке писал именно так: 'Мы стояли... как написанные на полотне'А. И время тогда течет в обе стороны, но этот остро-вок воспоминаний оставляет в неподвижности: 'Мне показа-лось, что время - все сразу - вышло из комнаты'B. Такой крепко стоящий ониризм как бы локализует грезовидца. На другой странице 'Записок' Рильке выразил контаминацию грезы и воспоминаний - поэт, который столько странство-вал, познавая жизнь и в безымянных комнатах, и в замках, и в башнях, и в избах, 'живет внутри образа': 'Я никогда потом уже не видел удивительного дома... Детское воображе-
1 Seghers P. Le Domaine public, p. 70.
A Рильке P.M.. Записки Мальте Лауридса Бригге. СПб., 2000, с. 131. Пер. Е. Суриц. B Там же.
95
ние не вверило его моей памяти цельной постройкой. Он весь раздробился во мне; там комната, там другая, а там от-рывок коридора, но коридор этот не связывает две комнаты, но остается сам по себе отдельным фрагментом. И так разъе-динено все - залы, стеклянный спуск ступеней и другие, юркие вьющиеся лесенки, которые, как кровь по жилам, гонят тебя во тьме'А.
'Как кровь по жилам'! Когда мы специально остановимся на динамике коридоров и лабиринтов динамического вооб-ражения, нам придется вспомнить об этих сравнениях. Здесь они свидетельствуют об эндосмосеB грез и воспоминаний. Образ находится в нас, он 'растворен' внутри нас, 'разгоро-жен' внутри нас и возбуждает весьма различные грезы - в зависимости от того, следуют ли они по никуда не ведущим коридорам или по комнатам, где живут призраки, или же по лестницам, обязывающим к торжественному и снисходитель-ному спуску и лишь внизу допускающим кое-какую непри-нужденность. Все это мироздание одушевляется на границе между абстрактными темами и оставшимися в живых образа-ми, в зоне, где метафоры наполняются жизненной кровью, а затем стираются в лимфе воспоминаний.
И тогда кажется, будто грезовидец подготовлен к самым отдаленным отождествлениям. Он живет замкнутой жизнью, он становится задвижкой, темным углом. Эти тайны выска-заны в стихах Рильке:
'Внезапно передо мной предстала комната с лампой, я мог ее почти что нащупать внутри себя... И я уже был ее углом, но ставни почувствовали меня и захлопнулись. Я ждал. Потом заплакал ребенок; я знал, какою властью в таких жи-лищах обладают матери, но еще я знал, до каких земель, где никогда не докричишься помощи, достигает всякий плач' ('Моя жизнь без меня').
Мы хорошо видим, что когда мы умеем придавать каждой вещи вес, причитающийся ей в грезах, онирическая жизнь стано-вится больше жизни в воспоминаниях. Онирический дом -
А Рильке P.M.. Записки Мальте Лауридса Бригге, с. 23.
B Эндосмос (греч.) - взаимное врастание.
96
более глубокая тема, чем родной дом. Она соответствует по-требности, корни которой простираются дальше. Если род-ной дом вкладывает в нас такие устои, то это потому, что он отвечает более глубоким - и более сокровенным - подсоз-нательным импульсам, чем просто забота о защищенности, о первом хранимом тепле, первом защищенном свете. Дом вос-поминаний, родной дом возведен над криптой дома онири-ческого. В крипте находятся корень, узы, глубина, погру-женность грез. По ней мы 'блуждаем'. Ей свойственна бес-конечность. Мы также грезим о ней, как о желании, как об образе, который порою находим в книгах. Вместо того, что-бы грезить о том, что было, мы грезим о том, что должно было быть, о том, что навсегда стабилизировало бы наши сокровенные грезы. Именно так Кафка грезил 'о маленьком домишке... прямо напротив виноградника, у дороги... в са-мой глубине долины'. В этом доме была бы 'маленькая дверь, в которую, похоже, нужно входить ползком, и два окна - сбоку. Все симметрично, словно перекочевало из учебника. Но дверь из прочного дерева... '2, А.
'Словно вышло из учебника!' Великая епархия книг с комментариями к сновидениям! А отчего же древесина двери столь тяжела? По какому скрытому пути не дает пройти дверь?
Желая наделить таинственностью просторное жилище, Анри де Ренье попросту говорит: 'Внутрь можно было пройти лишь через низенькую дверь' (La Canne de Jaspe, p. 50). Затем писатель услужливо описывает ритуал входа: в вестибюле 'каждый получал зажженный светильник. Посетителей никто не сопровождал, и каждый направлялся в апартаменты Прин-цессы. Долгий путь усложнялся пересечением лестниц и ко-ридоров...' (р. 52), и повествование продолжается с непрестан-ным использованием классического образа лабиринта, кото-
2 Письмо Кафки процитировано в: Brod M.B Franz Kafka, p. 71.
А Брод M. О Франке Кафке. СПб., 2000, с. 70. Пер. Е. Кибардиной.
В Брод, Макс (1884-1968) - австро-израильский писатель, театраль-ный режиссер и композитор. Родился в Праге. Биографию Кафки напи-сал в 1937 г. В 1939 г. переехал в Палестину, где стал директором театра 'Габима'.
97
рым мы займемся в одной из последующих глав... Впрочем, если мы будем читать дальше, мы без особого труда поймем, что салон Принцессы представляет собой транспозицию гро-та. Это 'ротонда, освещенная рассеянным светом, проходя-щим сквозь стеклянные стенки' (р. 59). На следующей стра-нице мы видим Принцессу, 'эту пророчицу-Элевсиду'А 'в гроте ее одиночества и мистерий'. Мы отмечаем здесь конта-минации онирического дома, грота и лабиринта, подготавли-вая наш тезис об изоморфизме образов покоя. Мы отчетливо увидим, что у истоков всех этих образов находится один онирический корень.
Кто же из нас, бредя по сельской местности, не бывал охвачен внезапным желанием поселиться 'в домике с зеле-ными ставнями'? Почему известная страница из Руссо столь популярна и психологически верна? Наша душа стремится поселиться в доме собственного покоя, и она хочет, чтобы он был бедным, спокойным и уединенным среди долины. Эта греза о доме принимает все, что предлагает ей реаль-ность, но тотчас же приспосабливает небольшое реальное жи-лище к архаическому видению. И вот это-то фундаменталь-ное видение мы называем онирическим домом. Генри Дэвид Торо переживал его весьма часто. В 'Уолдене' он пишет: 'Есть в нашей жизни пора, когда каждая местность интере-сует нас как возможное место для дома. Я тоже обозревал местность на дюжину миль в окружности. В своем воображе-нии я покупал поочередно все фермы... Где бы я ни останав-ливался присесть, я мог остаться жить и оказывался, таким образом, в самом центре окружающего пейзажа. Дом - это прежде всего sedes", жилище... Я обнаружил множество мест, как нельзя более удобных для постройки дома... Что ж, здесь можно жить, говорил я себе и проводил здесь час, прикиды-вая, как потечет время, как здесь можно перезимовать и как
А Участница Элевсинских мистерий, инициационных праздников, от-мечавшихся в древней Греции в конце сентября. Эти мистерии включали в себя процессии, ритуал коллективного очищения, представление свя-щенного брака между Зевсом и Деметрой. См. русск. перевод книги К. Кереньи 'Элевсин', СПб., 2000.
В Sedes (лат.) - сиденье.
98
встретить весну. Где бы ни построились будущие жители на-шей округи, они могут быть уверены, что я их опередил. Мне достаточно было нескольких часов, чтобы отвести зем-лю под фруктовый сад, рощу или пастбище, решить, какие из дубов или сосен оставить у входных дверей и откуда каж-дое из них будет лучше всего видно, а затем я оставлял зем-лю под паром, ибо богатство человека измеряется числом вещей, от которых ему легко отказаться'A. Мы привели все свидетельство до последней черточки, и везде присутствует столь ощутимая у Торо диалектика кочевничества и оседлой жизни. Эта диалектика, наделяя грезы о сокровенности жи-лища подвижностью, не разрушает их глубины; наоборот. На многих других страницах Торо выявляет грубо-сельский характер фундаментальных грез. Хижина обладает гораздо более глубоким человеческим смыслом, чем всевозможные замки в ИспанииB. Замок непрочен, а у хижины глубокие
корни2bis.
Одним из доказательств реальности воображаемого дома является вера писателя в то, что он сможет заинтересовать нас воспоминаниями о доме собственного детства. Здесь дос-таточно одной черты, касающейся общего фона грез. Так, например, с какой легкостью мы следуем за Жоржем Дюаме-лемC с самых первых строк описания его родительского дома: 'После непродолжительного спора я проник в заднюю ком-нату ... Туда надо было попадать, проходя по темному кори-дору, по одному из тех узких, затхлых и черных парижских коридоров, что напоминают галереи в египетских пирами-дах. Я люблю задние комнаты, такие, каких мы достигаем с ощущением, что невозможно найти более отдаленное убе-
А Торо Г.Д. Уолден, или Жизнь в лесу. М., 1979, с. 97-98, пер. 3.
Александровой.
B Франц. выражение 'замки в Испании' (les châteaux en Espagne) озна-чает примерно то же, что русск. идиома 'воздушные замки', или нем. 'богемские деревни' (böhmische Dörfer).
2bis В письме к брату Ван Гог пишет: 'В самом убогом домишке, в самом мерзком уголке я вижу картины и рисунки'.
C Дюамель, Жорж (1884-1966) - франц. писатель; по образованию - врач. Противник модернизма и машинной цивилизации. Автор много-томных семейных хроник.
99
жище'3. Мы не должны удивляться, что зрелище, открыва-ющееся из окна 'задней комнаты', продолжает впечатления глубины: 'Итак, то, что я видел из окна, было обширной ямой, широким колодцем неправильной формы, вписанным в вертикальные стены, и мне казалось, что он выступал в роли то ущелья ла Аш, то карстового провала ПадиракскойА пропасти, а иногда вечерами возникали грандиозные грезы о Колорадском каньоне или об одном из лунных кратеров'. Как лучше передать синтетическую мощь первообраза? Всего лишь анфилада парижских дворов - вот и вся реальность. Этого достаточно, чтобы воскресить в памяти страницы 'Са-ламбо' или же орографический атлас Луны. Если греза захо-дит в такую даль, то это потому, что у нее хорошие корни. Писатель помогает нам спускаться в наши собственные глу-бины; стоило нам избавиться от боязни коридора, как все мы, и автор этих строк в том числе, полюбили грезы 'в задней комнате'.
И причина этому в том, что в нас живет онирический дом, в который мы превращаем темный угол родного дома, самую потайную его комнату. Родной дом начинает интере-совать нас с самого раннего детства, поскольку он свиде-тельствует о наиболее отдаленной защищенности. Иначе от-куда бы взяться чувству лачуги, столь живому у стольких грезовидцев, или столь активному в литературе XIX века чувству хижины? Разумеется, в нищете других не следует находить удовлетворение, но в бедном доме невозможно не почувствовать какой-то мощи. Так, Эмиль СувестрB в 'Бре-тонском очаге' описывает бессонную ночь, проведенную им в хижине башмачника, в лачуге дровосека, где нашла себе приют чрезвычайно бедная жизнь: 'Чувствовалось, что эта нищета не оказывает ни малейшего воздействия на их жизнь, и что у них есть то, что защищает их от нищеты'. Смысл
3 Duhamel G. Biographie de mes Fantômes, pp. 7 et 8.
A Падиракская пропасть имеет глубину 75 м и длину 3 км. Река Пади-рак - приток Дордони, туристическая достопримечательность.
B Сувестр, Эмиль (1806-1854) - франц: писатель; журналист и педа-гог. Автор романа о Бретани (здесь цитируется 'Бретонский очаг' - 1844), а также комедий, водевилей и драм.
100
здесь в том, что бедный кров весьма отчетливо предстает в роли первого пристанища, убежища, сразу же исполняющего свою функцию предоставления приюта3bis.
Когда мы копаемся в этих онирических далях, мы нахо-дим космические впечатления. Ведь дом - это убежище, при-ют, средоточие. И тогда выстраивается иерархия символов. Тогда мы начинаем понимать, что дом в больших городах едва ли обладает какими-либо символами, кроме социальных. Прочие роли он играет разве что благодаря многочисленным комнатам. И вот, он заставляет нас ошибиться дверью или этажом. Психоаналитики говорят, что сновидение приводит нас в этом случае к чужой жене или вообще к любой женщи-не. Классический психоанализ уже давно 'выследил' значе-ние комнат, выстроившихся в анфиладу, всех этих дверей, которые предлагают себя в длинных коридорах, всегда полу-открытые и радушные к кому попало. Все это - грезы не-глубокие. Все это совершенно несопоставимо с глубоким ониризмом подлинного дома, дома, наделенного космичес-кими потенциями.
II
Грезы о сокровенности во всем их разнообразии можно пережить лишь в онирически полном доме. В нем можно жить в одиночестве, вдвоем или в семье, но преимущественно в одиночестве. Таково свойство некоторых черт архетипа дома, в котором объединяются все соблазны замкнутой жизни. У всякого грезовидца есть потребность возвращаться к себе в келью, его влечет поистине келейная жизнь:
Ce n'était qu'un réduit
Mais j'y dormais tout seul.
............................................
Je me blotissais là.
3bis Ср. Loti P. Fleurs d'Ennui. Pasquale Ivanovitch, p. 236: 'Их хижина кажется столь же древней и замшелой, как соприкасающаяся с ней скала. Вот в лачугу спускается день, зеленея дубовыми ветвями. Внутри низкие потолки, тьма и копоть от дыма двух или трех веков. К убожеству и дико-сти картины примешивается неведомо какое очарование былых времен'.
101
....................................................
J'avais comme un frisson
Quand j'entendais mon souffle.
C'est là que je connus
Le vrai goût de moi-même ;
C'est là que fut moi seul,
Dont je n'ai rien donné.
(То была всего лишь клетушка,
Но я в ней спал в полном одиночестве.
......................................................
Там я и прикорнул.
.......................................................
Я ощущал что-то вроде дрожи,
Когда слышал свое дыхание.
Там я и познал
Настоящую любовь к самому себе;
Там я и был одинок
И ничего из собственного 'я' не отдавал.)
(Romains /.A Odes et Prières, p. 19.)
Но келья - это еще не все. Дом представляет собой син-тетический архетип, архетип, претерпевший эволюцию. В его погребе - пещера, а на чердаке - гнездо, у него есть корень и листва. Вот почему дом из 'Валькирии' являет столь гран-диозную грезу. Значительной части своих чар он обязан прон-зающему его ясеню. Могучее дерево - столп дома: 'Ствол ясеня - центральная точка жилищ', - говорит один из пе-реводчиков Вагнера (акт I). Крыша и стены держатся на вет-вях, ветви сквозь них проходят. Собственно говоря, листва - это крыша поверх крыши. Так как же такому жилищу не жить подобно дереву, подобно удвоенной тайне леса, встре-чая времена года, столь важные в жизни растений, ощущая, как в средоточии дома трепещет древесный сок? И вот, когда пробьет час блаженства, призывая Зигфрида к мечу, дверь с деревянным замком отворится в силу одной лишь фатально-сти весны...
А Ромен, Жюль (Луи Фари-Гуль) (1885-1972) - франц. писатель, поэт и драматург.
102
С погребом в качестве корня и гнездом на крыше онири-чески полный дом является одной из вертикальных схем че-ловеческой психологии. Исследуя символику грез, Аня Тей-яр говорит, что крыша символизирует голову сновидца, а также сознательные функции, тогда как погреб - бессозна-тельное (Traumsymbolik, S. 71). Мы приведем массу доказа-тельств интеллектуализации чердака, рационального харак-тера крыши, очевидно, символа крова. Однако погреб столь отчетливо служит областью символов бессознательного, что сразу же становится очевидным, что ясность жизни возраста-ет по мере того, как дом вырастает из земли.
К тому же, встав на простую точку зрения жизни, которая поднимается и опускается в нас, мы уразумеем, что 'жить на этаже' означает жить неудобно. В доме без чердака плохо прохо-дит сублимация, а дом без погреба - это жилище без архетипов. Лестницы тоже оставляют неизгладимые воспоминания. Пьер Лоти, возвращаясь жить в дом своего детства, пишет: 'На лестницах меня всегда поджидала тьма. Когда я был ребенком, мне бывало страшно на этих лестницах вечерами; мне казалось, что за мной поднимаются мертвецы, чтобы схватить меня за ноги, и тогда я обращался в бегство от безумной тревоги. Я прекрасно помню такие страхи; они были столь сильны, что остались надолго, даже в возрасте, когда я уже ничего не боялся' (Fleurs d'ennui. Suleima, p. 313). Не-ужели, мы действительно 'ничего не боимся', когда с такой тщательностью воссоздаем страхи своего детства?
Порою нескольких ступенек достаточно, чтобы создать глубину онирического жилища, придать комнате 'важный' вид, пригласить бессознательное к глубинным грезам. Так, в доме из одной повести Эдгара По 'можно было всегда пребывать в уверенности, что придется подниматься или спускаться по трем-четырем ступенькам'. Отчего же писатель пожелал снаб-дить столь волнующую повесть, как 'Вильям Вильсон', та-ким примечанием (Nouvelles Histoires Extraordinaires. Trad. Baudelaire, p. 28)? Ведь эта топография не имеет ни малейше-го значения для трезвой мысли! Однако бессознательное не забывает об этой подробности. Благодаря такому воспомина-нию глубинные грезы 'выпадают в осадок' в латентном со-стоянии. Монстру с тихим голосом, каким и был Вильям
103
Вильсон, необходимо было сформироваться и жить в доме, не-престанно производящем впечатление глубины. Потому-то Эд-гар По в этой повести, как и во многих других, обозначил с помощью трех ступенек своего рода дифференциал глубины. Александр Дюма в воспоминаниях о топографии замка Фоссе, где он провел раннее детство, пишет: 'Я не посещал этого зам-ка с 1805 года (А. Дюма родился в 1802 году) и все же могу сказать, что в кухню надо было спускаться на одну ступеньку' (Mes Mémoires. I, p. 199); а затем, несколькими строчками ниже описывая кухонный стол, камин и отцовское ружье, Дюма до-бавляет: 'Наконец, за камином располагалась столовая, в кото-рую приходилось подниматься по трем ступенькам'. Одна сту-пенька, три ступеньки - вот то, чего достаточно для обозначе-ния целых королевств. Ступенька ведет в кухню, по ней спус-каются; три ступеньки ведут в столовую, по ним поднимаются.
Но эта чересчур тонкая система становится ощутимее, когда нас сенсибилизирует взаимная жизненная динамика чердака и погреба, а уж она поистине устанавливает ось онирическо-го мира. 'На чердаке, где меня заперли, когда мне было две-надцать лет, я познал мир, я восславил человеческую коме-дию. В подвале я изучал историю'4, А.
Итак, посмотрим, как различаются грезы о двух полюсах дома.
III
Поначалу страхи сильно отличаются друг от друга. Ребе-нок ощущает уют подле матери, там он живет на своей сре-динной территории. Отправляется ли он в подвал и на чер-дак с одним и тем же настроением? Их миры столь различ-ны. С одной стороны - мрак, с другой - свет; с одной стороны - приглушенные шумы, с другой - шумы громкие. У верхних и нижних призраков разные голоса и тени. У пребывания в каждом из этих мест разные оттенки тревож-ности. И довольно трудно найти ребенка, который не боялся
4 Rimbaud A. Illuminations, p. 238.
А Рембо А. Произведения. М., 1988, с. 243. Пер. В. Орла (из стихотво-рения 'Жизни').
104
бы ни того, ни другого. Подвал и чердак могут служить де-текторами воображаемых горестей, бед, которые зачастую от-мечают бессознательное на всю жизнь.
Но мы попытаемся пережить лишь образы из более спо-койной жизни, в доме, где добрые родители постарались из-гнать злых духов.
Так спустимся же в подвал, как в старые времена, со све-чой в руках. Лестница - черная дыра в полу; под домом - ночь и свежесть. Сколько же раз в грезах мы спускаемся в своеобразную ночь, заложенную каменной кладкой! Под чер-ной драпировкой паутины стены тоже черные. Ах! Отчего они жирные? Почему не выводится пятно на одежде? Не женское это дело - спускаться в погреб. Это дело мужчины - зани-маться поисками свежего вина. Как писал Мопассан: 'Ибо в подвал ходили только мужчины' (Монт-Ориоль, III). До чего жестка и ветха лестница, какие скользкие ступеньки! Ведь на протяжении целых поколений каменные ступеньки вообще не мыли. А наверху дом так опрятен, так ухожен, так проветрен!
И потом - вот земля, земля черная и влажная, земля под домом, земля дома. Несколько камней, чтобы подпирать боч-ки. А под камнем - поганое существо, мокрица, которая, подобно многим паразитам, ухитряется быть упитанной, ос-таваясь плоской! Сколько же грез, сколько мыслей прихо-дят, пока наливаешь в бочку литр вина!
Когда мы поймем эту онирическую необходимость про-живания в доме, растущем из земли и живущем, пустив корни в чернозем, нас посетят бесконечные грезы при про-чтении интересной страницы, где Пьер Геган описывает 'утаптывание нового дома': 'По завершении строительства нового дома землю необходимо было притоптать деревян-ными башмаками, чтобы превратить ее в прочное и плос-кое основание. С этой целью песок смешивали со шлаком, затем добавляли магическую связку, составленную из ду-бовых опилок и сока омелы, после чего утоптать это меси-во приглашали молодежь городка.' (Bretagne, p. 44). И вся страница повествует нам о единодушной воле плясунов,
5 В одной из статей в 'Journal Asiatique' (La Maison védique) Луи Рену отмечает, что перед возведением ведического дома действовал обряд 'уми-ротворения почвы'.
105
которые под предлогом укрепления и упрочнения почвы с остервенением принимались 'хоронить порчу'5. Не борются ли они тем самым со страхами, оставленными про запас, со страхами, передающимися из поколения в поколение в этом убежище, воздвигнутом на утрамбованной земле? Кафка тоже целую зиму провел в жилище, расположенном на земле. Это был домик, состоявший из комнаты, кухни и чердака. Он находился в Праге в переулке Алхимиков. Он пишет: 'В этом есть что-то особенное - иметь собственный дом, отго-родиться от мира дверью не комнаты, не квартиры, а дома; выходить из двери прямо в снег тихой улочки...'A.
На чердаке переживаются часы долгого одиночества, очень непохожие друг на друга с настроениями от обиженности до созерцательности. Именно на чердаке вместо абсолютной оби-женности - обиженность без свидетелей. Ребенок, спрятав-шийся на чердаке, наслаждается беспокойством матери: где он, этот обиженный?
На чердаке еще и бесконечное чтение - совсем не такое, когда берешь книгу оттого, что уже много прочел. На чердаке - переодевание в костюмы бабушек и дедушек с шалями и лента-ми6. Что за музей для грез - этот захламленный чердак! Старые вещи навсегда притягивают к себе детскую душу. Грезы возвра-щают к жизни прошлое семьи, молодость предков. Вот как поэт в одном четверостишии приводит в движение тени чердака:
Dans quelques coins du grenier j'ai trouvé des ombres vivantes qui remuent.
(В нескольких уголках Чердака я находил Живые тени, Которые шевелятся.)
(Reverdy P.B Plupart du temps, p. 88.)
A Брод M. О Франце Кафке, с. 187.
6 См. Rilke RM Les Cahiers de Malte Laurids Brigge. Trad., p. 147.
B Реверди, Пьер (1889-1960) - франц. поэт. Отличался усложненно-стью и эзотеричностью образов и метафор. Здесь и далее цитируется сбор-ник 'Большая часть времени' (стихи 1915-1922 гг., изданные в 1995 г.).
106
И затем, чердак представляет собой царство сухой жизни, жизни, которая сохраняется при засушивании7. Вот увядший липовый цвет шуршит под рукой, а вот вокруг бочки развешен виноград, он чудесно блестит, а гроздья так ярко светятся... Со всеми своими плодами чердак кажется осенним миром, миром октября, самого 'подвешенного'B из всех месяцев...
Если нам посчастливится взобраться на семейный чердак по узенькой лестнице или же по лестнице без перил, слегка зажатой между стенами, то можно быть уверенным, что в душе грезовидца навсегда запечатлеется некая прекрасная диаграмма. Благодаря чердаку дом достигает необыкновенной высоты, он становится причастным воздушной жизни гнезд. На чердаке дом соприкасается с ветром (ср. Giono J.C Que ma Joie demeure, p. 31). Чердак - это поистине 'легкий дом', подобный обретенному д'Аннунцио в грезе, когда он жил в хижине в Ландах: 'Дом на ветке, легкий, звонкий, бодрый' (Contemplation de la Mort. Trad., p. 62).
Кроме того, чердак можно сравнить с изменчивым мироз-данием. Вечерний чердак внушает большие страхи. Такой испуг отметила сестра Ален-ФурньеD (Images d'Alain-Fournier, p. 21): 'Но все это - мансарда днем. А как же Анри вытер-пит мансарду ночью? Как он сможет там находиться? Каково
7 Желающий поселиться вместе с Мэри УэббA на сарнском чердаке изведает впечатления экономной жизни....
А Уэбб, Мэри Глэдис (1881-1927) - англ. романистка. Регионалист-ка, описывавшая графство Шропшир в традиции Томаса Гарди. Имеется в виду роман 'Сарн' (1924).
B В оригинале - слово suspendu, которое можно понимать и как 'от-сроченный', 'погруженный в состояние напряженного ожидания', саспенса. Возникают ассоциации и с химическим термином суспензия.
C Жионо, Жан (1895-1970) - франц. писатель. Основная тема твор-чества - конфликт между современной цивилизацией и идиллической сельской жизнью. Прославился как непреклонный пацифист. В упоми-наемом здесь романе 'Да пребудет радость моя' (1935) воспевается свое-образный сельский коммунизм.
D Ален-Фурнье, (Анри Альбан Фурнье) (1886-1914) - франц. писа-тель; поэт и романист, испытавший влияние Ж. Лафорга и Ф. Жамма. Автор романа 'Гран-Мон' (1913), романа-грезы, восстанавливающего смутные ощущения детства. После его смерти опубликовано множество фрагментов рассказов, незаконченные поэмы, а также переписка, свиде-тельствующая о его литературной эволюции.
107
ему будет в одиночестве в этой иной вселенной, куда надо взобраться, во вселенной без форм и границ, во вселенной под приглушенным ночным светом открытой тысяче присутствий, тысяче шорохов, тысяче шуршащих затей?' И через полуотк-рытую дверь Ален-Фурнье в 'Гран-Моне' смотрит в сторону чердака: 'И всю ночь мы ощущали вокруг себя безмолвие трех чердаков, проникающее даже в нашу комнату' (chap. VII).
Итак, нет настоящего онирического дома, который не был бы организован в высотном измерении; со своим погребом, достаточно глубоко погруженным в землю, с первым эта-жом, где проходит будничная жизнь, со вторым этажомА, где спят, и с чердаком под крышей; такой дом обладает всем необходимым для символизации глубинных страхов, пошло-сти обыденной жизни на уровне земли, а также сублимаций. Разумеется, для полной онирической топологии дома потре-бовались бы подробные исследования, стоило бы также изу-чить убежища, порою весьма своеобразные: стенной шкаф, площадка под лестницей, старый дровяной сарай могут дать показательные примеры психологии замкнутой жизни. К тому же, эту жизнь следует изучать в двух противоположных смыс-лах - застенка и приюта. Однако при полном слиянии с сокровенной жизнью дома, которую мы характеризуем на этих страницах, мы оставляем в стороне ярость и боязнь, подпитываемые в детском 'карцере'. Мы говорим лишь о позитивных грезах, о грезах, возвращающихся на протяже-нии всей жизни как импульсы к несметным образам. В та-ком случае мы можем возвести в ранг общего правила то, что любой ребенок, сидящий взаперти, стремится к воображае-мой жизни: похоже, чем меньше убежище грезовидца, тем грандиознее грезы. Как выразилась Янетт Делетан-Тардиф: 'Самое замкнутое существо или бытие становится генерато-ром волн' (Edmond Jaloux, p. 34). Лоти чудесно выразил эту диалектику грезовидца, ушедшего в себя в одиночестве, и волн грез в поисках безмерности: 'Когда я был маленьким ребенком, я любил прятаться в тайных уголках, изображав-ших для меня Бразилию, и появлялся я там поистине для
А В оригинале первый этаж, естественно, назван rez-de-chaussée, a вто-рой - просто étage.
108
того, чтобы испытать впечатления и страхи девственного леса' (Fleurs d'ennui. Suleima, p. 355). Ребенку можно предоста-вить сокровенную жизнь, отведя ему уединенное место, уго-лок. Так, Рескин в большой столовой своих родителей целы-ми часами сидел в собственном 'углу'8. Он подробно говорит об этом в воспоминаниях юности. В сущности, замкнутая жизнь и жизнь, бьющая через край, являются одинаковыми психическими потребностями. Но необходимо, чтобы перед тем, как сделаться абстрактными формулами, они были пси-хологическими реальностями со своими рамками и декором. Для таких двух жизней требуются дом и поля.
Ощущаем ли мы теперь различие в онирическом богатстве между сельским домом, возведенным воистину на земле, на огороженном участке, в собственной вселенной, - и здани-ем, несколько ячеек которого служат нам жилищем и кото-рое построено всего-навсего на городской мостовой? Разве можно назвать погребом этот облицованный плитами зал, где ящиков нагромождено больше, чем бочек?
Именно поэтому философ воображаемого тоже встречается с проблемой 'возвращения к земле'. Пусть извинят ему его не-компетентность, учтя, что он разбирает эту социальную пробле-му разве что на уровне грезящей психики; он получил бы удов-летворение, если бы ему удалось хотя бы пригласить поэтов к тому, чтобы они построили в своих грезах для нас 'онирические дома' с погребом и чердаком. Они помогут нам расположить наши воспоминания, поместить их в подсознательное дома - в согласии с символами сокровенности, когда реальная жизнь не всегда имеет возможность как следует их укоренить.
IV
Много страниц потребовалось бы, чтобы изложить во всех чертах и намеках сознание существа, имеющего кров. Отчет-ливые впечатления здесь бесчисленны. Дом служит для нас несомненным убежищем и от холода, и от жары, и от бурь, и
8 Ср. Гюйсманс Ж. -К.A Дез Эссент устраивает в своем салоне 'серию ниш'. А Гюйсманс, Йорис Карл (Жорж Шарль) (1848-1907) - франц. писа-тель.
109
от дождя, и у каждого из нас есть тысячи вариаций в воспо-минаниях, одушевляющих столь простую тему. Выстраивая все эти впечатления и классифицируя все эти ценности, свя-занные с защищенностью, надо отдавать себе отчет в том, что дом является, так сказать, контрвселенной или сопротивля-ющейся вселенной (univers du contre). Ho возможно, что именно при наиболее самой слабой защищенности мы ощутим при-сутствие грез о сокровенности. Подумаем, к примеру, всего лишь о доме, освещаемом, начиная с сумерек, и защищаю-щем нас от ночи. И сразу же у нас возникнет ощущение, что мы находимся на границе между бессознательными и созна-тельными ценностями, мы почувствуем, что прикасаемся к чувствительной точке ониризма дома.
Вот, например, документ, где выражена ценность защи-щенного освещения: 'Ночь теперь держалась на отдалении благодаря оконным стеклам, и они - вместо того, чтобы давать точное изображение внешнего мира - странным обра-зом его раскачивали, так что порядок, неподвижность и суша, казалось, были расположены внутри дома; и наоборот, вне его теперь находился всего лишь отблеск, в котором предме-ты становились текучими, дрожали и исчезали.' Островной характер освещенной комнаты отмечает и Вирджиния Вульф: это островок света в море мрака - а в памяти это изолиро-ванное воспоминание среди годов забвения. У собирающихся при свете лампы - сознание того, что они образуют группу людей, объединившихся в пещере на острове; они устраивают заговор 'против внешней текучести'. Как лучше выразить их сопричастность силам света в доме, попирающим тьму?
Et les murs sont d'agate où s'illustrent les lampes...
(И стены из агата, на которых блещут светильники...)
(Perse St. J.A, Vents, 4.)
В одном из своих романов ('Бремя теней') Мэри Уэбб сумела произвести это впечатление безопасности освещенно-
А Сен Жон-Перс (Алексис Сен-Леже Леже) (1887-1975) - франц. поэт, профессиональный дипломат; лауреат Нобелевской премии за 1960 г. Здесь цитируется сборник 'Ветры' (1946).
110
го жилища среди ночных полей в его крайней простоте, т. е. в его беспримесном ониризме. Освещенный дом - это маяк спокойствия из грез. Он представляет собой центральный элемент сказки о потерявшемся ребенке. 'Вот тусклый ого-нек - вон там, далеко-далеко - как в сказке о Мальчике-с-Пальчик' (Loti P. Fleurs d'ennui. Voyage au Monténegro, p. 272). Мимоходом заметим, что писатель описывает реаль-ность с помощью образов из сказки. Детали же здесь ничего не уточняют. Необходимо, чтобы они дублировали ощуще-ние глубины. К примеру, у кого из нас, вообще говоря, был отец, который бы зимним вечером громко читал собравшей-ся семье 'Освобожденный Иерусалим'? А, тем не менее, кто из нас способен прочесть соответствующую страницу из Ла-мартина без бесконечных грез? Благодаря неведомо какой правдивости онирической атмосферы эта страница оказывает на нас сильнейшее онирическое воздействие. Эта сцена - сказали бы мы с тяжеловесностью философа - использует некое онирическое априори, она воскрешает в памяти фунда-ментальные грезы. Впрочем, мы сможем углубленно заняться этим вопросом лишь в том случае, если в один прекрасный день возобновим изучение воображаемой диалектики дня и ночи с нашей точки зрения материального воображения. Пока же нам достаточно отметить, что грезы о доме достигают апогея густоты, когда дом проникается сознанием наступивше-го вечера, сознанием укрощенной ночи. Парадоксальным - но сколь объяснимым! - образом такое сознание волнует все, что есть в нас наиболее глубокого и сокрытого. Вечером в нас пробуждается ночная жизнь. Лампа погружает нас в ожидание грез, что вот-вот на нас нахлынут, но грезы входят даже в нашу бодрствующую мысль. И тогда дом означает границу между двумя мирами. Мы это лучше поймем, когда объединим все грезы о защищенности. В этом случае с пол-ным размахом предстанет следующая мысль Мэри Уэбб: 'Для тех, у кого нет дома, ночь - настоящий дикий зверь'9, и это не только зверь, который ревет в урагане, но еще и ги-гантский зверь, находящийся повсюду подобно вселенской
9 Webb M. Vigilante Armure. Trad., p. 106.
111
угрозе. Если мы будем всерьез сопереживать борьбе дома против бури, нам удастся сказать вместе со Стриндбергом: 'Весь дом встает на дыбы, словно корабль' (Inferno, p. 210). Современная жизнь ослабляет мощь таких образов. Она, не-сомненно, воспринимает дом как спокойное место, но речь здесь идет не более чем об абстрактном спокойствии, которое может наделяться массой аспектов. А забывает лишь один - космический. Необходимо, чтобы наша ночь была человеч-ной и противилась ночи бесчеловечной. Необходимо, чтобы она оказалась защищенной. Нас защищает дом. Мы не мо-жем написать историю человеческого бессознательного, не написав истории дома.
И действительно, освещенный дом в безлюдной сельской местности - литературная тема, проходящая сквозь века, и находим мы ее во всех литературах. Освещенный дом подобен звезде над лесом. Он ведет заблудившегося путника. Астроло-ги любили говорить, что солнце на протяжении года живет в двенадцати небесных домах, а поэты непрестанно воспевают свет ламп, словно лучи некоего сокровенного светила. Мета-форы эти весьма непритязательны, однако их взаимозаменя-емость должна убедить нас в том, что они естественны.
Столь частные темы, как окно, обретают весь свой смысл лишь тогда, когда мы представляем себе центральный харак-тер дома. Мы находимся у себя, мы спрятаны и глядим нару-жу. Окно в сельском доме представляет собой отверстое око, взгляд, брошенный на равнину, на дальнее небо, на внут-ренний мир в глубинно философском смысле. Окно предос-тавляет человеку, грезящему за окном - а не у окна - за окошечком, за чердачным слуховым окном, ощущение внеш-него, каковое отличается от внутреннего тем больше, чем сокровеннее комната грезящего. Кажется, что диалектика со-кровенности и вселенной уточняется с помощью впечатле-ний спрятавшегося существа, которое видит мир в оконной раме. Д. Г. Лоуренс пишет другу (Lettres choisis. T. I, p. 173): 'Колонны и арочки окон подобны отверстиям между вне-шним и внутренним в старом доме, это каменная интервен-ция, отменно приспособленная к безмолвной душе, к душе, которая вот-вот утонет в потоке времени, а пока смотрит сквозь эти арочки и видит, как заря рождается среди зорь...'
112
С этими рамочными грезами, с этими центрированными грезами, где созерцание возникает из зрения скрытого со-зерцателя, невозможно сопрячь чересчур много ценностей. Если зрелищу присуще какое-то величие, то кажется, будто гре-зовидец переживает своего рода диалектику безмерности и сокровенности, настоящий ритмический анализ, когда мы поочередно ощущаем то экспансию, то безопасность.
В качестве примера сильной фиксации центра в беско-нечных грезах мы собираемся рассмотреть образ, в котором Бернарден де Сен-ПьерA грезит о гигантском дереве, нахо-дясь в дупле10 - это важная тема грез об убежище и покое. 'Произведения природы зачастую являют нам сразу несколь-ко видов бесконечного: так, например, большое дерево с дуплистым и покрытым мхом стволом доставляет нам ощу-щение бесконечности во времени, как чувство бесконечного в высоту. Оно открывает нам памятник веков, в кои мы не жили. Если же к этому присоединяется бесконечность в протяженности, например, когда сквозь темные ветви дере-ва мы замечаем обширные дали, уважение наше возрастает. Добавим к этому еще и его всевозможные массивные ок-руглости, контрастирующие с глубиной долин и с ровнос-тью лугов; его внушающий почтение полумрак, противо-стоящий небесной лазури и взаимодействующий с нею; чув-ство нашего бедственного удела, которое оно укрепляет с помощью идей защищенности, каковые оно являет нам тол-щиной своего ствола, неколебимого, словно утес, и цар-ственной верхушкой, колеблемой ветрами, величественный шепот которых как будто причиняет нам муки. Дерево со всей его гармонией внушает нам неведомо какое религиоз-ное почтение. ПлинийB тоже утверждает, что деревья были первыми храмами богов'.
А Сен-Пьер, Бернарден де (1763-1814) - франц. писатель. В упоми-наемом здесь трактате (1784) проявил себя как слезливо-наивный вульга-ризатор идей Руссо. Больше всего прославился идиллией 'Поль и Вир-гиния' (1788).
10 Saint-Pierre В. de. Études de la Nature. Éd. 1791. T. III, p. 60.
B Имеется в виду Плиний Старший (23-79), древнеримский есте-ствоиспытатель и писатель. Автор 'Естественной истории' в 37 книгах. Умер во время извержения Везувия.
113
В этом тексте мы выделили только одну фразу, поскольку нам представляется, что она лежит у истоков и грез о защи-щенности, и грез расширяющихся. Этот дуплистый ствол, покрытый мхом, представляет собой убежище, онирический дом. Грезовидец, смотрящий на дуплистое дерево, мысленно уже соскальзывает в дупло; благодаря первозданному образу он испытывает как раз впечатление сокровенности, безопас-ности, материнской защищенности. И тогда он располагается в центре дерева, в центре жилища, и именно исходя из этого центра сокровенности, он увидел и осознание безмерности мира.11 Если смотреть на деревья как на нечто внешнее, даже имея в виду их царственную осанку, ни одно дерево не про-изведет образа 'бесконечности в высоту'. Чтобы ощутить эту бесконечность, вначале требуется, чтобы мы вообразили стис-нутость существа в дуплистом стволе. И контраст здесь су-щественнее, нежели те, что обыкновенно выводит Бернар-ден де Сен-Пьер. Мы неоднократно отмечали сложность во-ображаемых ценностей, связанных с узкими полостями как онирическими жилищами. Но в сердцевине дерева грезы ста-новятся всеохватывающими. Поскольку я столь хорошо за-щищен, мой покровитель всемогущ. Он бросает вызов бурям и смерти. Именно о полной защищенности грезит писатель: дерево здесь не просто обеспечивает запасы тени от солнца, и это не простой купол от дождя. Если бы мы занимались по-исками полезных ценностей, мы не обретали бы настоящих
11 В одном месте 'Сказки о золоте и молчании' Гюстав КанА превра-щает дуплистое дерево в средоточие образов: 'Человек долго говорит жа-лобным голосом, изливает свои чувства и отвечает. Он подходит к гро-мадному дереву, из пазов которого спускаются проворные лианы; их прямо торчащие цветы как будто смотрят на него. Кажется, будто змеи устрем-ляют к нему свои головы, но происходит это гораздо выше его головы. Ему кажется, что из большого дупла в центре дерева вылезает какое-то очертание, которое глядит на него. Он подбегает туда; теперь ничего, кроме глубокой черной полости...' (р. 262). Вот оно, логово, внушающее страх. В этом синтетическом логове накоплено столько образов, что нам пришлось бы посвятить им все главы нашей книги. У нас еще будет удобная возможность вернуться к подобным синтезам образов.
А Кан, Гюстав (1859-1936) - франц. писатель. Один из первых сим-волистов; теоретик верлибра; автор воспоминаний об эпохе символизма; художественный критик; публикатор еврейских сказок.
114
поэтических грез. Подобно дубу Вирджинии ВулфA, дерево Бернардена де Сен-Пьера является космическим. Оно при-зывает к вселенской сопричастности. Это образ, способ-ствующий нашему росту. Грезящее существо обрело свое истинное жилище. Из глубины полого дерева, находясь в сердцевине дуплистого ствола, мы следили за грезой об устойчивой безмерности. Это онирическое жилище являет-ся вселенским.
Только что мы описали грезы о центре, когда грезовидец обретает опору в его уединении. Более экстравертивные грезы дают нам образы радушного дома, дома открытого. Их примеры мы найдем в некоторых гимнах Атхарваведы12. У ведического дома четыре двери по четырем сторонам света, и в гимне поется:
С Востока слава величию Хижины!
С Юга слава...!
С Запада слава...!
С Севера слава...!
Из надира слава...!
Из зенита слава...!
Отовсюду слава величию Хижины!
Хижина представляет собой центр мироздания. Становясь хозяевами дома, мы овладеваем вселенной:
'От имени протяженности, находящейся между небом и землей, я овладеваю во имя твое домом, который здесь; из пространства, служащего мерой неразличимой безмерности, я делаю для себя неистощимое брюхо сокровищ, и его именем я овладеваю Хижиной...'
В этом центре сосредоточиваются блага. Защищать одну ценность означает защищать все. В гимне Хижине еще гово-рится:
'Хранилище Сомы, местонахождение Агни, местопребы-вание и трон Богов - все это ты, о Богиня, о Хижина.'
А Имеется в виду дуб из романа 'Орландо', подробно проанализиро-ванный в главе 'Воздушное дерево' из книги Г. Башляра 'Грезы о возду-хе'.
12 Башляр цитирует франц. перевод. Виктора Анри, 1814.
115
V
Итак, онирический дом представляет собой образ, который в воспоминаниях и грезах становится покровительствующей силой. Это не просто рамка, где память обретает свои обра-зы. В доме, которого уже нет, нам все еще приятно жить, так как мы переживаем в нем динамику утешения, часто не осоз-навая этого как следует. Дом защитил нас, следовательно, он продолжает нас утешать. Вокруг акта проживания выстраи-ваются бессознательные ценности, и бессознательное их не забывает. Черенки бессознательного можно отвести, но бес-сознательное нельзя вырвать с корнем. По ту сторону отчет-ливых впечатлений и грубого удовлетворения собственничес-кого инстинкта существуют более глубокие грезы, грезы, стремящиеся укорениться. Когда задача Юнга состояла в пре-кращении странствий одной из тех космополитичных душ, которые на земле всегда ощущают себя в изгнании, чтобы провести психоанализ, он советовал приобрести участок поля, уголок в лесу или - еще лучше - домик в глубине сада, и все это для того, чтобы снабдить образами волю к укорене-нию, к пребыванию на одном месте12bis. В этом совете прояв-ляется тенденция к использованию одного из глубинных пла-стов бессознательного, а именно - архетипа онирического дома.
Нам хотелось бы привлечь читательское внимание пре-имущественно с этой стороны. Но, разумеется, для полного изучения столь важного образа, как образ дома, следовало бы изучить и прочие инстанции. Если бы мы рассматривали, к примеру, социальный характер образов, нам пришлось бы внимательно исследовать такой роман, как 'Дом' Анри Бор-доА. Этот анализ касался бы другого образного пласта, пласта Сверх-Я. Дом здесь - семейное имущество. Его задача -
12bis Какая боль скитальца звучит в следующей строке Рильке: Нет у бездомного дома и больше не будет.
(Пер. Б. Скуратова)
А Бордо, Анри (1870-1963) - франц. писатель. Один из наиболее характерных представителей традиционалистской и провинциалистской литературы. Член Французской Академии с 1919 г.
116
поддерживать семью. И с этой точки зрения роман Анри Бордо тем интереснее, что семья исследована в ее конфлик-те поколений между отцом, из-за которого дом приходит в упадок, и сыном, наделяющим дом прочностью и светом. На этом пути мы постепенно покидаем мыслящую волю ради воли предвидящей. Мы входим в царство образов, ста-новящихся все осознаннее. Более конкретной задачей мы поставили исследование не столь ярко выраженных ценнос-тей. Вот почему нас не слишком интересует литература се-мейного дома.
VI
Тем же путем к подсознательным ценностям можно от-правиться и через образы возвращения на родину. Само по-нятие путешествия обретает другой смысл, если мы сопряга-ем с ним дополнительное понятие возвращения на родину. Непостоянству одного путешественника удивлялся КурбеА: 'Он ездит по странам ВостокаB. Ох уж этот Восток! Неужели у него нет родины?'
Возвращение на родину, возвращение в родной дом со всем динамизирующим его ониризмом характеризовалось классическим психоанализом как возвращение к матери. Сколь бы правомерным ни было такое истолкование, оно все же чересчур тяжеловесно, оно слишком поспешно цепляется за глобальную интерпретацию, оно сглаживает слишком много оттенков, которые должны подробно осветить психологию бессознательного. Было бы интересно как следует уразуметь все образы материнского лона и подробно рассмотреть их взаимозаменяемость. И тогда мы увидим, что дом обладает собственными символами, и что, если бы мы продолжали разрабатывать и дифференцировать символику погреба, чер-дака, кухни, коридоров, дровяного сарая... мы заметили бы автономию различных символов, увидели бы, что дом актив-
А Курбе, Жан Дезире Гюстав (1819-1877) - франц. художник. Его искусствоведческие теории противостояли романтизму и академизму. Считался реалистом par excellence.
B В оригинале - более фамильярное dans les Orients. Ср. русск. 'по-ехать на юга'.
117
но созидает свои ценности, сводит воедино ценности бессоз-нательного. У бессознательного тоже есть архитектура, кото-рую оно избирает.
Следовательно, образный психоанализ должен изучать не только смысл выражения, но и очарование выразительнос-ти. Ониризм представляет собой одновременно и склеива-ющую силу, и силу варьирования. Он действует - и дей-ствие это двояко - у поэтов, находящих совсем простые и все же новаторские образы. В оттенках бессознательного великие поэты не ошибаются. В своем прекрасном предис-ловии к недавнему изданию стихов Милоша Эдмон Жалу выделяет стихотворение, где с необычайной отчетливостью проведено различие между возвращением к матери и возвра-щением в дом.
Je dis : ma Mère. Et c'est à vous que je pense, ô Maison!
Maison des beaux étés obscurs de mon enfance.
(Я говорю: моя Мать. А думаю о вас, о Дом!
Дом прекрасных темных лет моего детства.)
(Mélancolie)
Мать и Дом - вот два архетипа в одной и той же стро-ке. Чтобы пережить в двух эмоциях взаимозаменяемость этих образов, достаточно пойти в сторону грез, навеваемых поэтом13. Было бы слишком просто, если бы более значи-тельный из двух архетипов, величайший их всех архети-пов, Мать, подавлял жизнь всех остальных. На пути, воз-вращающем нас к истокам, вначале есть тропка, ведущая нас к нашему мечтательному детству, желавшему образов и стремившемуся к символам ради удвоения реальности. Ма-теринство как реальность оказалось сразу же приумножено всевозможными образами сокровенности. Поэзия дома во-зобновляет эту работу, она вновь наделяет сокровенность душой и обнаруживает великие непреложности философии покоя.
13 А бывает ли материнский дом без воды? Без материнской воды? На тему родного дома Гюстав Кан писал: 'О материнский дом, первоздан-ный бассейн истоков жизни моей...' (Le Conte d'Or et du Silence, p. 59).
118
VII
Сокровенность как следует запертого, хорошо защищен-ного дома совершенно естественно влечет за собой более зна-чительное сокровенное, в особенности, сокровенность снача-ла материнского чрева, а потом - материнского лона. В по-рядке воображения малые ценности влекут за собой более значительные. Любой образ представляет собой психический аугментатив; любимый образ, образ лелеемый - это залог жизненного роста. Вот пример этого психического роста с помощью образа. Д-р Жан Филльоза в своей книге 'Магия и медицина' пишет: 'Даосы полагали, что ради того, чтобы обрести уверенность в долголетии, необходимо поместить себя в физические условия, в которых находится эмбрион, заро-дыш всякой грядущей жизни. Так считали и индуисты; они и теперь с этим соглашаются. И как раз в помещении "тем-ном и тесном, словно материнское лоно" в 1938 г. состоялось омолаживающее лечение, коему подвергся известный нацио-налист пандит Малавия, и оно наделало в Индии много шуму' (р. 126). По существу, наше отшельничество чересчур абст-рактно. Оно не всегда находит ту комнатку личного одино-чества, то темное помещение, 'тесное, словно материнское лоно', тот отдаленный уголок в тихом жилище, тот тайный погребок, что порою располагается даже под глубоким погре-бом, где жизнь обретает свои ценности произрастания.
Тристан Тцара, несмотря на неуемность своих вольных образов, находится на пути этого погружения. Ему ведом 'этот рай для звероловов пустоты и неприступности - все-могущая хозяйка, отстаивающая жизнь в других местах, не-жели железные гроты и гроты сладости неподвижной жизни, когда каждый живет в собственной светобоящейся (lucifuge) персоне, а каждая персона - под покровом земли, в свежей крови...' (L'Antitête, p. 112). В этом затворничестве мы обна-руживаем синтез рая и тюрьмы. В дальнейшем Тцара пишет: 'Это была тюрьма, образованная долгим детством, пытка слишком прекрасных летних дней' (там же, р. 113).
Если бы мы уделили больше внимания образам начала, без сомнения, весьма наивным образам, иллюстрирующим изначальные ценности, мы лучше вспомнили бы все эти те-
119
нистые уголки большого жилища, где наша 'светобоящаяся' персона обретала центр покоя, воспоминания о пренатальном покое. Лишний раз мы видим, что ониризму дома необходим малый дом в большом, чтобы мы обнаружили первозданные непреложности жизни без проблем. В тесных уголках мы обретаем тень, покой, мир, омоложение. Мы представим еще массу других доказательств тому, что все места покоя связа-ны с матерью.
VIII
Когда одиноко грезя, мы спускаемся в дом, несущий на себе значительные приметы глубины, по узенькой темной лестнице, закручивающей высокие ступени вокруг каменной колонны, мы тотчас же ощущаем, что спускаемся в прошлое, а ведь для нас нет такого прошлого, благодаря которому мы не проникались бы именно нашим прошлым, но которое сразу же не становилось бы в нас более отдаленным и менее отчет-ливым, безграничным прошлым, уже не датированным, не ведающим дат нашей истории.
И тогда все превращается в символы. Спускаться, грезя, в глубинный мир, в жилище, глубина которого ощущается на каждом шагу, означает еще и спуск внутрь нас самих. Если мы уделим чуточку внимания образам, медлительным обра-зам, навязывающим нам себя при этом 'спуске', при этом 'двояком спуске', мы не преминем поразиться их органич-ным чертам. Редки писатели, что их изображают. Ведь стоит этим органичным чертам попасться на перо, как литератур-ное сознание их отбрасывает, а сознание трезвое - вытесня-ет14. И все же гомология глубин навязывает собственные обра-зы. Тот, кто занимается интроспекцией, сам себе Иона, и это нам станет понятнее, когда в следующей главе мы предста-вим весьма многочисленные и довольно разнородные образы комплекса Ионы. Приумножая образы, мы лучше разглядим их общий корень, а деля - их единство. И тогда мы уразу-
14 Литературное сознание у писателя представляет собой сокровенный продукт литературной критики. Ведь пишут для кого-то и против кого-то. Счастлив тот, кто свободен и пишет для самого себя!
120
меем, что разные образы, в которых выражается осмысление покоя, отделить друг от друга невозможно.
Однако поскольку ни один философ не примет на себя ответственность за персонификацию диалектического синте-за 'Кит-Иона', мы обратимся к писателю, задающему себе правило - схватывать образы in statu nascendiA, когда они еще обладают всеми своими синтетическими качествами. Пе-речитаем восхитительные страницы, служащие введением к 'Авроре'15. 'Была полночь, когда мне пришла в голову мысль спуститься в эту печальную прихожую, украшенную стары-ми гравюрами и коллекциями оружия...' Представьте себе с некоторой замедленностью все образы, в которых писатель переживает износ и смерть вещей, изъеденных 'кислотой, рассеянной в воздухе, словно овечий жировой выпот, рез-кий и меланхолический, с запахом ветхого линялого белья'. Вот теперь ничего абстрактного уже нет. Само время предста-ет как охлаждение, как протекание холодной материи: 'Вре-мя текло у меня над головой и предательски остужало меня, словно дувший сквозь щели ветер'. После описания такого охлаждения и износа грезовидец готов связать дом с соб-ственным телом, а его погреб - со своими органами. 'Я ниче-го не ждал, а надеялся еще меньше. Самое большее, я почему-то считал, что при смене этажа и комнаты я вызову мнимое изменение в расположении своих органов, а выйдя из дома - в порядке своих мыслей.' Затем следует рассказ о необыкно-венном спуске, когда образы одинаково быстро пускают в ход два призрака: фантом предметов и фантом органов, когда 'вес потрохов' ощущается как вес 'чемодана, набитого не одеждой, а мясом из лавки'. Как тут не увидеть, что Лейрис вошел в то же жилище, куда грезы привели и Рембо, в 'павильон, где торгуют мясом с кровью'? ('Первобытное'.)B
Мишель Лейрис продолжает: 'Шаг за шагом я спускался по ступенькам лестницы... Я был очень стар, и все события, что я припоминаю, протекали снизу вверх по недрам моих мускулов, словно сверла с насечкой, блуждающие в стенках
А In statu nascendi (лат.) - при возникновении; в начальный период.
15 Leiris M. Aurora, p. 9 et suiv.
B Рембо А. Произведения. M., 1988, с 271. Пер. И. Кузнецовой.
121
мебели...' (р. 13). При акцентировании спуска все анимали-зируется: 'Ступени стонали у меня под ногами, и казалось, будто я топчу раненых животных с ярко-красной кровью, чьи потроха образовывали основу бархатистого ковра'. Сам грезовидец теперь спускается в подземелья дома, словно жи-вотное, а затем - подобно одушевленной крови: 'Если я теперь и неспособен спускаться иначе, как на четвереньках, то причина этого в том, что в моих жилах течет доставшийся мне от предков красный поток, одушевлявший массу всевоз-можных загнанных зверей'. Он грезит, становясь 'сороко-ножкой, червем, пауком'. Всякий даровитый грезовидец с анимализированным бессознательным обретает беспоз-воночную жизнь.
К тому же, страницы Лейриса остаются резко центриро-ванными, на них сохраняется линия глубины онирического дома, дома-тела, где едят, где страдают, дома, дышащего че-ловеческими жалобами. 'Во мне непрерывно поднимались странные шумы, и я прислушивался к неописуемым страда-ниям, резко вздувавшим дома своими кузнечными мехами, открывая двери и окна, превращая их в кратеры печали, ко-торые изрыгали нескончаемую струю супа, окрашиваемую в грязно-желтый цвет болезненным свечением фамильных ламп, струю, что смешивалась с шумом ссор, бутылок, открывае-мых потными руками, и жевания. Текла бесконечная река говяжьих филе и недожаренных овощей' (р. 16). Так где же текут все эти съестные припасы, по коридорам или по пище-воду? А как бы эти образы получили один смысл, если у них уже не было двух? Они обитают в точке синтеза дома и чело-веческого тела. Они соответствуют ониризму 'дом-тело'.
Значит, для того чтобы эти образы как следует раздвоить, а потом пережить оба их смысла, не надо забывать, что они приходят в голову чердачному отшельнику16, грезовидцу, ко-торый однажды, подавляя человеческие и дочеловеческие стра-хи, пожелал исследовать собственные человеческие и дочело-веческие подвалы.
16 'Вот уже двадцать лет, как я не рисковал спускаться по этому лест-ничному лабиринту, двадцать лет, как я жил, крепко запертый между ветхими перегородками старого чердака' (Aurora, p. 11).
122
Отчетливый образ тогда становится не более чем вертикаль-но ориентированной осью, а лестница - осью спуска в глуби-ны человека. Мы уже исследовали воздействие этих вертикаль-ных осей в двух книгах: 'Грезы о воздухе' и 'Земля и грезы воли' (гл. XII). Эти оси вертикального воображения, в конеч-ном счете, настолько малочисленны, что концентрация образов вокруг одной из таких осей легко объяснима. 'Ты всего лишь человек, спускающийся по лестнице... - говорит Мишель Лей-рис, и тут же добавляет: - Эта лестница - не вертикальный проход с рассыпанными по спирали ступенями, позволяющий достигать разных частей помещения, где находится твой чер-дак; это сами твои внутренности, это твой пищевод, благодаря которому сообщаются твой рот, предмет твоей гордости, и твой задний проход, предмет твоего стыда, - пищевод, прорывший сквозь твое тело извилистую и клейкую траншею...' (р. 23)17.
Можно ли найти лучший пример сложных образов, обра-зов с невероятными синтетическими силами? Само собой ра-зумеется, что ради того, чтобы ощутить все эти синтезы в действии и подготовиться к их анализу - соглашаясь с тем, что у нас нет воображения, наделенного счастливой способ-ностью синтетического переживания этих сложных образов - следует исходить из онирического дома, т. е. пробуждать в подсознании очень старое и бесхитростное жилище, в кото-ром мы грезили поселиться. Реальный дом - и даже дом нашего детства - может быть онирически ущербным; это может быть также дом, подвластный идее Сверх-Я. В частно-сти, множество наших городских домов и буржуазных вилл можно назвать пациентами в психоаналитическом смысле это-го термина. Они оснащены черными лестницами, где, как выразился Мишель Лейрис, циркулируют 'реки провизии'. От этого 'пищевода' резко отличается лифт, доставляющий посетителей в салон по возможности быстро и без всяких длинных коридоров. Там-то - вдали от кухонных запахов - и 'беседуют'. Там-то покой подпитывается комфортом.
Но разве эти прибранные дома со светлыми комнатами похожи на дома, в которых грезят?
17 Философы выражают то же самое не столь 'образными' образами. Так, в 'Путевых блокнотах' Тэна читаем: 'Дом - самое настоящее суще-ство с головой и телом' (Carnets de Voyage, p. 241). Дальше в анатомию Тэн не углубляется.
Глава 5. Комплекс Ионы
Толстые не имеют права пользоваться теми же словами и выражениями, что и худые.
Ги де Мопассан. Разносчик. Письмо, найденное у утопленника.
... Для внешнего употребления, для внутреннего употребления. А между тем в человеческом теле эта иллюзия 'внутреннего' и 'внешнего' существует разве что потому, что прошло много тысяч лет с тех пор, как человек, перестав быть гидрой с выворачиваемым желудком, утратил гибкую способность ношения телесных тканей наизнанку и с лицевой стороны, как это бывает с некоторыми видами бретонской одежды... Альфред Жарри. Размышления
I
Сказочное воображение должно думать обо всем. Оно обязано быть шутливым и серь-езным, оно обязано быть рациональным и мечтательным; ему надлежит пробуждать сентиментальный интерес и критичес-кий дух. Наилучшая сказка - та, что умеет остановиться у границ доверчивости. Но чтобы очертить границы доверчи-вости, необходимо изучить приемы, к которым прибегает воля к их расширению, а такие исследования весьма редки. В част-ности, пренебрегают тем, что мы назовем онирическими дока-зательствами; недооценивают то, что онирически возможно,
124
не будучи возможным реально. В двух словах, реалисты соот-носят все с опытом дней, забывая об опыте ночей. Для них ночная жизнь всегда является неким остатком или следстви-ем жизни наяву. Мы же предлагаем поместить образы в двой-ную перспективу грез и мыслей.
Порою неловкая улыбка сказочникаА разрушает медленно накапливавшуюся веру в грезы. История былых времен вне-запно нарушается современным анекдотом. Мода на эту мис-тифицированную мифологию, на эти анахронизмы, достой-ные ученика коллежа, пришла благодаря ЖиродB. Чтобы продемонстрировать это разрушение образов с помощью ус-мешки сказочника, вызывающей дефицит всякой доверчи-вости, мы собираемся изучить образ, который уже не в со-стоянии навевать грезы из-за издевательств, коим он подвер-гался. Этот образ - образ Ионы во чреве китовом. Мы по-стараемся обнаружить в нем кое-какие онирические элемен-ты в смешении с ясными образами.
Этот ребяческий образ возбуждает наивный интерес. Мы охотно назвали бы его образом-сказочником, образом, автома-тически порождающим сказку. Он требует того, чтобы мы вообразили некое 'до' и некое 'после'. Как Иона попал во чрево китово и как ему удалось оттуда выйти? Предоставьте этот образ двенадцатилетним детям в качестве темы для со-чинения по французскому языку. Можете быть уверены, что над этим сочинением будут работать с интересом. Такая тема может служить тестом для сочинения. Она задаст меру могу-щества анекдота. Чуть-чуть покопавшись, мы, возможно, от-кроем целый рудник более глубоких образов.
Сначала же приведем пример убогих шуток. Для этого достаточно перечитать страницы, на которых Герман Мел-вилл воспроизводит приключения Ионы на свой лад1. Он
А Следует заметить, что франц. conteur здесь можно понимать и в более широком значении, как рассказчик. Зато слово conte употребляется в этой главе в подавляющем большинстве контекстов в значении 'сказ-ка', а не 'повесть' или 'рассказ'.
B Жироду, Жан (1882-1944) - франц. писатель. Г. Башляр неоднок-ратно критикует его драму 'Ундина' (1939), считая его фантазию ненату-ральной, а юмор - вымученным.
1 Melville ff. Moby Dick. Trad., p. 357.
125
помещает Иону в рот кита. Затем, поскольку одного слова полый достаточно для того, чтобы, согласно непреложному закону грез о сокровенности, мы начали грезить о жилище, Мелвилл находит забавным сообщить, что Иона расположился в полом зубе кита2. Стоило Мелвиллу представить себе эту грезу в деталях, как он вовремя 'одумался', вспомнив, что у кита нет зубов. И вот из конфликта между этим видением полого зуба и мыслями, почерпнутыми в школьных учебни-ках, рождается мелкий юмор главы, посвященной истории об Ионе, в книге, где, к счастью, есть много других красот. К тому же, вся эта глава ложится пятном на произведение, где онирические ценности зачастую весьма умело сопрягают-ся с реалистическими. Следовало бы твердо усвоить, что с грезами шутить нельзя, или, иначе говоря, что комическое является достоянием сознательной жизни. В одной новозе-ландской легенде герой племени маори влезает в тело праро-дительницы Хине-те-по и говорит помогающим ему птицам: 'Мои маленькие друзья, когда я проникну в глотку старухи, смеяться не надо; но когда я выйду, надеюсь, что вы встре-тите меня с радостными песнями'3.
Итак, чтобы действительно проникнуться уверенностью в том, что мы следуем теме естественной жизни образов, необ-ходимо различать понятия вызывать рост (faire accroire) и вызывать смех (faire rire).
Впрочем, разграничить шутливость и доверчивость не всегда легко. Порою дети бывают учителями в искусстве шуток. В классе, ученикам которого было от пяти до восьми лет, Анд-ре Бей провел следующий опыт. Каждого из своих юных учеников он попросил рассказать какую угодно выдуманную историю, чтобы позабавить товарищей. Недавно он опубли-ковал их сборник (Bay A. Histoires racontés par des Enfants). Комплекс Ионы предстает в этом сборнике почти на каждой странице. Вот несколько примеров. Четыре лягушки прогла-тывают четверых заблудившихся детей и возвращают их ма-тери. Лягушка проглатывает свинью - и вот вам басня Ла-
2 Один из пилигримов, проглоченных Гаргантюа вместе с салатом, ударяет посохом по полому зубу великана (Рабле, гл. XXXVIII).
3 Leïa. Le Symbolisme des Contes de Fées, p. 96.
126
фонтена о лягушке, которая хотела быть большой как вол, и выражена она в глубинных образах усваивающего пищу жи-вота. Волк проглатывает свинью. Ягненок проглатывает мыш-ку, и 'попав внутрь, мышь проскальзывает сквозь кишки ягненка до кончика его хвоста'. Поскольку ягненок мучает-ся от укусов мышки, он просит змею вылечить его. Змея проглатывает хвост ягненка. Тогда ягненок хочет 'съесть змею, чтобы отомстить за свой хвост', и история о съедаемых съе-дающих продолжается поистине бесконечно, заканчиваясь оче-видной пищеварительной 'аннигиляцией'. И действительно, юный сказочник в заключение говорит: 'Ягненок сделался малюсенький, как шарик... Он растаял'. - 'Однажды сви-нья, когда она очень хотела есть, проглотила черепаху цели-ком. Черепаха переворошила все внутренности свиньи, она сделала из них себе домик.' Здесь происходит обмен ценнос-тями между двумя образами сокровенности. Особенно лю-бопытно продолжение сказки. Поскольку свинье очень больно, она 'проделывает большую дыру у себя в животе, чтобы от-туда вылезла черепаха. После этого она почувствовала себя гораздо лучше. Домик она тоже вытащила.' Но с образами приятного отдыха расстаются неохотно. И так как в 'домике живота' очень хорошо, ребенок преспокойно добавляет: сви-нья 'вернулась в свой живот и стала себя там хорошо чув-ствовать: 'Ах!, - сказала она, - мне хорошо, мне тепло!' Сказочные образы, подобные вот этому, на наш взгляд, дают нам право назвать их грезами 'сам себе Иона', т. е. грезами о жизни поистине 'у себя', 'в центре собственного бытия', 'в собственном животе'. Впрочем, все страницы книги Андре Бея могут способствовать исследованию образов интеграции. Закончим последней историей, где юный сказочник обраща-ется к присущей киту мощи интеграции, ибо брюхо Кита - 'самое большое в мире'. Напомним, что сказки, собранные Андре Беем, представляют собой сочинения школьников на свободную тему, конкретных тем им не предлагалось. Стало быть, мы имеем дело с естественным сочинением по француз-скому языку, а это след потребности сочинять истории. А вот и последняя история. Лев, волк и тигр, проглотившие 'бара-нов и пастухов', спасаются бегством на самолете. Лев и волк падают в море. Рыбак ловит их сетью. Но неожиданно вы-
127
ныривает кит, который 'проглатывает волка, льва, рыбака и лодку'. Кусок-то большой, да судьба жалкая. Спокойная жизнь продолжается. И действительно: 'Рыбак продолжал курить трубку в брюхе кита. Он только проделал маленькую дырочку для того, чтобы выпускать дым'. Мы еще встретим-ся с этими грезами об обустройстве, когда займемся образами сокровенности грота.
II
Можно ли найти в реальности какие-нибудь черты этого образа Ионы во чреве китовом?
Всякий ребенок, которому посчастливилось родиться у реки, всякий сын удильщика рыбы бывал изумлен, обнару-живая в щучьем брюхе гольяна или уклейку. Сидя на берегу реки и глядя, как щука глотает свою добычу, ребенок, не-сомненно, грезит о печальной причинно-следственной связи, коей явно бывает отмечено проглоченное существо. Форма пескаря, столь тоненького в лоне вод, в конечном счете, пред-назначена для того, чтобы ему удалось выжить в желудке другого существа. А сколько предметов имеют аналогичный гастрономический профиль! Наблюдая за ними, можно объяс-нить многочисленные болезненные соблазны.
Такой грезовидец проглатывания, как Иеронимус Босх, непрестанно обыгрывает этот образ. Чтобы проиллюстриро-вать космическую максиму 'глотайте друг друга', Морис Гос-сар в книге о Босхе пишет: 'Громадная пасть заглатывает рыбу, которая сама хватает мелкую селедку. Двое рыбаков сидят на носу лодки. Старик говорит ребенку, показывая ему это чудо: "Гляди-ка, сын мой, я это знаю уже давно, крупные рыбы пожирают мелких"'. Да и сам Спиноза не гнушается ясностью этой притчи. Басня с моралью 'попался который кусался' выражена в очень простом образе 'вечных глотателей, постоянно проглатываемых'. Вот, по словам Жоржа Барбарена, 'девиз плотвы'4.
Ученые также расцвечивают подробности чудес, иногда скромных, а порою невероятных. Так, в своем 'Трактате о
4 Barbarin G. Le Livre de l'Eau, p. 26.
128
питании' Луи ЛемериА пишет, что в животах 'жестоких щук' находят рыб целиком. 'Есть даже несколько авторов, утвер-ждающих, будто там обнаруживали кошек' (р. 367). Доден (Histoire naturelle générale et particulière des Reptiles, An X, T. I, p. 63) пишет: 'Князь Нассауский Иоганн-Мориц... видел одну голландку, которая во время беременности была цели-ком проглочена одной из этих чудовищных змей.' Беремен-ность женщины вызывает 'двойной' интерес. Так рождают-ся превосходные истории. Впрочем, через мгновение мы про-демонстрируем других Ион в квадрате, иные примеры про-глоченных глотателей. Литературная фауна рептилий в этом отношении довольно богата.
Так, Александр Дюма находит интересным отметить сле-дующее воспоминание (Mes Mémoires. T. I, p. 200). Когда ему было три года, он видел, как садовник разрезал ужа надвое. Из него выскочила проглоченная лягушка и вскоре вприпрыжку убежала. 'Это явление, подобного которому я с тех пор не имел случая видеть, чрезвычайно поразило меня и по-прежнему присутствует у меня в сознании настолько, что, когда я закрываю глаза, в момент написания этих строк, я вновь вижу два движущихся ужиных обрубка, пока еще не-подвижную лягушку и Пьера, опершегося на свой заступ и заранее улыбающегося моему изумлению'5. В малых образах запечатлены более значительные. Вспомнил бы писатель улы-бающееся лицо доброго садовника, если бы не было этой спасенной лягушки?
Занятные страницы, посвященные смерти проглоченной лягушки в брюхе ужа, приводит Луи Перго6, B. 'Ее обволокла клейкая и тепловатая слюна; медленное и неодолимое дви-
А Возможно имеется в виду Никола Лемери (1645-1715) - франц. фармацевт, автор 'Универсальной фармакопеи'. (1697) и 'Универсально-го трактата о простых лекарствах'.
5 Дюма возвращается к этому анекдоту на двух продолжительных стра-ницах в своем сочинении о змеях, опубликованном в виде продолжения к тому 'Filles, Lorettes et Courtisanes'. Éd. 1875, p. 164.
6 Pergaud L. De Goupil à Margot, p. 161.
B Перго, Луи (1882-1915) - франц. писатель. Прославился романами о провинциальной жизни и о животных. Здесь цитируется 'De Goupil à Margot' (Гонкуровская премия 1910 г.)
129
жение безжалостно увлекло ее в глубины'. Вот так Перго задолго до Сартра приводит пример сартровского головокру-жения, медленного головокружения, неощутимо влекущего к смерти, к смерти чуть ли не материализованной, влекущего через инкорпорацию в клейкое, в вязкое. 'Так на нее сколь-знула смерть, или, скорее, это была еще не смерть, а пассив-ная, почти отрицающая сама себя жизнь, жизнь приостанов-ленная (suspendue), причем не в покое, как бывает при полу-денном солнце, но, так сказать, в кристаллизации страха, ибо нечто неощутимое, возможно, капля сознания, еще вибриро-вало в ней, причиняя страдания' (р. 162).
Необходимо мимоходом выделить прилагательное, про-скользнувшее в этот текст, столь плодотворный для матери-ального воображения, и прилагательное это тепловатый. Оно расположено не на одном материальном уровне с окружаю-щими его образами. И соответствует оно человеческой ин-станции. Если мы изо всех сил постараемся прочитывать эти тексты еще медленнее, чем они писались, мы ощутим, думая об этой тепловатости, что писатель сопричастен какой-то ди-ковинной амбивалентности. Страдает ли он вместе с жертвой или же наслаждается вместе с глотателем? В чьем рту эта тепловатая слюна? Откуда такое внезапное тепло в мире, ха-рактеризуемом в книгах как хладнокровный? Книги пишут-ся не только благодаря тому, что мы знаем и видим. У них есть потребность и в более глубинных корнях.
Впрочем, продолжение сказки Перго стремится к осво-бождению лягушки. Пожирателя съедает сарыч, разрезаю-щий ужа надвое ударом клюва, так что первая жертва выс-кальзывает 'по клейким подушкам пасти своего похитите-ля'. Если же мы вспомним, что перед этим сказочник поже-лал показать нам лягушку, пожирающую саранчу, мы уви-дим, как от саранчи к лягушке, от лягушки к ужу и от ужа к сарычу здесь функционирует Иона в кубе, (Иона)3. Но на пути со столь прекрасной перспективой алгебра не остано-вится. 'На китайском шелке, - пишет Виктор Гюго, - изоб-ражена акула, съедающая крокодила, съедающего орла, съе-дающего ласточку, съедающую гусеницу'7. Вот вам и (Иона)4.
7 Hugo V. Les Travailleurs de la Mer. Ed. Nelson. T. II, p. 198.
130
В 'Калевале' Лённрота описывается длинная история про-глоченных глотателей. Она тем более интересна, что вскры-тие последнего глотателя позволяет обнаружить в самом 'цен-тральном' желудке, имеющем больше всего оболочек, сокро-вище, которое ценнее всего: сын Солнца обнаруживает похи-щенную с небосвода искру. А вот и сцена: сын Солнца вспа-рывает брюхо щуки, самой крупной глотательницы.
Там в утробе серой щуки Оказалася пеструшка. У пеструшки этой в брюхе Гладкий сиг уже нашелся.A
В брюхе же сига он обнаруживает синий шарик, а в синем шарике - красный. Он разбивает красный шарик.
Изнутри того клубочка Вынул огненную искру, Что упала с высей неба, Что проникла через тучи, Что с восьми небес упала, Из девятого пространства.B
Впоследствии можно прочесть длинное повествование, в котором кузнец, обжигая бороду и руки, гонится за беглой искрой, пока не заключает ее 'в ствол старой сухой ольхи, в глубину гнилого пня', а потом кладет пень в медный котел, который обертывает березовой корой. Но все эти хитрости, ведущие к новому взаимовложению, только и служат тому, чтобы лучше уловить принципы взаимовложения естествен-ного, задействованного в комплексе Ионы. Впрочем, если мы прочтем Руну XLVIII 'Калевалы', следуя методам теории материального воображения, мы без труда признаем, что все действующие здесь образы сопрягают с самими грезами ма-териальные стихии.
И ведь не просто так огонь спрятан в рыбьих брюхах. Нам следует довершить образ, сформулированный посред-ством форм, и уразуметь, что и сама щука находится в брюхе
А Калевала. М., 1977, с. 540. Пер. Л. Вельского.
B Там же, с. 541.
131
реки, в лоне вод. Диалектику огня и воды, диалектику, об-наруживающую глубинные амбивалентности женского и муж-ского, можно воспринимать как подлинный онирический антецедент всем этим образам, столь наивно обставленным подробностями. Когда нужно убедить искру вернуться 'в подставку для дров золотого очага', старый кузнец говорит ей:
Ты огонь, созданье Божье,
Ты, светящее творенье!
В глубину идешь напрасно.A
Напрасно, но не без грез. Бои между огнем и водой и их стремление друг к другу противоречиво размножают их обра-зы, без конца динамизируют воображение.
Впрочем, продолжим наш анализ более простых образов, более отчетливо движимых желанием 'узнать, что у кого в животе'.
III
Есть сказки, где комплекс Ионы как бы формирует канву повествования. Такова сказка братьев Гримм 'Мальчик-с-Пальчик' ('Daumesdick'). Этот ультракарлик спит на сено-вале, а затем попадает к корове в охапке сена. Просыпается он во рту коровы. Достаточно ловкий, чтобы избежать зубов - эту ловкость мы еще встретим у других отважных героев - он проникает в желудок, странное жилище без окон, туда не проникает солнечный свет, что не преминут заметить мифо-логи, верящие в солярное истолкование мифов. Находчивый Мальчик-с-Пальчик кричит что есть мочи: 'Не давайте мне больше сена!' Такого чревовещания оказалось достаточно, чтобы испугать служанку: 'О Господи, - сказала она хозяину, - корова заговорила'. Значит, корова одержима дьяволом. Ее закалывают, а желудок бросают в навоз. Внезапно появляет-ся проголодавшийся волк, который глотает желудок вместе с его содержимым прежде чем Мальчик-с-Пальчик смог от-туда вырваться. Волк не насытился. Маленький Иона сове-
А Калевала, с. 541.
132
тует ему зайти в кухню своих родителей. Все еще голодный волк проскальзывает в дом по сточному желобу (die Gosse), но поскольку он пожирает всю провизию, он не может вер-нуться тем же путем. Он попался в ловушку; он тоже заперт в домике, словно в животе. Мальчик-с-Пальчик кричит что есть силы. Проснувшиеся родители убивают волка, и мать вспарывает брюхо зверя, чтобы вытащить их чудесного ре-бенка. В итоге остается лишь сшить ему новые костюмчики, поскольку в ходе всех этих приключений старые поистрепа-лись. Как мы видим, сказка пытается все продумать.
История о змее, проглотившей другую змею, также рас-сказывалась весьма часто8. Александр Дюма добавляет еще один вариант (Filles, Lorettes et Courtisanes, p. 173). Посколь-ку хвост проглоченной змеи все еще торчит изо рта змеи глотающей, каждый из двух сторожей Jardin des Plantes дер-гает за хвост 'свою' змею. 'И маленькая змея вылезла из большой, как выходит лезвие клинка из ножен.' Тотчас же каждая из двух примирившихся змей проглотила по крупно-му кролику. Во всех этих историях смерть от проглатывания представляет собой просто-напросто случайность, которую легко исправить.
К тому же в подобных рассказах ощущается очевидное желание пошутить. Функциям шутки следует отводить важ-ное место. Ими измеряется ловкость сказочника и доверчи-вость слушателя, если оставаться в пределах сознательной психики. Но если мы углубимся 'в суть вещей', мы отдадим себе отчет в том, что шутки задействованы в равной степени и в бессознательном деда, и в подсознании внука. Их можно назвать 'обертками' для страха, закрученного в спираль в бессознательном любого человека. Психоаналитическое воз-действие шутки легко выявить с помощью комплекса Ионы. Но это воздействие комического мы найдем во многих мето-дах психоаналитического лечения. Несмотря на их тяжелое ре-месло, психоаналитики часто шутят - между собой.
8 Еще забавнее змея у Тцара. 'Змея проглатывает свой хвост и выво-рачивается наизнанку, словно перчатка' (L'Antitête, p. 182). Игра продол-жается, выворачивая змею лицевой стороной. Отсюда возникает новая форма Уробороса. Этот 'сам себе Иона' становился шуточным символом вечности.
133
В одной сказке Милоша (Contes et Fabliaux de la vieille Lithuanie, p. 96) можно проследить чуть ли не 'подпольное' бессознательное воздействие образа проглоченного глотателя. Впрочем, психоаналитики без особого труда обнаружат в этой сказке симптомы анальной фиксации. Но как раз стародав-ний образ Ионы, который невозможно заметить на первых страницах текста, 'выходит на поверхность' на следующей странице (р. 97) так, что возникает ощущение, будто смысл этой сказки Милоша противоположен породившим ее гре-зам. Психоанализ, возможно, проводит недостаточное раз-граничение между тем, что можно было бы назвать импли-цитным образом и образом эксплицитным. Психоанализ все-цело предается поискам сугубо бессознательных комплексов и не всегда уделяет достаточное внимание явно выраженным образам, образам, поистине вычерченным, но кажущимся не-винными 'обертками' глубинных комплексов. Нам представ-ляется, что образ Ионы во чреве китовом мог бы служить анкетой по диспепсиям психического характера. Благодаря своей отчетливости, благодаря своей простоте, благодаря сво-им мнимо ребяческим свойствам, этот образ превращается в средство анализа - несомненно, чересчур элементарного, но все-таки полезного - громадной и столь малоисследованной области, области психологии пищеварения.
Перед лицом столь наивных образов можно также с боль-шим успехом судить о наивности кое-каких рационализаций, в результате получая элементы для суждений об этой редуци-рованной психологии, каковой зачастую бывает достаточно для анализа некоторых упрощенных типов психики, как в царстве идей, так и в царстве образов. Например, на счет рационализа-ции традиционного образа можно списать вот это распростра-ненное в Средние века мнение, которое вспоминает Ланглуа, подытоживая 'Книгу сокровищ': существовало поверье, будто киты 'в случае опасности проглатывают свое потомство, что-бы предоставить ему убежище, а впоследствии извергают его'. На наш взгляд, психоаналитики не имеют права усматривать здесь воздействие фантазма, характеризуемого термином 'воз-вращение к матери'. На самом деле, здесь слишком очевидно влияние внешнего образа, образа эксплицитного и традицион-ного. Нам необходимо 'снять мерку' с импульсов воображе-
134
ния, пользующегося иносказаниями, и не относить всю его деятельность на счет глубинных комплексов. Да и в конце концов, слишком уж разнородно убогое поверье, анализируе-мое нами на этих страницах. Здесь вряд ли можно дать при-мер полного сцепления с образом Ионы. На этом основании бедность образа весьма благоприятствует тому, чтобы мы ощу-тили действие всего лишь сопоставленных, но никогда как следует не объединенных элементов.
IV
В фольклорных грезах народа живот предстает как при-емлющая полость. Спать с открытым ртом означает предла-гать убежище всевозможным бродячим зверям. Перелисты-вая 'Адский словарь' Коллена де Планси, мы без труда найдем легендарную фауну желудка, где объединены все животные, которых люди считали изрыгнутыми из себя. К примеру (ст. 'Gontran', ср. ст. 'Моrеу'), в рот спящего влезает и из него вылезает ласка. Может, это блуждающая душа? В статье Maléfices (порча) нам говорят о подвергнутой порче девице, которая 'изрыгала маленьких ящериц, каковые ускользали в дыру, образовавшуюся в полу'. Неудивительно, что зачастую говорили об одержимости per osA (ст. Jurement - проклятие, заклятие): девица проглотила дьявола.
КарданоB, со своей стороны, рассказывает, что некий спя-щий, проглотивший гадюку, спасся, вдыхая дым паленой кожи. Окуренная змея вылезла изо рта больного (р. 199). РаспайльC ехидно цитирует следующий текст 1673 года: 'Шут одного князя, забавлявшийся глотанием сырых яиц, не раз-бивая скорлупы, оказался охвачен кишечными болями. Ему дали принять табачный отвар, благодаря коему он изверг по-
А Per os (лат.) - буквально: через рот; о способе приема лекарства.
B Кардано, Джироламо (1501-1576) - ит. врач, математик и фило-соф. Больше всего занимался астрологией. В философии - последова-тель Аристотеля и Аверроеса. Совершил ряд открытий в математике, си-стематизированных в сборнике Ars Magna (1545).
C Распайль, Франсуа Венсан (1794-1878) - франц. химик и полити-ческий деятель. Автор популярных медицинских справочников (в кото-рых широко прибегал к вульгаризации открытий).
135
средством рвоты цыпленка - хотя без перьев и мертвого, но весьма хорошо развившегося' (I, р. 308).
Тот, кто пьет воду из ручья, рискует проглотить лягушек. Сказкам на эту тему несть числа. И стоит лишь возникнуть 'амплификации'А, как ничто не может остановить воображе-ние. В гасконской сказке из сборника Франсуа БладеB осел выпивает луну, спящую на поверхности реки. Тем же обра-зом инстинктивно пользуются поэты.
Кони выпили луну,
Видневшуюся на водеC,
говорит русский поэт Сергей Есенин.
Фольклор Гаргантюа часто приводит иллюстрации этим сказкам о великане, спящем с открытым ртом9. 'Пастух, зас-тигнутый бурей вместе со стадом, нашел себе там убежище и, исследуя громадную пещеру, каковой казался ему рот Гар-гантюа, принялся колоть ему нёбо посохом. Гигант почув-ствовал что-то вроде зуда и, просыпаясь, проглотил пастуха вместе с его баранами.' Часто встречается сказка о том, что изо рта спящего рудокопа вылезает маленькая мышка (см. Dürler, loc. cit., p. 70). Шахтер, копающийся в недрах земли, бесцеремонно проглатывает обитателей подземного мира.
А Амплификация - здесь: риторический термин, состоящий в преуве-личении или в подробном перечислении деталей.
B Бладе, Жан-Франсуа (1827-1900) - франц. фольклорист. Уроженец Гаскони, собирал гасконские сказки, пословицы, загадки и пр. Ему при-надлежат сборники 'Народная поэзия Гаскони' (1881), в 3 томах; 'Гас-конские народные сказки' (1886), в 3 томах.
C У Есенина удалось найти несколько мест, ни одно из которых не соответствует башляровскому подстрочнику в точности, но все похожи на него частично. Например: 'Так кони не стряхнут хвостами // В хребты их пьющую луну' (из стихотворения 'Душа грустит о небесах...'); цитиру-ется по: Есенин С. Избранное. Алма-Ата, 1960, с. 153. Или: 'Луну, навер-ное, // Собаки съели. // Ее давно на небе не видать' (из стихотворения 'Метель'); цитируется по: Есенин С. Избранное. Алма-Ата, 1960, с. 475.
9 Ср. Van Gennep А.D Le Folklore de la Bourgogne.
D Ван Геннеп, Арнольд Курр (1873-1957) - франц. антрополог, эт-нограф и фольклорист. Один из пионеров методов аннотирования и кар-тографирования в этнографии; основатель нескольких журналов. Автор важнейшего 'Учебника современного франц. фольклора' (1943-1958). Цитируемая книга 'Фольклор Бургундии' написана в 1936 г.
136
В фольклоре Гаргантюа есть масса иллюстраций психоло-гии Всеглотателя.
Так, в книге Поля Себийо10 мы видим, как Гаргантюа проглатывает разных животных, целую армию, дровосека, тележки, своих детей, собственную жену, монахов, мельни-цу, своих кормилиц, лопаты, камни, реку. Видим мы и то, как он глотает суда - что, если добавить чуточку грез, пре-доставит читателю забавную инверсию образов: разве не го-ворилось о том, что Иона во чреве китовом - всего лишь путешественник в трюме? Здесь же наоборот, человек про-глатывает корабль. В конце концов, для грезящего это не море выпить....
Та же инверсия происходит, когда Гаргантюа глотает не лекарство, а своего врача, не молоко, а кормилицу. В после-днем образе ребенка, сосущего грудь чересчур сильно и про-глатывающего кормилицу, мы получаем превосходное дока-зательство тому, что комплекс Ионы связан с психологи-ческим феноменом проглатывания. Во многих отношениях комплекс Ионы можно считать частным случаем комплекса отлучения ребенка от груди.
ФробениусA особо подчеркивал многочисленные африкан-ские мифы, подпадающие под рубрику образа Ионы. В не-которых из этих мифов живот предстает как печь, где герою придают совершенную форму. Герберт Зильберер не преми-нул сравнить этот факт, с одной стороны, с мифами о соляр-ном герое, а с другой - с алхимической практикой11. Здесь перед нами пример поливалентного детерминизма образов. Иными словами, великие образы являются сверхдетермини-рованными, и посредством обильных осмыслений они со-прягаются с более значительными детерминациями. Алхими-ческая материя, которую совершенствуют в атанореB; солнце, готовящееся возродиться во чреве земли; Иона, отдыхающий
10 Sébillot P. Gargantua dans les Traditions populaires.
A Фробениус, Лео (1873-1938) - нем. антрополог и исследователь Африки и Океании. Профессор Франкфуртского университета (1932) и директор Этнографического музея (1934). Один из первых в этнологии начал употреблять термин культурные ареалы.
11 См. Silberer H. Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, S. 92. B Атанор - перегонный куб у алхимиков.
137
и получающий пропитание в китовом чреве - вот три обра-за, у которых формально нет ничего общего, однако все они, вступая во взаимно метафорические отношения, выражают одну и ту же тенденцию бессознательного.
V
Чревовещание само по себе - если вспомнить возбужден-ное им изумление - могло бы послужить темой объемистых исследований. Это случай исполненной занятного цинизма воли к обману. Приведем любопытный пример. В книге 'Имена птиц' аббат Венсело целую страницу посвящает вертишейке, коей приписывает эпилептические конвульсии, одновремен-но инкриминируя ей лень. 'Наконец, - утверждает он, - вертишейка находит удовольствие, изображая чревовещате-ля, сидящего в дуплах полых деревьев, где она находит при-станище; затем она покидает свои мрачные убежища, дабы удостовериться во впечатлении, производимом ею на своих слушателей, и продолжает представление, меняя позы и крив-ляясь, будто настоящая акробатка.' (р. 104). Между шпагог-лотателем и чревовещателем есть место для прямо-таки бур-лескной комедии живота, каждый пузатый образ которой выказывает массу всяческих интересов.
Порою же чревовещание принимали за голос демона. Фарс, как это часто бывает, оборачивается мерзостью (см. Коллен де Планси, Адский словарь, ст. 'Maléfices' - чары, порча). В сказке Перро 'Феи' злая девочка выплевывает жаб при каж-дом слове, выходящем у нее изо рта. Стало быть, у нее в животе есть все голоса дурной совести12.
Все эти образы могут показаться далекими друг от друга и ведущими в разные стороны. Но если мы будем восприни-мать их у их истоков, мы не сможем не признать, что все они - образы существ, обитаемых другими существами. Сле-довательно, этим образам предстоит найти место в феноме-нологии полостей.
12 См. сказку братьев Гримм 'Три человечка в лесу', где добрая девоч-ка с золотым сердцем выплевывает при каждом слове кусочки золота, а ее злая сестрица - жаб.
138
VI
В книге 'Психология трансфера' К. Г. Юнг дает образу Ионы настоящее алхимическое выражение, и с нашей точки зрения это выражение является чрезвычайно ценным, по-скольку оно сводится к материальному, т. е. сопричастному сокровенности материи, представлению того, что традицион-ный образ представляет в царстве форм (Die Psychologie der Uebertragung, S. 135). На языке алхимии речь идет уже не об омоложении некоего персонажа, а об обновлении материаль-ных первоначал. Во чреве алхимического сосуда материю, которую необходимо подвергнуть очищению и возгонке, вве-ряют изначальной воде, ртути философов. Если же сохраня-ются формальные образы, они превращаются в метафоры. Например, обновляющее соединение происходит в водах мат-ки, 'in der Amnionflüssigkeit des graviden Uteras' (S. 130) (в амнионной жидкости утробы беременной женщины).
Не следует удивляться тому, что задействовано в столь ин-тимно связанной с человеком системе обозначений все под-сознание алхимика. Когда мы читаем этого Иону-алхимика, нас приглашают грезить вглубь, следовать всем образам в глу-бинном измерении. Вот схема этого погружения, в направле-нии которой мы должны ощущать утрату формальных образов при нарастании образов материальных:
|
↓ |
живот, |
|
лоно, |
|
|
матка, |
|
|
вода, |
|
|
ртуть, |
принцип ассимиляции - принцип радикальной влаги.
Эта нисходящая шкала должна помочь нам при спуске в наше бессознательное. Она выстраивает порядок символов, слишком наскоро принимаемых классическим психоанали-зом за эквивалентные13.
13 См. Silberer H. Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, p. 156: 'Erde, Höhle, Meer, Bauch des Fisches, u. s. w., das alles sind auch Symbole für Mutter und Mutterleib.' (Земля, пещера, море, брюхо рыбы и т. д. - все это также символы матери и материнского лона.) Само собой разумеется, что на алхимических гравюрах гомункулуса часто изображали плаваю-щим или стоящим в центре реторты. Но ради получения первоначала необходимо уметь стереть репрезентацию, надо грезить вглубь.
139
Кажется, что последовательно утрачивая контуры созна-тельной жизни, образы наделяются все большей теплотой, нежной теплотой бессознательного. И как раз ртуть, суб-станциализирующую всякую текучесть и всякое ассимиля-тивное растворение, Юнг называет хтоническим образом бес-сознательного, которое - сразу и вода, и земля, своего рода глубинное тесто. Но ведь именно вода обладает для бессозна-тельного наибольшей глубиной. И ассимилирует тоже она, например, в виде желудочного сока.
Итак, хотя впоследствии у нас и будет возможность сопо-ставить Троянского коня хитроумного Одиссея с китом Ионы, необходимо уже сейчас различать их инстанции бессозна-тельного. Кит находится в море, он 'вставлен в рамку' воды, он представляет собой воду в первой степени. Его бытие, его позитивный и негативный экзистенциализм обыгрывает ди-алектику любви к воде и водянки. Мы ощутим эту диалек-тику в действии после того, как ослабим яркость четко очер-ченных образов, как раз после того, как предадимся медита-циям над материальным выражением алхимических образов. Как писал об этом Юнг: 'Ja selbst die Mater Alchemia ist in ihrer unter Körperhälfte hydropisch' (Ведь даже Мать Алхимия в нижней части своего тела страдает водянкой) (Die Psychologie der Uebertragung, S. 165). Для грезящего на уровне стихий любая беременность развивается как водянка. Она представ-ляет собой избыток воды.
Если же теперь мы пожелаем избавиться от всяких наи-вных образов и последовать за алхимиком в его мыслитель-ном усилии, в его овладении иллюстрированием собствен-ных отвлеченных идей, касающихся сокровенности субстан-ций, нам необходимо будет рассмотреть взаимодействие кру-гов и квадратов. В этом случае мы будем считать, что значи-тельно дистанцировались от глубинных грез; фактически, мы вплотную приблизились к архетипам.
Действительно, тот, кто вычерчивает круг, наделяя его символическими ценностями, более или менее скрыто грезит о животе; а тот, кто вычерчивает квадрат, придавая ему сим-волические ценности, строит некое пристанище. Мы не так-то легко расстаемся с бессознательными проблемами ради подлинно геометрических.
140
Если нам требуется дальнейшее приближение к истокам в царстве архетипов, то, возможно, имеет смысл проиллюстри-ровать кругом женский комплекс Ионы, а квадратом - од-ноименный мужской комплекс. Тем самым можно придать полное фигуративное сновидческое выражение архетипам 'ани-мус' и 'анима', что будет соответствовать их бессознатель-ным потенциям. Впрочем, не следует нарушать основопола-гающей двойственности, которую выдвинул Юнг, связывая анимус с анимой. В этом случае у нас было бы два фундамен-тальных типа Ионы, соответствующих приводимым ниже схемам: анима в анимусе и анимус в аниме.


Как бы там ни было, отношения между анимой и аниму-сом регулируются диалектикой обволакивания, а не разделе-ния. И в этом-то смысле бессознательное в своих наиболее изначальных формах гермафродитично.
Фигура, заимствованная из одной алхимической книги 1687 г. и воспроизведенная в книге К. Г. Юнга 'Психология и алхи-мия' (S. 183), изображает квадрат, в который вписан круг. Внутри квадрата находятся две фигурки, мужчина и женщи-на. Подпись такова: Квадратура круга. Но ведь это изобра-жение не является исключительным, и если провести его ана-лиз, опираясь на комментарии, приведенные авторами-алхи-миками, мы уразумеем смешанный характер их убеждений. Они стремились прояснить реалистические интуиции с по-мощью геометрических. Квадратура круга означает здесь объе-динение мужского пола с женским в некую тотальность по-добно тому, как в одной и той же фигуре мы объединяем круг, вписанный в квадрат, или квадрат, вписанный в круг. Такое смешение ценностей наглядного изображения с ценно-стями бессознательных убеждений весьма отчетливо характе-ризует комплексуальный характер подобных грез14.
14 См. Lœffler-Delachaux. Le Cercle. Un Symbole.
141
Мы полагаем, стало быть, что предлагаемые нами схемы являются абстракциями лишь внешне. Они помещают нас у самих истоков потребности изображать, выражать, убеждаться в существовании сокровенной реальности посредством изобра-жений и выражений. Отгородиться - вот великая человеческая греза. Обрести замкнутость изначального покоя - вот желание, возрождающееся с того момента, как мы начинаем грезить спо-койно. Образы убежища исследовались слишком уж часто, как будто воображение стремится предотвратить реальные трудно-сти, а существованию непрестанно что-то угрожает. И действи-тельно, стоит лишь начать анализировать комплекс Ионы, как мы увидим, что он предстанет как ценность, сопряженная с блаженством. Впоследствии комплекс Ионы отметит всевоз-можные фигуры убежищ изначальным знаком нежного, тепло-го блаженства, которому ничто не угрожает. Поистине это абсо-лют сокровенности, абсолют счастливого подсознания.
Итак, на страже этой ценности будет стоять всего лишь один символ. И бессознательное уверится в замкнутости круга в такой же степени, что и искушеннейший геометр: если мы дадим возможность грезам о сокровенном следовать своей дорогой, то посредством непрерывной инволюции мы обнару-жим все степени обволакивания, а рука грезящего вычертит изначальный круг. Стало быть, кажется, будто самому бессозна-тельному ведома сфера ПарменидаA как символ бытия. И этой сфере не свойственны рациональные красоты геометрического объема, ей присуща непреложная безопасность живота.
VII
Уже в силу того, что психоаналитики разрабатывают но-вые типы психологического истолкования, они имеют опре-деленную тенденцию отвечать одним словом на сложные воп-росы обыкновенного психолога. Если их спросят, откуда бе-рется более или менее серьезный интерес к образам Ионы, то
А Парменид Элейский (ок. 515 - ок. 470 до н.э.) - древ.-греч. фило-соф. Своим утверждением 'Бытие существует, а небытие не существует' основал западную онтологию. Считается противником Гераклита, утвер-ждавшего противоположное. От его сочинения 'О природе' сохранилось 60 стихов.
142
они ответят: это особый случай процесса идентификации. Бессознательное, по сути дела, обладает изумительной спо-собностью к усваиванию. Оно одушевляется непрестанно во-зобновляемым желанием усваивать все события, и это ус-ваивание является столь полным, что бессознательное, в от-личие от памяти, уже не может ни отдалиться от собствен-ных приобретений, ни вытащить прошлое на свет. Прошлое в него вписано, но оно не прочитывается. Это делает тем более важной проблему выражения бессознательных ценнос-тей. Итак, если мы подчиним образы Ионы общему закону усваивания, останется объяснить, как эти образы множатся и отличаются друг от друга, почему они стремятся столь по-разному выражаться. Психоанализ, следовательно, должен учитывать эту проблему выражения, рассматривая выраже-ние как, в конечном счете, подлинную диалектику процесса
усваивания.
Случаи комплекса Ионы весьма благоприятствуют изуче-нию такой проблемы проекции фантазмов на образ, поскольку у этого образа имеются в прямом смысле объективные черты. Фактически можно сказать, что здесь очерчено возвращение к матери. ШтекельA, 15 приводит случай тринадцатилетнего боль-ного, который оживлял этот фантазм так: ему хотелось по-знать изнутри чудовищно огромное тело некоей великанши. Он воображал качели, установленные внутри тела великан-ши, что казалось ему сочетанием всех видов упоения. Ее живот достигал десяти метров в высоту. Штекель усматрива-ет здесь проекцию в масштабе тринадцатилетнего грезовидца пропорций, связывающих эмбрион с матерью. Вот так смут-ные импульсы, называемые психоаналитиками термином воз-вращение к матери, находят наивное визуальное представле-ние. Здесь проявляется потребность видеть, и это тем более характерно, поскольку она соотносит грезящего с пренаталь-ным периодом, когда он ничего не видел. Поразмыслив над этим примером, мы дойдем до корня потребности в образах.
А Штекель, Вильгельм (1868-1940) - австр. психоаналитик. Один из первых адептов психоанализа. После разрыва с Фрейдом в 1912 г. обвинял последнего в плагиате (теории либидо и методов лечения).
15 Цит по.: Silberer H. Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, p. 198.
143
Несомненно, потребность эта удовлетворяется здесь весьма грубо и крайне наивно. Грезовидец склеивает бессознатель-ные элементы с сознательными, не различая их оттенков. Но как раз это отсутствие оттенков и превращает образ Ионы в схему, полезную для психоаналитической трактовки фантаз-ма возвращения к матери.
VIII
Психоаналитики часто забывают об одном элементе мифа. По существу, забывают о том, что Иона вышел на свет. Не-зависимо от объяснения комплекса Ионы с помощью соляр-ных мифов, в этом 'выходе' присутствует категория обра-зов, заслуживающих внимания. Выход из живота автомати-чески становится возвращением к сознательной жизни и даже к жизни, стремящейся к новому сознанию. Этот образ выхо-да Ионы мы без труда соотнесем и с темами реального рож-дения, и с темами рождения посвященного после инициа-ции, и с алхимическими темами субстанциального обновле-ния (см. Wiedergeburt // Silberer H. Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, pp. 194 suiv.).
Доктор Анри Флурнуа, внимательно рассмотрев изобра-жения на гербах, делает следующие замечания: 'Иногда в гербах встречается (фигура) ужа, изрыгающего пламя или заглатывающего ребенка. Мне кажется, что геральдисты со-вершают ошибку в способе интерпретации этого последнего изображения; животное не заглатывает маленького челове-ка, как считают они, а извергает его из себя. Это объясне-ние представляется мне наипростейшим... Если змей, выпле-вывающий пламя, благодаря своему итифаллическомуA смыс-лу весьма выразительно отображает идею творческой мощи, то понятно, что образ змея, извергающего ребенка, симво-лизирует эту идею еще лучше'16. Впрочем, здесь можно за-метить своего рода презрительное творение, когда творит самец, буквально выплевывающий своих детей.
А Итифаллический - о статуе или персонаже: с пенисом в состоянии эрекции.
16 Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, 1920.
144
Как бы то ни было, массу литературных образов выплевы-вания, дающего потомство, можно найти с достаточной лег-костью. Вкратце приведем один пример. 'Плоды раскрыва-лись, давая рождение крокодилятам, из пастей которых вы-бегали головы женщин и мужчин. Эти головы преследовали друг друга и попарно соединялись с помощью губ'17. Вот вам функция, обратная (Ионе)2, которую склонный к фантазиям алгебраист для удобства собственных классификаций преспо-койно запишет как (Иона)2.
'Здравомыслящий' читатель поспешит заклеймить необосно-ванность этого образа, относящегося к прекрасной эпохе сюрре-ализма. А, между тем, нам удастся лучше оценить онирическую ценность образа, вышедшего из-под пера Рибмон-Дессеня, если мы сравним его с древними образными системами: женщина, выходящая из пасти крокодила - ведь это рождение сирены.
На гравюре, воспроизведенной на 610 странице книги Юнга 'Psychologie und Alchemie', на миниатюре XVIII века Вишну изображен выходящим изо рта рыбы. Точно так же старин-ные гравюры, изображающие сирен, довольно часто наводят на мысль о женщине, выходящей из рыбьей чешуи, будто из некоего чехла. Сколь бы мало мы ни прислушивались к гре-зам, они с легкостью следуют этому импульсу, исходящему от образа, как будто в сирене запечатлены рождение жизни и ее краткая океаническая родословная. Если мы будем спо-собствовать проявлению бессознательного с помощью таких образов, мы вскоре уясним, что водяная сирена представляет собой не просто соположение двух форм: ее происхождение гораздо глубже, нежели непринужденность мускульных дви-жений пловчихи. Образ сирены соприкасается с бессозна-тельными зонами матки вод.
IX
Разумеется, мы не должны отслеживать все усилия по ра-ционализации, затраченные на подтверждение того, что жи-вотные якобы пребывают в человеческом теле. Достаточно привести несколько примеров.
17 Ribemont-Dessaignes G. L'Autruche aux Yeux clos, 1925.
145
Распайль, придающий громадное значение влиянию жи-вотных на здоровье человека, собрал множество историй о змеях, проскальзывающих в человеческое тело18. 'Змеи ищут молочных продуктов и падки на оглушающее их вино. Кое-кто видел, как они доили коров, их даже находили на дне чанов с молоком! Они могут проскальзывать в какой-либо орган, не причиняя на своем пути ни малейшей боли. Так почему бы им не питаться молоком в желудке ребенка, а вином - в желудке пьяницы, как будто отправляясь в молочную лавку или в бочку?' И далее: 'Вообразите, как маленькая змейка поздней осенью ищет убежище, чтобы свернуться и погреться; вообразите, как она пролезает под юбки заснувшей крестьянки; не сможет ли потребность в зимней спячке заставить ее проскользнуть через влагали-ще в маточную полость, чтобы съежиться там в оцепене-нии?'
Помимо этой попытки обсуждения, где присутствуют эле-менты разной степени объективности, у Распайля можно найти весьма любопытный оборот речи, который приведет нас в мир грез.
Распайль говорит, что в сообщении Плиния о том, что некая служанка смогла забеременеть от змея, нет ничего чу-десного, 'если мы вообразим, что этот маленький змей, пользу-ясь пригрезившимся спазмом, вошел во влагалище спящей слу-жанки, что он вышел оттуда более непокорным, ибо претер-пел много мук, и тем самым причинил ей все боли, встреча-ющиеся при выкидыше'19. Так необходимо ли, чтобы спазм грез с такой легкостью реагировал на столь исключительный случай, когда змейка действительно ищет себе пристанище? Только бог сна сможет распределить окказиональные причи-ны с такой легкостью, установив отношения между миром реальности и миром грез. Раз уж нам пришлось начать анек-дот с пригрезившегося спазма, почему бы не списать его це-ликом на счет наваждения?
18 Raspail F. Histoire naturelle de la Santé et de la Maladie..., 1843. T. I, p. 295.
19 Курсив автора.
146
X
Поскольку образ Ионы во чреве китовом пользуется та-кой популярностью, он, вероятно, имеет более глубокие кор-ни, нежели просто забавная традиция. Ему должны соответ-ствовать грезы более сокровенные и не столь объективные.
По существу, эти грезы зачастую происходят от хорошо известного психоаналитикам смешения сексуальной и пище-варительной функций живота. Попытаемся различить эти две зоны бессознательного чуть отчетливее.
В пищеварительной форме образ Ионы соответствует алч-ности, с которой пищу глотают, не тратя времени на ее пере-жевывание. Похоже, что обжора, движимый примитивными бессознательными удовольствиями, возвращается в период сосания материнской груди (sucking). Наблюдатель-физионо-мист обнаружит черты сосунка на лице пожирателя устриц - редкого блюда, которое жители Запада проглатывают 'живь-ем'. На самом деле, представляется, что можно выделить две стадии орального бессознательного: первая соответствует воз-расту, когда пищу глотают, вторая - когда ее грызут. Обра-зами этих двух стадий могут служить кит Ионы и Людоед из сказки 'Мальчик-с-Пальчик'. Заметим, что для проглочен-ной жертвы первый образ кажется совсем не таким устра-шающим, как второй. Если же мы отождествим себя с гло-тателем, то в промежутке между первым и вторым образами появляется новый порядок агрессивности. Воля к прогла-тыванию весьма слаба по сравнению с волей к откусыванию. Психолог воли должен интегрировать различные коэффици-енты в столь динамически разных образах. Здесь обновится вся гастрономия, для которой психическая подготовка необ-ходима в той же степени, что и кулинарная. Мы без труда поймем, что еду следует оценивать не только согласно пита-тельному балансу, но еще и по должному удовлетворению, доставляемому всей полноте бессознательного бытия. Необ-ходимо, чтобы в хорошей еде объединялись сознательные и бессознательные ценности. Наряду с субстанциальными жер-твами, приносимыми воле к откусыванию, она должна вклю-чать в себя чествование блаженного времени, когда мы все проглатывали с закрытыми глазами.
147
Впрочем, поразительно, что мифологи имплицитно при-знали различие между двумя уровнями бессознательного, со-ответствующие двум действиям - откусыванию и проглаты-ванию. Шарль Плуа пишет: 'Проглатывая героя, корова из Вед способствует его исчезновению либо делает его невиди-мым: мы, разумеется, соприкасаемся с мифическим фактом, ибо герой проглочен, но не пожран; он еще вылезет ради развязки.' Проглочен, но не пожран - вот чем отличаются все дневные мифы от мифов ночных. Несомненно, рацио-нальное объяснение стремится понять этот факт наскоро и не принимая во внимание онирических ценностей; оно ска-жет: раз уж сказка должна вернуть нам героя во всем блеске нового дня, разумнее было бы не разрывать его на куски. Но не видно, отчего миф должен внезапно заболеть ленью в производстве чудес. В действительности, пожирание подра-зумевает более осознанную волю. Проглатывание же пред-ставляет собой более примитивную функцию. Потому-то гло-тание - функция мифическая20.
Проглоченный не претерпевает настоящего несчастья, он не обязательно становится игрушкой бедственного происше-ствия. Он сохраняет некую доблесть (valeur). Как заметил К. Г. Юнг: 'Когда индивида проглатывает дракон, это не толь-ко отрицательное событие; если проглоченный персонаж яв-ляется настоящим героем, он проникает прямо в желудок чудовища; мифология говорит, что герой попадает в желудок кита вместе со своим суденышком и оружием. Там он изо всех сил пытается взломать стенки желудка обломками свое-го ялика. Он погружен в глубокий мрак, а тепло такое, что он утрачивает волосы. Затем он разводит внутри чудовища костер и стремится найти жизненно важный орган, сердце или печень, каковые и пронзает мечом. В продолжение этих приключений кит плывет в западных морях в сторону Восто-ка, а на Востоке море выбрасывает на побережье его мертво-го. Догадавшись об этом, герой вспарывает киту бок и выхо-
20 См. Bréal M.A Hercules et Cacus. Éd. 1863, p. 157.
A Бреаль, Мишель (1832-1915) - франц. лингвист. Учился в Берли-не у Ф. Боппа, чьи труды по сравнительному языкознанию переводил в 1866-1872 гг., тем самым став первым французским компаративистом. Осн. труд - 'Опыт о семантике' (1897).
148
дит оттуда - этакий новорожденный - в час солнечного восхода. Но это еще не все, из кита он выходит не один, внутри кита он обнаружил своих усопших родителей, духов своих предков, а также стада, составлявшие богатство его семьи. Всех их герой выводит на свет Божий ради восстанов-ления и полного обновления природы. Таково содержание мифа о ките или драконе' (L'Homme à la Découverte de son Ame. Trad., p. 344).
Чтобы событие сохранило свои мифические ценности и бессознательные функции, оно должно быть кратким. Сле-довательно, чересчур подробные повествования утрачивают мифические ценности. Писатель, который делает своего ге-роя по-человечески слишком ловким, сглаживает его косми-ческое могущество. Этот изъян часто встречается в мифоло-гиях, пересказанных для детей. Посмотрим, к примеру, как Натаниэль Готорн пересказывает бой Кадма с драконом: пасть дракона 'производила впечатление большой кровавой пеще-ры, в глубине которой все еще шевелились ноги его после-дней жертвы, проглоченной единым махом...'21. Это сравне-ние глотки чудовища с пещерой ставит проблемы, каковые мы лучше уразумеем, когда исследуем образы грота и при-знаем изоморфность всех образов глубины. Впрочем, после-дуем за повествованием американского сказочника. Вот ге-рой. Перед этой кровавой пастью-пещерой 'достать меч... и ринуться в омерзительную бездну оказалось для Кадма де-лом одного момента. Эта отважная хитрость восторжествова-ла над драконом. Получилось, что Кадм ринулся в его глотку так глубоко, что ряды ужасных зубов не смогли над ним зам-кнуться и не причинили ему ни малейшей боли.' И вот - нападение на чудовище изнутри, за тремя рядами зубов. Кадм 'рубит и перетряхивает его кишки'. Он вылезает победителем из брюха монстра, которому только и остается, что испустить дух. Весьма забавна в этом отношении гравюра БерталляА,
21 Hawthorne N. Le Livre des Merveilles. 2e partie. Trad., 1867, p. 123.
A Берталль (Шарль Альбер д'Арну) (1820-1882) - франц. рисоваль-щик и карикатурист. Опубликовал множество иллюстраций к популяр-ным романам, а также в журналах и альбомах. Само имя 'Берталль' - анаграмма имени 'Альберт'.
149
иллюстрирующая французское издание. Своей ребяческой отвагой она понравится любому ребенку. Она наивно ис-пользует счастливый конец мифов с комплексом Ионы, весьма 'простецки' задействует двойственный характер цен-ностей, уклоняясь от ответа на вопрос о максимуме мощи, распределенной между глотателем и проглоченным. В книге Натаниэля Готорна множество других примеров чересчур 'ис-толкованных' мифов. Тем самым немало ростков подлинно-го ониризма оказалось задушенными из-за выкладок, цель которых зачастую состоит в том, чтобы преподать детям 'об-разный' урок.
Но к образу Ионы пищеварительного нередко примеши-вается половой компонент, каковой нам надо вкратце обо-значить. И тогда образ поддается отчетливому соотнесению с мифами о рождении. Так, когда мать китайского бога ФоА 'была им беременна, ей приснилось, - говорит Коллен де Планси, - будто она проглотила белого слона'! Медицинс-кие анналы проявляют интерес к анекдотам, представляю-щим собой настоящие индивидуальные мифы. И опять же Распайль рассказывает, что некая девица 'ввела себе во вла-галище куриное яйцо, которое прошло в этой среде все фазы инкубации, так что она смогла разрешиться живым цыплен-ком'. Между этими двумя фактами - легендарной женщи-ной, проглотившей слона, дабы забеременеть богом, и де-вушкой, столь 'интимно' высиживающей куриное яйцо, мож-но нагромоздить множество фантазмов. Теория взаимовло-жения зародышей, возможно, является своего рода комплек-сом Ионы ученого. У этой теории отсутствует какая бы то ни было описательная база, зато к ней нетрудно подобрать леген-ды. Так, некий автор, описывающий лечение женских болез-ней в книге 'Натуральная химия', утверждает: '"Le Journal d'Allemagne" сообщает о маленькой девочке, которая родилась беременной, подобно мышам, выходящим брюхатыми из жи-вотов своих матерей, если верить в этом естествоиспытате-лям.' (Duncan D. Chymie naturelle..., p. 164). Поразмыслив над такими текстами, можно убедиться, что в комплексе 'хорошо устроившегося' Ионы всегда есть половой компонент.
А Т.е. Будды.
150
Вот и Шарль БодуэнА сопоставляет комплекс Ионы с ми-фом о новом рождении. 'Герой, - пишет он, - не доволь-ствуется возвращением в материнское лоно, но снова выхо-дит из него, как Иона из кита или Ной из ковчега.' Бодуэн применяет это замечание к Виктору Гюго22. Он цитирует странное место из 'Отверженных', где рассказчик помещает своего юного героя Гавроша в брюхо каменного слона, сто-явшего тогда на площади Бастилии. Гаврош изведал 'то, что пришлось пережить Ионе в библейском чреве китовом'. Пе-речитайте соответствующую страницу 'Отверженных': ничто не готовит этого сближения сознательно. Для него надо най-ти неведомые разуму основания. Впоследствии мы увидим, что в произведениях Виктора Гюго важно учитывать бессоз-нательную инстанцию.
XI
Сославшись на образ, в который в сознательной жизни никто не верит, но который между тем выражает своего рода убеждение жизни бессознательной, мы пожелали доказать, что у самых безудержно фантастических образов истоки, мож-но сказать, почти естественные. Поскольку этот образ уже вчерне проиллюстрирован в наших замечаниях, теперь не со-ставит труда предположить существование 'Ионы скрытого', даже если образ уже не получит ни традиционного имени, ни даже характерных черт.
При диагностике образов необходимо даже отделить от чересчур показных образов образы, утрачивающие свои та-инственные чары, так что психоанализ литературы столкнет-ся с тем же парадоксом, что и психологический психоанализ: явный образ - не всегда примета мощи стоящего за ним образа скрытого. И именно здесь материальное воображение, функция которого состоит в воображении образов формы вглубь, призвано обнаружить глубинные инстанции бессоз-
А Бодуэн, Шарль (1893-1963) - франц. психоаналитик юнгианского толка и лит. критик. Один из инициаторов внедрения психоанализа в лит. критику. Автор книг о Л. Толстом, Э. Верхарне и В. Гюго.
22 Baudouin Ch. La Psychanalyse de Victor Hugo, pp. 168-169.
151
нательного. Приведем единственный пример показных обра-зов, вызванных, как нам кажется, характером литературного метода. Золя пишет в начале 'Жерминаля': 'Шахта прогла-тывала людей по двадцать-тридцать, - к тому же, столь лег-ким движением гортани, что казалось, будто она не ощущает, как они пролетают'. (Ed. parisienne. T. I, p. 35). Образ про-должается на страницах 36, 42, 49, 82 и 83 с такой настойчи-востью, что рудник принимает облик прожорливого монстра в социальном смысле. И действительно начинает казаться, что поляризация всех этих образов устремлена к финальной метафоре. Они теряют непосредственное воздействие.
Так займемся же образами, которые внешне не столь изыс-канны, но могут оказаться более показательными.
К примеру, можно понять, почему Поль Клодель соглас-но закону сокровенности образов и под давлением 'тайного Ионы' переходит от крыши к животу. 'Кровля представляет собой попросту изобретение человека, коему необходимо пол-ностью замкнуть полость, подобную полости могилы и мате-ринского чрева, восстанавливаемого им ради перестройки сна и питания. Теперь эта полость заполнена целиком, она раз-дулась, словно нечто живое'23. Мимоходом заметим характер гигантского синтеза, осуществленного в этом образе. Как не узнать здесь поливалентных черт комплексов? Здесь возмо-жен подход с разных сторон: хорошо спать или хорошо пере-варивать пищу? Однако же, речь шла всего лишь о кровле! Пронаблюдаем за одной-единственной образной линией. Чтобы хорошо спать, чтобы спать под хорошим кровом, надежной защитой, чтобы спать в тепле, нет пристанища лучше мате-ринского лона. Любой кров вызывает грезу о крове идеаль-ном. Возвращение в отчий дом, возвращение в колыбель - путь наиболее значительных грез.
Маленький домик лучше приспособлен для хорошего сна, чем большой дом23bis, а еще лучше - та совершенная полость, которой было материнское чрево. В нескольких строках Клоде-ля отчетливо продемонстрирован поливалентный характер воз-вращения в полость, которую грезовидец занимает целиком.
23 Claudel P. Art Poétique, p. 204.
23bìs Parva domus, magna quies. (Малый дом, большой покой - лат.).
152
А где можно найти более отчетливый пример, чтобы пока-зать онирическое материнство смерти? Не являются ли здесь материнский живот и саркофаг двумя моментами одного и того же образа? Смерть и сон - это одинаковое окукливание существа, которому предстоит пробудиться и воскреснуть об-новленным. Умереть или уснуть означает замкнуться в себе. Вот почему в стихотворении Ноэля Бюро из двух строк от-крывается столь широкий путь сновидений:
C'était pour se blottir Qu'il voulait mourir.
(Именно чтоб съежиться,
Он хотел умереть.)
(Rigueurs, p. 24.)
Неудивительно, что такой гений, как Эдгар По, отмечен-ный двояким знаком привязанности к матери и навязчивос-ти смерти, как бы приумножил взаимовложенность смертей. В рассказе о мумии, чтобы защитить человека, уже перевя-занного ленточками, понадобилось три гроба.
XII
А вот образы, выраженные проще, но не менее значитель-ные.
Например, в одном стихотворении Гильвика дана суть рас-сматриваемого образа:
... sur la colline
Les choux étaient plus ventrus que tous les ventres.
(...на холме
Капуста была более пузата, чем все животы.)
(Terraqué, p. 43.)
К тому же, стихотворение, содержащее эти строки, назы-вается 'Рождение'. Стоит лишь погрезить о весьма простом образе, внушаемом нам Гильвиком, как мы совершенно есте-ственно вспомним легенду о детях, рожденных в капусте. Поистине это легенда-образ, образ, который сам рассказывает
153
легенду, - и здесь, как происходит весьма часто, Гильвик, этот грезовидец глубины предметов, обнаруживает ониричес-кий фон ясных образов. Над нашим языком, наводненным формальными прилагательными, ради обнаружения объекта, ради того, чтобы ощутить живот, разглядывая пузатые объек-ты, иногда необходимо медитировать.
Стоит нам 'проникнуться' образом живота, как нам по-кажется, что обретающие его существа анимализуются. Если прочесть страницы 24 и 25 из новеллы 'Господин д'Амеркёр' (А. де Ренье. Яшмовая трость), то мы увидим, что очертания носов у кораблей с 'пузатыми корпусами' напоминают 'рыла'. Суда 'с округлыми брюхами... плюются струйками грязной воды из носовых частей, похожих на рожи'.
В произведениях Ги де Мопассана много животов - и животы эти редко бывают счастливыми. Отметим некоторые из них в одном лишь романе 'Пьер и Жан': '... и всевозмож-ные дурные запахи, казалось, исходили из брюха домов' (р. 106); 'здоровое зловоние свежего улова поднимается из полного живота корзины' (р. 100) (корзины с рыбой)24. Даже настен-ные часы одушевляются образом 'тайного Ионы', который ощущается лишь по своему чревовещанию (р. 132): 'настен-ные часы... в звонке которых был звук глубокий и солидный, словно это небольшое часовое изделие проглотило колокол собора'25. Если бы критики возразили нам, что мы слишком много занимаемся систематизацией бессознательных тенден-ций, мы попросили бы их объяснить этот последний образ с помощью четко очерченных и осознанных образов. Откуда, в самом деле, берется эта греза о надкаминных часах, поглоща-ющих соборные колокола? На наш взгляд, если следовать пер-
24 С этим, несомненно, очень маловыразительным образом живота корзины было бы интересно сопоставить то, что Морис ЛеенхардтA сооб-щает нам о понятии тела в меланезийском мире. Там живот и корзина связаны более яркими образами (см. Leenhardt M. Do Kamo, pp. 25 suiv.).
A Леенхардт, Морис (1878-1954) - франц. этнолог. Протестантский миссионер, проведший 25 лет в Новой Каледонии. Эссе 'До Камо' (1947) посвящено описанию представителей племени канаков.
25 Оставаясь в формальной плоскости, Эрнест Рейно пишет в своем 'Бодлере' по поводу стиля эпохи Луи-Филиппа: 'Живот подчинял себе все, даже форму настенных часов'.
154
спективам бессознательного, все прозрачно: комплекс Ионы, образная форма более глубинных комплексов, играет неко-торую роль в этом поразительном романе, отмеченном, слов-но предзнанием, открытиями, каковые психоанализу пред-стояло сделать в результате исследований бессознательного26. Иногда у образа живота умножаются функции. Еще Ми-нотавр был животом переваривающим, сжигающим и порож-дающим. Живот из 'Монт-Ориоля' также активен. Вспом-ним длинную историю небольшого холма, так называемого 'rô' в начале 'Монт-Ориоля'. Лично нам эта история набила оскомину в юности, когда в нашем чтении отсутствовали психоаналитические интересы. Когда появляется психоана-литическая точка зрения, все меняется. Папаша Ориоль тру-дится целую неделю, чтобы проделать в камне отверстие. После столь продолжительных усилий это отверстие превраща-ется в 'пустое брюхо громадной скалы'. Это брюхо набивают порохом, и нежную Кристиану, заинтересовавшуюся этой ис-торией, долго забавляет 'мысль о взрыве'. Для драматизации взрыва следуют десять страниц. Что же получается? Источник. Живот, взрывающийся, словно удар грома, сжигающий всю спрессованную в нем материю, мечущий бурную воду - вот каков переживаемый утес, живот скал, осознающий всю свою мощь. Надо ли удивляться, что вода папаши Ориоля, вот так бьющая для его дочерей, оказывается минеральной, благотворной и целебной; что она приносит здоровье и бо-гатство. Для того, чтобы покончить с этой темой комплек-сов, потребовалось пятьдесят страниц. Лишь потом в романе завязывается человеческая драма.
С точки зрения общей теории воображения интересно на-блюдать, как такой современный автор, как Мопассан, весь-ма приверженный сознательным ценностям и очень заботя-
26 Например, в начале романа герой, выступающий в дальнейшем как любовник, бежит за акушеркой. Мопассан указывает, что этот персонаж впопыхах перепутывает шляпы: он надевает шляпу мужа. Следователь-но, начиная с сороковой страницы, для психоаналитика роман прозрачен. Вот вам пример текста, наделенного разными коэффициентами неизвес-тного - для читателя ХХ века и для читателя века XIX, немного сведуще-го в методах психоанализа.
155
щийся о реалистических деталях, бесстрашно работает здесь над древнейшей темой. На самом деле, мы здесь в который раз сталкиваемся с темой воды, бьющей из скал. Достаточно перечитать на этот предмет страницы, посвященные указан-ной теме СентивомА в 'Исследованиях библейского фольк-лора'. Читатель увидит всю ее важность.
Нам возразят, что мы постулируем бессознательные им-пульсы для повествования, включающего лишь реальные и весьма связные факты. Мы же немедленно сдвинем центр дискуссии, спросив, чем интересна повесть Мопассана. К тому же, с момента, когда автор приступил к осуществлению зада-чи продолжительного описания, он уже знал, что из взорван-ной скалы забьет целебный источник. Его поддерживал ин-терес к этому архетипу, жившему в его бессознательном. И если при первом прочтении повествование показалось нам столь холодным и инертным, то это потому, что автор не сориентировал наших ожиданий. Мы читаем роман без пол-ной синхронизации с подсознанием писателя. Писатель зара-нее грезит о грезе читателя, который из-за этого оказывается лишенным онирической подготовки, необходимой для пол-ного чтения, для чтения, заново воображающего все ценнос-ти, как реалистические, так и бессознательные.
Чтобы возбудить комплекс Ионы, нужны сущие пустяки. Плывя в джонке китайского мандарина в душный жаркий день и под очень пасмурным небом, Пьер Лоти писал: 'Ис-кривленная и чересчур низкая крыша, вытянувшаяся над нами подобно рыбьей спине, с остовом, напоминающим позвонки, доставляла нам ощущение, будто мы заключены в брюхо ка-кого-то зверя' (Propos d'Exil, p. 232). Рассмотрите одну за другой объективные черты, дающие 'ощущение заключения в животе зверя', и вы не увидите ни единой, которая была бы восприимчивой к зачину образа пребывания в животе. Разве эта полная неспособность реального к формированию образов не дает понять, что источник образа в другом месте? Этот источник скрыт в бессознательном рассказчика. Комп-
А Сентив, Пьер (Эмиль Нурри) (1870-1935) - франц. книгопродавец и издатель. Президент Общества франц. фольклора. Здесь цитируется работа 1922 г.
156
лекс Ионы в легкой форме по малейшему поводу пробужда-ет легендарный образ. Этот образ не сочетается с реальнос-тью, а между тем кажется, будто писатель подсознательно верит, что он встретится у читателя с другим дремлющим образом, который поможет осуществить синтез разрознен-ных впечатлений. Мы не странствовали в джонке мандарина, равно как и не находились в брюхе зверя, но мы свидетель-ствуем о нашей сцепленности с образами грезящего путеше-ственника - через бессознательную сопричастность.
Порою образ Ионы зачинается без единой характерной черты. Он возникает как метафорическое выражение страха, который сильнее панического испуга, - как страх, связан-ный с глубинными бессознательными архетипами. Так, в повести Хосе Эустасио РиверыА 'Затерянные в аду каучуко-вых лесов' (Bifur, 8), читаем: '"Мы заблудились"B. Эти два слова, такие простые и заурядные, будучи произнесенными в лесу, вызывают взрыв страха, который невозможно даже сравнить с раздающимся в панике "спасайся кто может". В сознании слышащего их возникает видение кровожадной бездны, самого леса, разверстого перед душой, словно рот, проглатывающий людей, которых помещают меж его челю-стей голод и уныние.' Здесь можно удивиться, ибо ни одна формальная черта не может этот образ удостоверить: у леса нет ни рта, ни челюстей. Между тем образ производит впе-чатление: кровожадная бездна уже не забудется. Архетип Ионы настолько существен, что он сочетается с всевозмож-ными образами.
XIII
Столь легко поддающийся осмыслению образ, как образ живота, разумеется, весьма чувствителен к диалектическому взаимодействию противоположных ценностей. У одного и того же автора - вот брюхо, над которым подшучивают, и брюхо, подвергающееся поношению.
А Ривера, Хосе Эустасио (1889-1928) - колумб. писатель. Автор ро-мана, описывающего жизнь собирателей каучука в девственном лесу. B Можно понимать и как 'мы пропали'.
157
'В какую превосходную химеру превратили бы наши пред-ки то, что мы называем котлом... Из этого котла они сделали бы чудовищное облупившееся брюхо, а то и панцирь гигант-ских размеров...' (Hugo V. France et Belgique, p. 121). A в 'Четырех ветрах духа' Гюго, к тому же, говорит:
Buvez, mangez, faites-vous de gros ventres. (Пейте, ешьте, растите толстые животы.)
Но в других текстах эта ценность предстает с изнанки: 'Живот для человечества нависает страшным бременем; еже-секундно он нарушает равновесие души и тела. Он заполняет собой историю. Он несет ответственность почти за все пре-ступления. Это бурдюк пороков' (Hugo V. William Shakespeare, P- 79).
Мы считаем достаточным привести антитезу двух мета-фор. Примеры на ту же тему можно приумножать без труда. Но более наглядным будет пронаблюдать за взаимодействием ценностей в образах, сильнее задевающих бессознательное. Воображение, воспринимаемое в первозданности своей силы, характеризует живот как счастливую, теплую и спокойную зону. А значит, весьма интересно посмотреть, как этот изна-чально счастливый образ предается саморазрушению в такой отмеченной страданием книге, как 'Тошнота' Жана Поля Сар-тра. Эта книга проникнута знаком незаурядной привержен-ности подсознательным силам, даже когда ее герой Рокантен изображается в бессвязности осознанных впечатлений. Так, даже страдающий тошнотой, не желающий ничего глотать, болеющий 'комплексом Анти-Ионы', он повсюду встречает животы. Вот скамейка в кафе: 'Громадное повернутое квер-ху брюхо, окровавленное (ибо скамейка обита красным плю-шем), вздутое, ощерившееся всеми своими мертвыми лапами, брюхо, плывущее в этом ящике, в этом сером небе - это вовсе не сиденье. С таким же успехом это мог бы быть, к примеру, издохший осел, который раздувшись от воды, плы-вет по большой серой широко разлившейся реке; а я сижу на брюхе осла, спустив ноги в светлую воду. Вещи освободи-лись от своих названий. Вот они, причудливые, упрямые, огромные, и глупо называть их сиденьями и вообще гово-
158
рить о них что-нибудь: Я среди Вещей, среди не поддаю-щихся наименованию вещей'А.
Похоже, что стоит удержать невыразимые в бессознатель-ном, как они начинают заниматься бесконечными поисками имен. Назвать на мгновение животом то, что было скамей-кой - уже этого достаточно, чтобы выпустить из подсозна-ния пары эмоциональности. Поль ГийомB заметил, что мы прилаживаем к обыкновеннейшим предметам имена, взятые из анатомии тела человека или животного. Мы говорим о ножках стола и ручке сковородки, о 'бычьем глазе' (œil de bœuf - слуховое окно) и о глазках (т. е. пузырьках) в буль-оне. Но все эти образы почти не работают. По-иному обсто-ят дела с образами, затронутыми бессознательными интереса-ми. Даже в этом аспекте мертвого брюха - живота дохлого осла, плывущего по течению, что является весьма редкост-ным зрелищем, наделенным тяжестью символа бесславной смерти - живот выполняет свою функцию живого образа. Он сохраняет свое качество центрального образа. Живот пред-ставляет собой центр большой серой реки, центр процежива-емого дождями неба, спасательный круг для пострадавшего от наводнения. Он медленно переваривает Мироздание. Жи-вот - это полный образ, наделяющий связностью бессвязную онирическую активность.
Теперь, возможно, мы уразумеем психосинтетическое воз-действие некоторых образных грез. Если бы мы не разгляде-ли онирической непрерывности, пронизывающей страницу Сартра, то было бы достаточно сопоставить ее с импровиза-ционными и шутливыми образами, что в изобилии вспыхи-вают в поэтике Жюля Ренара. И тогда мы увидим, насколь-ко непоказательна игра, при которой усилия затрачиваются на внешние формы. Этот пример хорош еще и потому, что он относится к простейшим. Если иметь в виду лишь внеш-
А Сартр Ж.П. Стена. М., 1992, с. 128-129. Пер. Ю. Яхниной.
B Гийом, Поль (1878-1962) - франц. психолог. Осн. работы по-священы детской психологии, психологии животных и эпистемоло-гии психологии. Автор широко известного 'Учебника психологии' (1932), сыгравшего большую роль в распространении научной пси-хологии.
159
нее, то живот - шар, а всякий шар - живот. Говорить об этом забавно. А от причастности сокровенному все меняется. Исчезают самые обычные поводы для осмеяния: тучность, вздутость, неповоротливость. Под невыразительной поверх-ностью зреет какая-то тайна. Говоря об одном из индуистс-ких богов, Ланца дель ВастоА пишет: 'Подобно слонам, он обладает тяжестью земной субстанции и чернотой подземных сил. У него толстый живот: это царская держава, это плод, в котором созревают все сокрытые сокровища миров' (Pèlerinage aux Sources, p. 32).
XIV
Мы собираемся показать, что комплекс Ионы может слу-жить для определения глубины образа в том смысле, что он действует под образами, наложенными друг на друга. Разби-раемая ниже страница из 'Тружеников моря' особенно пока-зательна в этом отношении, поскольку поверхностные обра-зы совершенно маскируют 'глубинного Иону'.
В главе 'Внутри одного из морских зданий' показана вы-долбленная волнами пещера - эта пещера немедленно пре-вращается в 'большой подвал'. В подвале этом 'вместо по-толка - камни, вместо пола - вода; буруны прилива, стис-нутые между четырьмя стенами грота, казались крупными дрожащими плитами'.
Благодаря тому, кто живет в этом подвале, благодаря за-ливающему его 'мокрому свету' пробуждается целый феери-ческий мир. Там живут 'холодные расплавленные' изумру-ды, а аквамарин обретает 'невиданное изящество'. Реальные образы для галлюцинирующих глаз Жильята уже являют со-бой реальность фантастическую.
А вот как начинается греза образов. Жильят находится в черепе, в человеческом черепе: 'Над Жильятом нависало что-
А Ланца дель Васто (Джузеппе Ланца ди Трабия-Бранчифорте) (1901- 1981) - франц. писатель итал. происхождения, из княжеского рода сици-лийских норманнов. Прошел инициацию в индийскую философию (об этом - цитируемая работа 'Паломничество к истокам' (1944). Основал орден 'Ковчег', занимавшийся распространением йоги, чтением Еванге-лия, проповедью ненасилия и имеющий общины по всему миру.
160
то, напоминающее нижнюю часть громадного черепа. Этот череп выглядел так, будто был недавно рассечен. Струящиеся прожилки бороздок утеса походили под сводом на разветвле-ния жил и зубчатые швы костистой черепной коробки.' Об-раз, время от времени принимающий реальный вид, повто-ряется несколько раз. На следующей странице читаем: 'Эта пещера была подобна голове громадного и великолепного по-койника; свод был черепом, а арка - ртом; не хватало лишь отверстий для глаз. Этот рот, проглатывающий и выплевы-вающий приливы и отливы, зиял среди бела дня, впивая свет и харкая горечью.' А вот еще, в конце главы: 'Свод с его полушариями, напоминающими мозговые, и отлогими раз-ветвлениями, подобными разветвляющимся прожилкам, сиял нежными хризопразовыми отблесками.'
Тем самым как будто завершается синтез образов пещеры, подвала и черепа - трезвучие твердых к (caverne, cave, crâne). Но если миф лба и черепа и обладает мощью у Гюго, как показал Шарль Бодуэн, то он не может выйти за рамки об-раза индивидуального, весьма специфического и приспособ-ленного к исключительным условиям, хорошо подмеченным Шарлем Бодуэном. Такой образ рискует заглушить симпа-тию читательского воображения. Впрочем, будем читать даль-ше, спустимся в бессознательное поглубже, и мы сразу уви-дим, что эта пещера, этот подвал и этот череп - образы живота. А вот его диафрагма: 'В этом подвале ощущалось сердцебиение моря. Внешнее колебание вздувало, а затем вдав-ливало скатерть находившейся внутри него воды с регуляр-ностью дыхания. В этой большой зеленой диафрагме, без-молвно поднимавшейся и опускавшейся, можно было разга-дать таинственную душу.'
Здравомыслящая анатомия может прицепиться с крити-кой к животу-голове, но в нем проявляется правда бессозна-тельных образов, обнаруживаются синтетические - или спу-тывающие сознание - силы грез. Так, этот Жильят, этот грезовидец, этот пустой мечтатель, считавший, что он спус-кается в морские погреба и посещает голову мертвеца, был в брюхе моря! Читатель, читающий медленно, читатель, умею-щий одушевлять свое чтение литературной повторяемостью великих образов, поймет здесь, что писатель не дает ему не-
161
верных ориентиров. И вот, ониризм 'Ионы финального' от-хлынул и заставил нас принять слишком уж исключительно-го 'Иону черепного'.
Если же теперь во глубине скального живота притаился ужасный осьминог, то ведь это попросту кишка этого ка-менного брюха: осьминог - существо, которому предстоит переваривать блуждающие трупы, плавучие трупы жизни морских глубин. Виктор Гюго усваивает телеологию злове-щего пищеварения Бонне ЖеневскогоA: 'Похоронную команду составляют ненасытные.' Даже на дне океанов 'смерть тре-бует погребения'. Мы - 'надгробия', а животы - саркофа-ги. И глава заканчивается словами, в которых поляризуются все впечатления, обретаемые в гроте морских глубин: 'Это был неведомо какой дворец Смерти - довольной'.
Довольной, ибо утолившей голод. В итоге первый синтез 'пещера-смерть' наделяется новой пядью, ведущей в потус-тороннее. Жильят пробрался в логово Смерти, в брюхо Смерти. Мертвая голова, костистая черепная коробка из скальных пород была лишь промежуточной формой. У этой формы были все изъяны формального воображения, всегда плохо приспособленного к сравнениям отдаленных вещей. Она сто-порила грезы о погружении. Но когда мы примем первичные грезы о сокровенности, когда мы переживем смерть в ее все-приемлющей функции, она проявится в виде лона. В 'этом Ионе', придвинувшемся к собственным пределам, мы узна-ем тему материнства смерти.
XV
Великие образы, говорящие о человеческих глубинах, о глубинах, каковые человек ощущает в самом себе, в вещах и во вселенной, изоморфны друг другу. Потому-то они столь естественно становятся взаимными метафорами. Может по-
A Бонне, Шарль (1720-1793) - швейц. философ и естествоиспыта-тель. Автор трудов по ботанике и инсектологии. В 1762 г. опубликовал 'Рассуждения об организованных телах', а в 1764 г. - 'Созерцание при-роды', где защищает теорию предсуществования и эволюции зародышей в духе Лейбница и Мальбранша.
162
казаться, что это соответствие очень плохо обозначается сло-вом изоморфность, так как оно проявляется в тот самый мо-мент, когда изоморфные образы утрачивают свою форму. Но эта утрата формы все еще тяготеет к форме, объясняет ее. По существу, между грезой об обретении пристанища в онири-ческом доме и грезой о возвращении в материнское тело ос-тается общая потребность в защищенности. Мы читаем фор-мулу Клоделя 'крыша - это живот', словно через дефис27. Рибмон-Дессень в 'Ессе Homo' выражается еще яснее:
Et la chambre est autour d'eux comme un ventre,
Comme le ventre d'un monstre,
Et déjà la bête les digère,
Au fond de l'éternelle profondeur.
(И комната вокруг них подобна животу, Подобна животу монстра, И уже зверь переваривает их На дне вечной глубины).
Однако эта изоморфность утраченных форм обретет весь свой смысл28 лишь в том случае, если вы соблаговолите пос-ледовать за нами в избранной нами сфере исследования, сис-тематически рассматривая под формами воображаемую мате-рию. Тогда вам удастся найти своеобразный материализован-ный покой, парадоксальную динамику нежного и неподвиж-ного тепла. И нам будет казаться, что в этом тепле есть субстанция глубины. Так глубина ассимилирует нас. Она весьма отличается от той глубины бездны, куда можно погружаться бес-конечно - как мы уже указали в конце нашей книги о динами-ческом воображении, в главе, посвященной психологии тяжести.
Приведем один пример такого субстанциального изомор-физма. Этой субстанцией глубины будет как раз ночь, замк-
27 Клодель, к тому же, говорит: 'И я вышел из брюха дома' (Tкte d'Or, p. 14). А впоследствии: 'И она повелевает, будто живот, которого не ослушаешься' (р. 20).
28 В ведическом гимне хижине мы уже процитировали стих, где хижи-на сравнивается с брюхом.
163
нутая в логовах, в животах, в подвалах. Жоэ Буске в превос-ходной статье, опубликованной в журнале 'Лабиринт', гово-рит о материально активной ночи, всепроникающей, словно разъедающая соль. Она, эта 'соляная ночь', является еще и подземной ночью, секрецией земли и пещеристой ночи, дей-ствующей внутри живого тела. Кроме того, Жоэ Буске упо-минает 'живую и прожорливую ночь, к которой все дыша-щее испытывает душевную привязанность' (по. 22, р. 19). Уже обратившись к этой системе обозначений, мы ощущаем, что вышли за пределы привычного царства образов, форми-руемых при восприятии. От материального воображения и следует требовать этой трансценденции ночи, этой обратной стороны ночи как феномена. И вот, мы совлекаем с ночи черное покрывало, чтобы узреть, как выразился Жоэ Буске, ультрачерную ночь: 'Другие люди представляют ее себе не иначе, как со страхом; у них нет слов, чтобы говорить о ней. Она никогда не светлеет и сжимается, словно кулак, над всем, что выплывает из пространства. Эта ночь предшествует пло-ти и наделяет людей цветущими очами, чей минеральный и завораживающий цвет имеет корни в той же тьме, что и растения, волосы, море.'
До плоти и в то же время во плоти, а именно в тех неве-домых местах плоти, где смерть становится воскресением, а очи зацветают заново - изумленные...
Мы неоднократно отмечали, что образы, ассоциацию кото-рых отвергает второстепенная поэзия, растворяются друг в друге глубинно благодаря своего рода онирической сопричастности. Здесь волосы ведают ночь гротов морских глубин, а море зна-ет подземные грезы растений. Ночь глубин взывает ко всем этим образам - уже не к сплошному мраку и беспредельности небосвода, а к той материи тьмы, каковую представляет собой земля, переваренная разветвленными корнями. Перевариваем мы или хороним - мы находимся на пути к одной и той же трансцендентности, например, чтобы наблюдать за ней более материально, нежели, без сомнения, хотел Жан ВальА:
А Валь, Жан (1888-1974) - франц. философ. Основатель так называ-емой 'нон-философии'; близок к экзистенциализму. Кроме философс-ких трудов писал метафизические стихи.
164
Dans les bas-fonds où l'on est si bien à l'aise,
A même la glaise originelle de la chair.
.............................
Je m'enfonce...
Au pays ignoré, dont l'ignorance est une aurore.
(На мелкую глубинуА, где так легко,
В саму первозданную глину плоти.
.......................................
Я погружаюсь...
В неведомую страну, неведение которой подобно заре.)
(Wahl J. Poèmes, p. 33.)
На страницах Жоэ Буске с многочисленными вариациями изображена та же плотская тюрьма ночи, по отношению к которой история об Ионе - чересчур наивная сказка. Говоря о поэте, Жоэ Буске пишет: 'Его тело, так же, как и наше, обволакивает активную ночь, проглатывающую все, что еще должно родиться, но этой серной ночи он дает пожрать и себя.'
Тот, кто захочет долго пребывать во всех этих образах, а затем дать им медленно излиться друг в друга, познает нео-быкновенные наслаждения сложными образами, образами, об-служивающими сразу несколько инстанций жизни вообра-жения. Характерная черта нового литературного духа, столь отличающего современную литературу, как раз и состоит в смене образных уровней, в подъеме или спуске по оси, протя-нутой между органическим и духовным в обоих направлени-ях, при постоянной неудовлетворенности одним-единствен-ным планом реальности. Так литературный образ обретает привилегию одновременного функционирования и в каче-стве образа, и в качестве идеи. Он имплицирует и сокровен-ное и объективное. И не надо удивляться тому, что он распо-лагается в самом центре проблемы выражения.
При таких обстоятельствах становится понятным, почему Жоэ Буске сказал, что 'внутренняя тень его плоти околдо-вывает (поэта) в том, что он видит', и еще лаконичнее, что
А Можно понимать и 'к подонкам'.
165
поэт 'околдовывает себя в вещах'. Тем самым - благодаря возвратному глаголу - Жоэ Буске задает околдованности новое направление, но стрелка этого возвратного глагола околдовывать себя по-прежнему направлена вовне; тем са-мым он отмечен двойственным отпечатком интровертности и экстравертности. 'Околдовывать себя в', стало быть, представляет собой одну из редких формул, распределяю-щих два основных движения воображения. Наиболее вне-шние из образов - день и ночь - тем самым становятся сокровенными. И именно в сокровенности эти великие образы черпают силу убедительности. С внешней стороны они оставались бы средствами, организующими экспли-цитные соответствия между сознаниями. Но сокровенным соответствиям присуще большее количество ценностей. Подобно онирическому дому и воображаемой пещере, Иона представляет собой архетип, который может воздейство-вать на любую душу при отсутствии реального опыта. Ночь околдовывает нас, а тьма грота или подвала принимает нас, словно лоно. По существу, стоит лишь - хотя бы в одной точке - притронуться к этим сложным, даже сверхслож-ным образам, отдаленные корни которых располагаются в подсознании людей, как от малейшей вибрации повсюду начинает распространяться резонанс. Как доводилось нам весьма часто замечать и как мы повторим при удобных случаях, образ матери пробуждается в самых разнообраз-ных и неожиданных формах. В упомянутой статье, где Жоэ Буске демонстрирует параллелизм ночи неба и ночи плоти, он наделяет образ Ионы необразной глубиной, предоставляя своему читателю заботу совершенствовать или умерять его собственные образы, но, тем не менее, оставаясь уверен-ным, что он донес до читателя параллелизм ночи внешней и ночи сокровенной. 'Живая ночь, обитающая (в поэте), только и делает, что интериоризует материнскую ночь, в которую он был зачат. В продолжение периода внутрима-точной жизни будущее тело не впивало жизнь, оно впива-ло мрак.' Вот оно - говоря мимоходом - дополнительное доказательство онирической искренности образа тайной чер-ноты молока.
166
XVI
Вновь и вновь при углублении грез мы наблюдали, как образ Ионы наделяется бессознательными компонентами, сви-детельствующими о животе как о саркофаге. Весьма порази-тельно видеть, что такую филиацию можно обнаружить под чрезвычайно прозрачными образами, под образами внешне совершенно рационализованными. К примеру, не относится ли военная хитрость с Троянским конем к числу весьма от-четливо объясняемых? - И все же возникли сомнения. Из-ложение их мы найдем в книге Пьера-Максима Шюля (La Fabulation platonicienne, pp. 75 et suiv.). Не стал ли Троян-ский конь (как и библейский кит) именем для обозначения кораблей греков, а корабли эти разве не были Посейдоновы-ми 'конями'? И вот, историки, изумленные всевозможными побасенками о Минотавре, задаются вопросом, не являются ли все эти животные-вместилища кенотафами?А, 29 Шарль ПикарB рассказывает, как согласно Геродоту дочь МикеринаС похоронили 'внутри коровы из позолоченного дерева (хатхори-ческий символ)D, культ которой в свое время был распространен в СаисскомЕ дворце, где ее окружали зажженными светильника-ми и дымом благовоний. МинойцыF сохраняли и передавали в
А Кенотаф - пустая могила или надгробный памятник над пустой могилой. Соответствующие обычаи существовали у греков и римлян. В Египте фараону и вельможам воздвигались кенотафы в священных местах, даже если сами они были захоронены не там.
29 См. Picard Ch. Le Cénotaphe de Midea et les Colosses de Ménélas // Revue de Philologie. 1933, pp. 341-354.
B Пикар, Шарль (1883-1965) - франц. археолог; историк класси-ческой скульптуры. Стремился обнаружить, как в пластике отражается эволюция религиозных и философских идей. Осн. труды: 'Происхож-дение эллинского политеизма' (1930-1932); 'Руководство по греческой археологии' в 8 томах (1932-1966).
С Микерин, по-египетски Менкаур - фараон IV династии (ок. 2600 г. до н.э.), сын или брат Хеопса. Знаменит, прежде всего, своей пирами-дой, самой маленькой из трех великих пирамид на плато Гизе.
D Хатхор (греч. Атир) - древнеегипет. богиня. Изображалась то как женщина, то в виде коровы. Каждое утро она рождала солнце (ребенка или золотого теленка). Ей посвящен великий храм в Дендере.
Е Санс - один из древнейших городов Египта, был расположен в дельте Нила. Центр культа богини Нейт.
F Минойцы - жители древнего Крита, принадлежавшие к минойской культуре (2600-1200 до н.э).
167
разнообразных формах микенянам культ священного рогатого скота (самцов или самок), наделенного покровительственной си-лой, простирающейся даже в загробный мир. Уже греки переста-ли это понимать.' И цитирующий эту страницу Шюль задается вопросом о том, нельзя ли легенду о Троянском коне интерпре-тировать аналогично. Шюль приводит мнение У. Дж. В. Найта, утверждавшего: 'Это относится скорее к магически-религиозно-му контексту, нежели к военной тактике'. Это могло стать 'средством снятия чар, защищавших стены Илиона'. Для на-шей темы достаточно того, что ультраотчетливый образ Тро-янского коня, снабженный всевозможными осознаваемыми це-лесообразностями, в новых психологических истолкованиях можно продублировать другими образами, погружаясь в бес-сознательное. Так проявляется существование психического дублета, объединяющего, с одной стороны, пространно ком-ментируемый визуальный образ, а с другой - образ таин-ственной сокровенности, наделенный эмоциональной силой.
Если бы теперь мы применили этот подход к всевозможным мифам о захоронениях, мы увидели бы, как размножаются та-кие дублеты, объединяющие внешние образы и образы сокро-венного. Мы достигли бы следующей эквивалентности жизни и смерти: саркофаг - это живот, а живот - саркофаг. Выйти из живота означает родиться, а выйти из саркофага - возро-диться. Значит, Иона, находившийся во чреве китовом три дня, как Христос - в могиле, представляет собой образ воскресения.
XVII
Говоря о той же теме материнства Смерти, множество других образов можно изучать под знаком Ионы Смерти. С этой точки зрения монографии заслуживает тема куколки.
Куколка, естественно, наделена соблазнами всякой обер-нутой формы. Она подобна плоду из животного царства30. Но
30 В одной статье о Блейке, опубликованной в журнале 'Fontaine', находим следующий перевод из превосходной статьи Суинберна*: 'Над ней, эмблемой материнства, свертывается и цепляется куколка, подобная обволакивающим листьям плоти, заключающим в себе и освобождаю-щим человеческий плод телесного порождения' (по 6, р. 226).
A Суинберн, Элджернон Чарльз (1837-1909) - англ. поэт. Один из любимых авторов Г. Башляра: в книге 'Вода и грезы' ему посвящена практически целая глава.
168
как только мы узнаём, что куколка представляет собой про-межуточное существо между гусеницей и бабочкой, возника-ет целое царство совершенно новых ценностей. И тогда идеи возбуждают грезы.
В 'Апокалипсисе нашего времени' Розанов внес свой вклад в миф о куколке. На его взгляд, 'гусеница, куколка и мотылек имеют объяснение, но не физиологическое, а истинно космогоническое. Физиологически - они необъяснимы; они именно - не изъяснимы. Между тем космогонически они совершенно ясны: это есть все жи-вое, решительно все живое, что приобщается жизни, гро-бу и воскресению'*.
Невозможно более четко представить различие между на-учным и мифическим истолкованиями. Ученый посчитает, что все объяснено, когда все опишет, когда пронаблюдает за фазами метаморфозы день за днем. Но символы требуют иной концентрации света. Мифу угодно объяснять предметы через мир. Становление существ надо объяснять через 'жизнь, гроб и воскресение'. Как пишет Розанов, 'стадии существования насекомого фигурально изображают жизнь во вселенной'. Гусеница: 'Мы ползаем, жрем, тусклы и недвижимы'B. 'Ку-колка - это гроб и смерть, гроб и прозябание, гроб и обеща-ние. Мотылек - это 'душа', погруженная в мировой эфир, летающая, знающая только солнце, нектар и - никак не питается, кроме как из огромных цветочных чашечек'C. И Розанов противопоставляет 'геофагию'D гусеницы, питаю-щейся 'грязью и сором'Е, блаженству бабочки-гелиофага, до-бывающей на цветах солнечную пыльцу.
Вот так Розанов долго исследует отношения между обра-зами куколки и мумии. Мумия - это воистину куколка человека. 'Вот такой же продолговато-гладкий, как реши-тельно всякий кокон, какой, безусловно, строит себе всякая гусеница - и египтянин себе изготовлял, "окукливаясь".
А Розанов В. Уединенное. М., 1990, с. 408.
B Там же, с. 408.
C Там же, с. 409.
D Геофагия (греч.) - букв.: пожирание земли.
Е Розанов В. Уединенное, с. 410.
169
Поверх этого жесткая, коричневая скорлупа. Это - сарко-фаг, всегда коричневатого однообразного тона. Кажется, он гипсовый, и тогда он и по материалу естества сходен с обо-лочкой куколки, ибо что-то вроде извести, как выпота, дает и тело гусеницы. Вообще, ритуал погребения у египтян вы-шел из подражания именно фазам окукливающейся гусени-цы. А главное отсюда - это скарабей - жук-насекомое, как символ перехода в будущую загробную жизнь'А. 'Главное, самое главное, что египтяне открыли - это насекомообраз-ную будущую жизнь'B. Из этой насекомообразной жизни мы реально проживаем лишь земную. Воздушная жизнь из-вестна нам разве что по образу бабочки на цветах. Но где же цветы для человека, те, на которых человек отыщет свою пищу, небесное золото? 'Если такие цветы где-то и суще-ствуют, - говорит Розанов, - "то за гробом"'C, 30 bis.
Итак, в этих образах могила является как бы куколкой, это саркофаг, пожирающий глину плоти. Мумия, словно гу-сеница, стиснутая лентами куколки, тоже взорвется 'настоя-щей вспышкой, где будут пламенеть симметричные крылья', - как сказал Франсис Понж31. Чрезвычайно интересно за-метить, что тем самым можно ассоциировать клочья обра-зов, сочетающихся с куколкой и с саркофагом. И дело здесь в том, что центр интереса у всех этих образов один и тот же: запертое существо, существо защищенное, суще-ство сокрытое, существо, возвратившееся к глубинам своей тайны. Это существо освободится, это существо возро-дится. Вот в чем судьба образа, взыскующего такого вос-кресения.
А Розанов В. Уединенное, с. 435.
B Там же.
C Там же, с. 436.
30 bis Ср. Strindberg A. Inferno, р. 47: 'Превращение гусеницы в куколку - подлинное чудо, равносильное воскресению мертвых'.
31 Процитировано Жаном-Полем Сартром. См. комментарий Сартра к этому образу: L'Homme et les Choses, p. 51.
Глава 6. Грот
Дон Кихот по выходе из грота Монтесинос:
'Никакой это не Ад, а жилище чудес.
Садитесь-ка, дети мои, слушайте и верьте'.
Сервантес. Дон Кихот Ламанчский
I
В этой главе поверхностный характер наших замечаний проявится, возможно, еще боль-ше, чем в прочих. Характер этот является последствием огра-ничений, налагаемых нами на наши поиски. По существу, мы не стремимся проникать в область, отведенную для ми-фологии. Если бы у нас были такие амбиции, каждой из наших глав следовало бы по-другому завязываться и иметь много дополнительных сведений. Так, чтобы получить пред-ставление об истинном масштабе всех потенций жизни в гро-тах и логовах, необходимо было бы изучить все хтонические культы, все виды литургии в криптах. Но это не входит в наши задачи. Впрочем, такая тема эскизно трактуется в 'Опыте о роли гротов в магико-религиозных культах и в первобыт-ной символике' ('Essai sur les Grottes dans les Cultes magico-religieux et dans la Symbolique primitive'), опубликованном П. Сентивом как послесловие к переводу 'Вертепа нимф' Пор-фирияА. Тайные литургии, секретные культы, практики ини-
А Порфирий (234-305) - философ-неоплатоник. Противник христи-ан и апологет эллинизма. Значительная часть его трудов посвящена Пло-тину.
171
циации находят в гроте своего рода естественный храм. Пе-щеры Деметры, Диониса, МитрыА, КибелыB и АттисаC наде-ляют эти культы своеобразным единством места, каковое хорошо показал Сентив. Любой подземнойD религии прису-щи неизгладимые черты. Но опять же, мы не собираемся заниматься ее исследованиями вглубь. Нам надлежит только следовать за грезами, и даже за грезами выраженными, и даже еще точнее - за грезами, стремящимися к литературной вы-раженности, - словом, наша бедная тема называется всего лишь грот в литературе.
Между тем, эта ограниченность темы приводит к резуль-тату, который мы хотим подчеркнуть. По сути дела, нам пред-ставляется, что, придерживаясь литературных образов, мы можем выделить своего рода ослабленную мифологию, и она ничем не обязана школьным знаниям. Даже когда писатель, по всей вероятности, осознаёт свои школьные знания, вне-запно возникающие нюансы порою позволяют выявить его личную привязанность к активности легенды, к чисто леген-досозидающему воображению. Для этого достаточно новиз-ны выражений, обновления выразительности, внезапного све-чения языка. Коль скоро язык преодолевает легенду, легенда остается как возможность. И вот, мы можем неожиданно застать мифологию в действии. Несомненно эта то наивная, то хитроватая, но всегда 'хромающая' мифология весьма редко попадает в центр легенд. Между тем, она порождает фраг-менты легенд-попыток, позволяющие изучать опыты вооб-
А Митра - перс. божество. Впервые упомянут в эпоху Дария I (500 до н.э.). Культ его был заимствован сначала малоазийскими греками, затем - римлянами. Мистерии Митры отправлялись в гротах, а затем - в крип-тах.
B Кибела - фригийская богиня (иначе Великая Мать, Мать Богов). Культ заимствован греками, а впоследствии - римлянами. Это была первая восточная религия, официально заимствованная Римом.
С Аттис - древнегреч. бог фригийского происхождения. Его экстати-ческий культ проник в Рим в доимперскую эпоху. В период правления Клавдия праздник Аттиса разыгрывался в начале весны, как великая ми-стическая драма.
D Слово souterraine можно понимать и как тайная, ибо речь здесь идет о тайных культах.
172
ражения. И тогда между убеждением и выражением устанав-ливаются новые отношения. Представляется, что благодаря литературе выразительность начинает тяготеть к автономии, и даже что новое, несомненно, легковесное и эфемерное, убеж-дение формируется вокруг искусно сделанного литературно-го образа. Вот тогда-то под ловкими перьями и возникают искренние образы.
II
Итак, мы хотим заняться 'литературными' гротами, сде-лав акцент на определении их всевозможных воображаемых аспектов.
Впрочем, ради классификации образов нам придется не-прерывно приумножать различия между ними. Стоит нам как следует отделить образы друг от друга, как сразу найдут-ся промежуточные. Например, можно ввести различие между образами грота и образами подземного лабиринта, хотя эти два типа образов весьма часто между собою смешиваются. Подчеркивая различия, можно утверждать, что образы грота относятся к воображению покоя, а образы лабиринта - к вооб-ражению затрудненного движения, движения мучительного.
По существу, грот представляет собой убежище, о кото-ром беспрестанно грезят. Оно дает нам непосредственное ощущение грезы защищенного покоя, покоя тихого. Пре-одолев некий порог тайны и страха, входящий в пещеру грезовидец чувствует, что он мог бы в ней жить. Пробудем там несколько минут - и воображение туда переселится. Оно увидит место для очага между двумя булыжниками, тайный уголок для папоротникового ложа, гирлянду лиан и цветов, украшающую и скрывающую окно, обращенное к синему небу. Эта функция естественного занавеса регу-лярно возникает в несметных литературных гротах. Грот из флориановской пасторали (Estelle, p. 295) украшен ди-ким виноградом. Порою окна деревенских домов, также становящиеся таинственными из-за листвы, благодаря лю-бопытной инверсии производят впечатление окон грота! Пример такой инверсии мы увидим в 'Письмах путеше-ственника' Жорж Санд.
173
Эта функция занавеса относится все к тому же принципу окошечка, высказанному нами по поводу чердачного окна: ви-деть, будучи невидимым, beuiller, faire le beuillot - как говорят у нас в старой Шампани. Шарль Бодуэн (Victor Hugo, p. 158) отмечает у Виктора Гюго частотность рифмы fenêtre-naître (окно-родиться). И говорит он об этом сближении в главе, где дока-зывает, что желание, порожденное любопытством, является же-ланием узнать тайну порождения потомства.
Иногда кажется, что грот образуется именно благодаря такому занавесу из листвы. В 'Господине д'Амеркёре' Анри де Ренье приводит одно-единственное описание небольшого грота, где отдыхает светская женщина: 'Ниспадающий плющ занавешивал там свет. Из-за этого освещение было зеленова-тым и прозрачным' (La Canne de Jaspe, p. 71).
Потребовались бы объемистые исследования, чтобы обо-значить все символы входа в грот. Не надо спешить наделять его отчетливыми функциями двери. Как справедливо заме-тил Массон УрсельА (Le symbolisme eurasiatique de la Porte. N. R. F., 1er août 1933), грот есть жилище без дверей. Не будем уж слишком послушно воображать, будто ради спокойного сна по вечерам грот закрывают, подкатывая камень. Диалек-тике убежища и страха требуется отверстие. Мы хотим быть защищенными, но не хотим запираться. Человек знает сразу и ценности внешнего, и ценности внутреннего. Дверь представ-ляет собой одновременно и архетип, и понятие: в ней объеди-няются бессознательное и осознанное ощущения безопасности. В ней материализуется страж порога, однако все эти глубин-ные символы фактически погребены в бессознательном, коего не досягают грезы писателей. Слишком уж живы ясные цен-ности убежища, и потому смутные ценности не обнаружива-ются. Фактически, 'акт' проживания почти непреложно на-чинается с момента, когда мы видим над собой кров.
Подобно всем благородным душам, Жорж Санд знала оча-рование бедности. В ее романах ей почти всегда принадлежит грот, словно это сельский дом. Тюрьма Консуэло также вскоре
A Массон Урсель, Поль (1882-1956) - франц. востоковед. Автор книг 'Сравнительная философия' (1923); 'Древняя Индия и индийская ци-вилизация' (1933); 'Йога' (1954) и пр.
174
становится 'пригодной для жилья'. Одинокий грезовидец с кроткой душой грезит в гроте о тайной любви, он деклами-рует стихи из 'Жослена'А.
К тому же, ценности грез о тайной любви направляют нас в тайные места природы, а потайная комната отсылает к гро-ту. Пылкая любовь онирически не может быть городской, ей необходимо грезить о диких ландшафтах. В 'От одинокого к одинокой' Д'Аннунцио допускает любопытную инверсию: 'Я вошел в нашу комнату, в зеленую комнату, которую ты называла дном морским, где мы любили друг друга, где мы познали радость, воистину словно в соленом гроте...' (trad., р. 45).
Малейшая ниша в скалах уже порождает такие впечатле-ния и грезы. СенанкурB пишет о чувствительном человеке1: 'Скала, нависающая над водами, ветка, отбрасывающая тень на песок пустыни, дают ему ощущение приюта, спокойствия, одиночества.' Точно так же Торо показывает, что 'ребенок играет в дом' как и 'в лошадки'. 'Кто не помнит, с каким интересом мы рассматривали в детстве скалу и все, что напо-минало пещеру?'С. Мы прекрасно ощущаем, что любой есте-ственный кров при случае немедленно становится причиной грез, вызывающих образы покоя. А мрак сразу же возбужда-ет образы подземного крова. Например, в одном романе Вир-джинии Вулф (trad., p. 28) под кустом смородины спрятались двое детей; перед их воображением тотчас же открывается подземный мир. Любое жилье стремится стать гротом. 'Уст-роимся в подземном мире, - говорят они, - будем хозяева-ми нашей тайной территории, освещаемой свисающими гроз-дьями смородины, словно люстрами, сияющими и красными с одной стороны, черными - с другой... Вот она, наша все-
А 'Жослен' - поэма А. Ламартина (1836).
B Сенанкур, Этьен Пивер де (1778-1841) - франц. писатель.
1 De Sénancour E. Primitive, p. 59.
C Торо Т.Д. Уолден, или Жизнь в лесу. M., 1979, с. 35. Пер. 3. Алек-сандровой.
2 Такая же воля к немедленному вселению весьма любопытно выраже-на Ги де Мопассаном при входе в незнакомую комнату (Clair de Lune. Nos lettres, p. 287): 'Когда я был один, я разглядывал стены, мебель, всю физиономию квартиры, чтобы водворить в ней свой дух'.
175
ленная.'2. Аналогично этому играют дети в 'Золотом горш-ке' Джеймса СтивенсаА: 'Площадка под боярышником сде-лалась очагом их домика'. Кроме прочего, по этим примерам видно, что один малозначительный образ может вызвать це-лую череду фундаментальных. Кров наводит нас на мысли об овладении неким миром. Сколь бы непрочным ни был этот кров, он навевает множество грез о безопасности.
А вот мнение РёскинаB, всегда близорукого в своих грезах и безапелляционного в суждениях: 'Подчинение природы потребностям человека позволяло грекам испытывать опре-деленное удовольствие при виде утесов, когда последние об-разовывали грот, но только в этом случае. Во всех других случаях, в особенности, когда они были пусты внутри и още-тинивались остроконечными пиками, они греков пугали, од-нако же когда они представали отполированными, 'изваян-ными' подобно корабельному борту, когда они образовыва-ли грот, где можно было найти приют, их присутствие становилось переносимым' (Les Peintres modernes. Trad., p. 47).
Искусственные гроты воздают дань уважения естествен-ным пристанищам. Один из таких гротов в своей горе обору-довал Сенанкур. У княгини де БельджойозоC в замке Локати был тайный рабочий кабинет, ключ от которого передавался ей в цепочке от часов. В письме Огюстену ТьерриD она пи-
А Стивенc, Джеймс (1882-1950) - ирландский писатель; самоучка; член ирландской националистической организации 'Шин Фейн'. Автор нескольких сборников сказок. Оказал существенное влияние на Джойса.
B Рёскин, Джон (1819-1900) - англ. искусствовед и социолог. Цити-руется его первая работа (1843-1860), написанная в защиту Тернера и прерафаэлитов.
C Бельджойозо де, княгиня (маркиза Кристина Тривульцио) (1808- 1871) - деятельница итал. освободительного движения и писательница. С 1831 г., будучи заклятым врагом венского двора, жила в изгнании в Париже. Дом ее стал убежищем для революционно настроенных италь-янцев. Издавала итальянские газеты, а в 1848 г., во время Миланского восстания, снарядила за собственный счет корпус волонтеров. Перевела на франц. язык труды Дж. Вико.
D Тьерри, Огюстен (1795-1856) - франц. историк. Учил строгому исследованию документов, однако сам склонялся к пересказу 'трогатель-ных' сюжетов. Осн. труды: 'История завоевания Англии норманнами' в 4 томах (1823); 'Повести меровингских времен' в 2 томах (1835-1840).
176
шет: 'А я пребываю в гроте чародейки, будучи столь невиди-мой, словно мне давала уроки Альцина' (р. 86). Из грота мы видим все, когда нас не видно, - таким парадоксальным способом на вселенную смотрит черная дыра. Морис де ГеренА пишет одному бретонскому другу: '... я буду необыкновенно очарован, когда оборудую себе прохладный и темный грот в глубине утеса, в одной из бухточек в ваших краях, и жизнь моя, словно жизнь морского бога, потечет там в неторопли-вом созерцании дальнего и бескрайнего моря' (Цит. по: Decahors. Thèse, p. 303).
Впрочем, можно указать массу грез строителей, ищущих на-стоящей непрерывности между гротом и домом, чтобы по мере возможности наделить свое жилище космичностью. Андре БретонB хорошо разглядел в постройках почтальона Шеваля разнообразные 'медианимические'С элементы, связывающие дом не только с гротом, но еще и с природными окаменелостями3.
Целые страницы 'Романа одного ребенка' тоже говорят нам о незабываемой мощи образов грота. Когда в детстве Лоти однажды заболел, его старший брат соорудил ему во дворе дома 'в глубине, в прелестном уголке, под старой сли-вой, миниатюрное озеро; он вырыл и зацементировал его, как водоем..., впоследствии же он принес из полей стертые камни и замшелые доски, чтобы отделать окружавшие озеро романтические берега, утесы и гроты...' Какой восторг для выздоровевшего ребенка, которому вот так подарили целый мир! 'Это превосходило все самое сладостное, что только могло представить мое воображение; когда же брат сказал, что это мое... я ощутил глубокую радость, и казалось, она никогда не прекратится. О! Что за нежданное счастье - обладать всем этим! Наслаждаться им целые дни напролет, в эти прекрас-ные теплые месяцы, которые вот-вот наступят!...' (р. 78).
А Герен, Морис де (1810-1839) - франц. писатель. Готовился стать священником, но утратил веру, сохранив романтический энтузиазм. По взглядам близок к пантеизму.
B Бретон, Андре (1896-1966) - франц. писатель. Лидер сюрреалис-тов; создатель 'автоматического письма' (вместе с Филиппом Супо).
C Медианимический - имеющий отношение к медиуму (толкующий речи духов).
3 См.: Breton A. Point du Jour, p. 234.
177
Целые дни напролет? Да-да, всю жизнь, благодаря есте-ственной ценности образа. И обладание это было обладанием не какого-нибудь собственника, а хозяина природы. Ребенок получал здесь космическую игрушку, природное жилище, прототип пещер, где обретают покой. Грот не может пони-зить свой уровень фундаментального образа. 'Это был уго-лок мира, - пишет Лоти, - к коему я остаюсь привязан с наибольшей преданностью, после того, как любил столько других; как ни в одном месте, я ощущаю там спокойствие, я чувствую там себя освеженным, закаленным и ранней юнос-тью, и новой жизнью. Этот маленький уголок - моя святая Мекка, и до такой степени, что если бы там меня потревожи-ли, мне кажется, что в жизни моей что-то вышло бы из равновесия, что я потерял бы почву под ногами, что это стало бы едва ли не началом моей погибели' (р. 80). Как часто в своих дальних путешествиях Лоти, наверное, преда-вался раздумьям под сенью свежих и глубоких гротов! С этим неизгладимым воспоминанием он, должно быть, свя-зывал множество реальных картин. Грот 'в миниатюре', ма-ленький дальний образ в глубине воспоминаний, 'часто за-нимал меня, - пишет он, - в часы изнеможения и грусти в моих путешествиях'... Странно сгущая воспоминания, Лоти объединяет грот с родным домом, как если бы грот, где гре-зят, представлял собой истинный архетип дома, где живут. 'В продолжение стольких печальных лет, когда я жил, стран-ствуя по миру, когда моя овдовелая мать и тетя Клер остава-лись одни, влача свои похожие черные платья по этому до-рогому дому, почти пустому и замолкнувшему, словно моги-ла, - в продолжение вот этих лет я не раз со щемящим сердцем чувствовал, что покинутый очаг и с детства знако-мые вещи, без сомнения, обветшали в запустении; но больше всего я беспокоился, желая узнать, не разрушили ли хрупко-го очарования этого грота руки времени и зимние дожди; странно сказать, но если бы эти старые замшелые маленькие утесы осыпались, я ощутил бы едва ли не непоправимую трещину в собственной жизни.' Там, куда мы ходим обре-тать приют в грезах, мы находим жилище, наделенное всеми символами покоя. Если мы желаем сохранить наши онири-ческие силы, необходимо, чтобы наши грезы хранили пре-
178
данность нашим первообразам. Страница Пьера Лоти дает нам пример такой верности фундаментальным образам. В от-личие от ускользающих и никогда не находящих формули-ровки грез, которые называют замками в Испании, грот - греза концентрированная. Замки в Испании и грот образуют наиболее отчетливую антиномию воли к обитанию. Быть в другом месте - быть здесь: вот то, что выражается не только в геометрических терминах. Для этого еще необходима воля. Воля к обитанию, похоже, сконцентрирована в подземном жилище. Мифологи часто утверждали, что для первобытного мышления грот является местом, где концентрируется манаA (см.: Saintyves. Essai sur les Grottes... , продолжение Порфи-рия: Porphyre. L'Antre des Nymphes. Paris, 1918).
Храня верность духу наших исследований, которые долж-ны опираться только на свидетельства еще активного вооб-ражения, мы должны рассматривать лишь аспекты, поддаю-щиеся воспроизведению современным воображением. Доста-точно пребывать в гроте, часто туда приходить или просто мысленно в него возвращаться, чтобы ощущать своеобраз-ную конденсацию глубинных сил. Эти силы немедленно на-чинают действовать. Стоит вспомнить о 'литературных' гро-тах, интерес к которым поддерживается одним лишь описа-нием обустройства грота. Подумайте о предприимчивом оди-ночестве Робинзона Крузо или о потерпевших кораблекру-шение в 'Таинственном острове' Жюля Верна. Сочувствую-щий читатель проникается совершенствованием грубого ком-форта. Впрочем, кажется, будто грубый характер мебели оду-шевляется подлинной маной естественного жилища.
Мы лучше ощутим это активное воображение подземного обустройства, если диалектически рассмотрим активный и пассивный способы обитания. Морис де Герен высказал стран-ную формулу (Le Cahier vert. Éd. Divan, I, p. 223): 'Покор-ность судьбе - это нора, вырытая у корней старого дуба или в расселине скалы; нора, служащая убежищем для спасающе-гося долгим бегством, преследуемого зверя. Он стремительно влезает в ее узкое и сумрачное отверстие, забивается в самый
А Мана (полинезийское слово) - сверхъестественная сила, каковою обладают некоторые предметы, но, прежде всего, вожди.
179
глухой угол, и там, скорчившись и съежившись, когда серд-це бьется с удвоенной силой, вслушивается в дальний лай своры и в крики охотников. Вот и я забрался в свою нору.' Нора удрученного меланхолика, смирившегося с судьбой... Мы встретимся с этой темой в следующей главе о лабиринте. Образы не отделены друг от друга, и воображение без зазре-ния совести повторяет одно и то же. Тогда кажется, что грот и нора - места, куда люди уходят от жизни. А это означает забвение второго члена диалектического противопоставления: пещеры, где трудятся!
Мы задаемся вопросом, каков смысл логова на Итаке, описание которого в следующих двух строках Гомера про-комментировано Порфирием:
Есть также весьма кропотливые ремесла по обработке
камней, поверх которых нимфы
Ткут полотна, окрашенные пурпуром, чудесным на вид.
Несомненно, символическим значениям этих строк несть числа. Но мы добавим к ним еще несколько, если чуть-чуть погрезим о труде ткача, если живо вспомним, к примеру, мастерскую-логово Сайлеса МарнераА, если всерьез ощутим пур-пурное полотно, вытканное во тьме, если займемся обработкой световых нитей на подземном станке, на станке каменотеса.
Разумеется, пришло время, когда сельская грубость (rusticité) и техника оказались противопоставленными друг другу. И всем нужны именно светлые мастерские. Но тогда мастерская с маленьким окошечком являет собой образ ак-тивного грота. Если мы хотим понять, что воображение - это целый мир, следует возвратить образам все их характер-ные черты. Грот покровительствует покою и любви, но это еще и колыбель первой промышленности. Обычно мы вос-принимаем его как декор уединенного труда. Мы замечаем, что если мы одиноки, нам лучше работается в мастерской с маленьким окошечком. Чтобы стать действительно одиноки-ми, надо избавиться от лишней освещенности. Для тайной
A 'Сайлес Марнер' - роман англ. писательницы Джордж Элиот, на-писанный в 1861 г.
180
деятельности благотворна воображаемая мана. Вокруг себя следует сохранять чуточку мрака. Чтобы получать силу для своих трудов, надо уметь возвращаться в родной мрак.
III
При входе в грот работает воображение голосов из глубин, воображение подземных голосов. Все гроты разговаривают.
Je comparai les bruits de toutes les cavernes
(Я сравнивал шумы всех пещер) -
говорит поэт4.
Pour l'Œil profond qui voit, les antres sont des cris.
Для Ока глубин, которое видит, логова - это крики.
(Hugo V. Ce que dit la Bouche d'Ombre.)
(Что гласят уста Мрака)
Слух грезящего о подземных голосах, о голосах глухих и дальних, обнаруживает трансцендентное, целый потусторон-ний мир, к которому можно прикоснуться и который можно увидеть. И Д.Г. Лоуренс справедливо писал ('Psychoanalysis and the Inconscious'): 'The ears can hear deeper than eyes can see'. - Уши слышат глубже, чем видят глаза. Тогда слух становится чувством ночи, и, в особенности, самой ощути-мой из ночей: ночи подземной, ночи замкнутой, ночи глуби-ны, ночи смерти. Когда мы одиноки в темном гроте, нам слышится подлинное безмолвие:
Le vrai silence élu, la nuit finale
Communiquée aux pierres par les ombres.
Изысканное подлинное безмолвие, последняя ночь,
Которую тени возвещают камням.
(Tardieu J.A Le Témoin Invisible, p. 14.)
4 Hugo V. La Légende des Siècles. Hetzel. T. III, p. 27.
A Тардье, Жан (р. 1903) - франц. поэт и драматург. В своих немно-гословных сочинениях изобличал пустоту и абсурдность мира.
181
Однако уже с порога - пока еще не страдая от этой 'глу-бины' - гроты отвечают шепотами и угрозами, прорицания-ми или грубоватыми шутками. Все зависит от душевного со-стояния вопрошающего. В них слышится самое ощутимое эхо, чувствительность боязливого эха. Несомненно, геогра-фы составили каталоги гротов с чудесным эхом. Они все объясняют формой гротов. Так, контуры грота Латомии близ Сиракуз, прозванного Ухом тирана Дионисия, напоминают слуховой проход: 'Слова, произнесенные шепотом в глубине грота, повторяются у его отверстия весьма внятно, скомкан-ная бумажка в руках производит шум сильнейшего ветра, наконец, выстрел из огнестрельного оружия под этими сво-дами подобен громовому удару'. Считается, что Дионисий слушал через отверстие в верхней части грота жалобы и про-клятья своих жертв, запертых в Латомиях. Вот так историки и географы приходят к согласию между собой в одинаково позитивном духе. Первые приплетают сюда пользование слу-ховым рожком, вторые описывают какой-то слуховой про-ход. Полагая, будто они изучают жизнь в ее реальности, они изучают окаменелости воображаемого объекта.
Но уста мрака все еще говорят, и чтобы услышать эти отзвуки в живом воображении, звучащий монстр из Латомий не нужен. Даже самая маленькая пещера навевает нам разно-образные грезы о резонансе. Относительно таких грез можно сказать, что оракул представляет собой явление природы. Это феномен воображения гротов. Любые подробности этого фе-номена еще живы. Например, и принцип власти подземных голосов, и желание напугать мы лучше уразумеем, если, как психологи, изучим передачу традиций в жизни наших дере-вень. Так, прогуливаясь с ребенком, отец говорит у врат пещер 'страшным' голосом. Ребенок на миг пугается, а затем принимает правила игры. С этих пор ему становится знако-мой сила испуга. Сколь бы эфемерным ни был страх, почти всегда он означает начало познанияА. И ребенок теперь сам овладевает способностью пугать. Он сможет воспользоваться
A 'Страх Божий есть начало познания' - знаменитое изречение Ав-густина Блаженного.
182
ею, играя с неискушенным товарищем. Несомненно, перед нами маленькие оракулы, мифологи же почти не уделяют внимания этому миниатюрному и ускользающему 'психоло-гизму'. Но, тем не менее, как измерить воздействие мифа на 'неотесанные' души, если забыть обо всех этих малозначи-тельных явлениях повседневной жизни, обо всех этих наи-вных образах жизни сельской?
Писатели, впрочем, не гнушаются отмечать испуги тако-го рода, несомненно, не слишком-то искренние, но все же имеющие бессознательные основания. В путевых заметках Дюма пишет: 'Пещера глухо рычит, словно медведь, которо-го застали врасплох, когда он лез в самые глубины своей берлоги. Есть нечто пугающее в этом многократно повторя-ющемся и ревущем отзвуке человеческого голоса в месте, где этого не должно происходить.' (Impressions de Voyage. En Suisse, I, p. 78). В пещере, как и в бурю, голос рычащего медведя (столь мало знакомый!) слышится как самый что ни на есть природный гнев.
Тот, кто любит воображать, вступит в диалог с подземны-ми отголосками. Он научится задавать вопросы и отвечать на них, постепенно он поймет психологию оракульского я и ты. Так как же ответы могут прилаживаться к вопросам? Дело в том, что как только раздается природный голос, мы слышим больше в воображении, нежели с помощью воспри-ятия. Когда Природа подражает человеческому, она имити-рует воображаемое человеческое.
Норбер КастереА утверждает, что Кумская СивиллаB 'в своих экстазах интерпретировала шумы, производимые каким-то ру-чьем или же подземным ветром' и что 'предсказания, составля-ющие девять томов, хранились в Риме, где к ним обращались на протяжении семи столетий - от эпохи Тарквиния ГордогоС до
А Кастере, Норбер (р. 1897) - франц. спелеолог. Исследовал более 1000 пещер, пропастей и подземных рек в Пиренеях и Атласских горах. Открыл массу произведений пещерной живописи и статуй.
B Сивиллы - пророчицы, вдохновляемые Аполлоном. Считается, что Кумская Сивилла написала так называемые Сивиллины книги.
С Тарквиний Гордый (Луций Тарквиний Суперб) (533-509 до н.э.) -седьмой и последний римский царь. Был свергнут в результате восстания после того, как его сын Секст изнасиловал Лукрецию. Бежал в Кумы.
183
осады города Аларихом'A, 5. Часто говорят о преемственности в римской политике. В конечном счете, политическая преем-ственность, осуществленная посредством оракульских пред-сказаний обладает в качестве залога постоянства, по крайней мере, непрерывностью бессознательного. В политике такое по-стоянство не хуже всякого другого - не в обиду будь сказано тем, кто гордится мудростью каких-то великих министров или упорных руководителей. Это политическое постоянство зача-стую творится бессознательным выбором, в пользу которого всегда хватает ясных причин. Но это уже другая история, а мы не хотим покидать плоскость нашего предмета, коему суждено ограничиваться личными грезами. Любой одинокий грезови-дец, разговаривавший на дне долины с силами грота, узнает непосредственный характер определенных оракульских функ-ций. Если наши замечания и кажутся парадоксальными, то дело в том, что парадоксальным стало жить естественно, в уединении грезить посреди природы. Мы отгоняем от себя ребенка, обученного всем видам космического ониризма. Встре-чаясь с оракулами, он, прежде всего, узнаёт их интерпретации, т. е. их 'выравнивание' относительно рационального и соци-ального. Историческая археология недооценивает археологию психологическую. Впрочем, тут нет ничего удивительного, раз уж и сами психологи зачастую не проявляют интереса к пер-возданной туманности грез, отправляясь от которой формиру-ются великие образы, а впоследствии и основы мышления.
Голоса земли разговаривают согласными. Прочим стихи-ям отведены гласные, в особенности - воздуху, говорящему дыханием счастливых, нежно полураскрытых уст. Энергич-ным и гневным речам потребны землетрясение, эхо скал, пещерный грохот. Говорить замогильнымB голосом мы учим-ся, углубляя его, у пещеры. Когда удастся систематизировать ценности волевого голоса, мы уясним, что желаем подражать всей природе. Голос хриплыйС, голос замогильный, голос гро-хочущий - вот голоса земли. Мишле говорит, что пророков
А Аларих I ( ок. 370-410) - вестготский король с 395 по 410 г.; ариа-нин. В 410 г. захватил Рим, отдав его своим войскам на трехдневное раз-грабление.
5 Costerei N. Au fond des Gouffres, p. 197.
B Буквально: пещерным, caverneuse.
С Буквально: каменистый или шероховатый, rocailleuse.
184
создает именно затрудненность речи (La Bible de l'Humanité, p. 383)A. Голоса, исходящие из бездны, невнятны потому, что они высказывают пророчества.
Впрочем и здесь порою кажется, что кое-кто пользуется хитрыми приспособлениями. Так, г-жа де Сталь пишет: 'Час-то в великолепных садах немецких князей у обсаженных цве-тами гротов размещают эоловы арфы, дабы ветер переносил в небеса звуки вместе с благоуханием.' (De l'Allemagne. lre partie, ch. I). Здесь грот - всего лишь резонатор, камера резонанса. Но мы обращаемся к искусственному гроту, чтобы он усили-вал голоса ветра, ибо грезили о порогах звучащих пещер.
К тому же, неплохо бы вспомнить всевозможные ученые гре-зы, пытавшиеся наделить горные пещеры позитивной ролью. Благодаря этим пещерам горы дышат, словно легкими. Подзем-ные меха говорят о дыхании громадного земного существа.
IV
Перед глубоким гротом, на пороге пещеры грезовидец за-мирает. Сначала он разглядывает черную дыру. Пещера, в свою очередь, отвечая взглядом на взгляд, обездвиживает гре-зовидца своим черным оком. Вертеп - это глаз циклопа. В творчестве Виктора Гюго масса примеров таких черных взгля-дов пещер и логов. Переходя от одного стихотворения к дру-гому, взгляды пересекаются:
О vieil antre, devant le sourcil que tu fronces...
(О старый вертеп, перед бровью, что ты хмуришь...)
(Hugo V. Toute la Lyre. I, p. 121.)
Moi je songe. Je suis l'œil fixe des cavernes.
(A я-то грежу. Я - неподвижное око пещер.)
(Hugo V. Le Satyre, p. 22.)6
A Можно вспомнить, что Моисей заикался.
6 См.: также Green J.B Minuit, p. 49: 'Десятилетний путешественник ... знает, что на пороге пещер сияет некий взгляд.' А вот слова Пьера Лоти: 'По мере того, как мы удаляемся, начинает казаться, будто черные дыры гипогеевC преследуют нас, словно взоры смерти' (Vers Ispahan, p. 128).
B Грин, Жюльен (р. 1900) - амер. франкоязычный писатель. Цитиру-ется роман 'Полночь' (1936).
С Гипогей - 1) археолог. термин, обозначающий всякое подземелье; 2) подземный храм (например Митры).
185
Мы, без сомнения, привыкли к этой игре инверсия-ми, привязывающей реальность образа то к человеку, то к вселенной. И все-таки недостаточно замечали, что та же игра инверсий образует динамику воображения. В этой игре одушевляется наша психика. Эта игра порождает некую тотальную метафору, меняющую местами терми-ны философского противопоставления 'субъект-мироз-дание'.
Эту перестановку следует переживать на образах самых хрупких, самых мимолетных, наименее описательных из всех встречающихся. Таков образ взгляда грота. Ну как же эта обыкновенная черная дыра может создать образ, ассоцииру-ющийся со взглядом из глубин? Для этого необходимо мно-жество грез о земле; нужна медитация о черном, идущем вглубь, о черном без субстанции, или, по крайней мере, с одной лишь субстанцией глубины. Пытаясь уловить образы приро-ды, надо прочесть Гийома Аполлинера, сказавшего о Пикас-со ('Les Peintres cubistes'): '...его свет, тяжелый и стелющий-ся, будто в гротах'. Возникает впечатление, что в том же царстве глубины, отвечая взглядом на взгляд, на живописца из глубин смотрит пещерный свет. И как раз Гийом Аполли-нер опять же пишет: 'Пикассо привык к безмерному свету глубин.'
В недвижном взгляде пещер утверждается вся воля к ви-дению. И тогда запавшая орбита уже становится грозной без-дной. В 'Соборе Парижской Богоматери' поэт абсолютного взгляда Гюго, пишет: 'Его зрачок, искрящийся под очень глубокой надбровной дугой, подобен свету в глубине логова' (I, p. 259).
В гроте кажется, что чернота блещет. Образы, не выдер-живающие анализа с реалистической точки зрения, прини-маются воображением черного взгляда. Так, Вирджиния Вулф пишет: 'Птичьи глаза блестят в глубине гротов ли-ствы' (Les Vagues. Trad., p. 17). Глаз, живущий в дыре черной земли, возбуждает в нас необычайное смятение. Вот что пишет Джозефина Джонсон: 'Смотри-ка... и я вижу холодный неподвижный взгляд полосатых сов. Это были птенцы, и глаза их казались каменными. Я чуть не лопну-ла от волнения...' (Novembre. Trad., p. 75). Совиными гла-зами глядит черная дыра ветхой стены.
186
V
Классификация гротов, оттеняемых воображением как гро-ты ужаса и гроты изумления, может дать диалектику, доста-точную для выявления амбивалентности любого образа под-земного мира. С самого порога можно ощутить синтез испуга и восторга, желание войти и страх перед входом. Здесь-то порог и наделяется ценностями серьезного решения.
Эта фундаментальная амбивалентность транспонируется во взаимодействие более многочисленных и тонких ценностей, каковыми и являются ценности специфически литературные. Именно эти ценности для некоторых душ оживляют страни-цы, остающиеся для других холодными аллегориями. Тако-вы романтические гроты. Пренебрежительное чтение поисти-не изымает их из повествования. И, тем не менее, функции и смысл романтическому пейзажу зачастую придает грот. При-ведем лишь один пример, позаимствованный из превосход-ной диссертации Роберта Миндера о Людвиге Тике. Мы уви-дим, что таковский грот на свой лад осуществляет всю ро-мантическую магию пейзажа (р. 250): 'Чаще всего грот у Тика служит завершением пейзажа, наиболее таинственным убежищем, в которое ведут леса и горы. Следовательно, в чисто магическом плане он содержит даже полумагические и полуреальные элементы таковского пейзажа; через поиски этого чудесного грота поэтически выражается всегда латент-ная ностальгия, тоска по изначальному раю, об исчезнове-нии которого сожалеет уже ребенок. Когда герои попадают в грот, у них возникает ощущение, что они присутствуют при исполнении своих самых давних желаний; наконец, весь поэти-ческий мир порою отождествляется для Тика с чудесной пещерой'. Так поэт инстинктивно обретает все мифы кос-мологического и магического грота, где свершается чело-веческая судьба. И Роберт Миндер цитирует следующее стихотворение Тика, переведенное Альбером Бегеном ('Зо-лотой кубок'):
Вдали, скрытый кустами, Находится грот, давно забытый. Его дверь едва различима -Столь глубоко она погребена плющом.
187
Его маскирует дикая красная гвоздика.
Внутри же - легкие и странные звуки
Иногда становятся неистовыми, а потом исчезают
В нежной музыке...
Или тихо стонут подобно плененным зверям,
Это волшебный грот детства.
Да будет позволено поэту открыть его дверь!
Стоит хорошенько измерить эту двойную глубинную пер-спективу грота, скрытого за зарослями лиан и плюща, замас-кированного дикой гвоздикой и далекими воспоминаниями волшебного детства - и мы поймем, что грот поистине пред-ставляет собой пейзаж в глубину, и глубина эта необходима романтическому пейзажу. Роберт Миндер справедливо напо-минает, что Шарль Бодуэн без труда продемонстрировал, что возвращение в магический грот является возвращением к ма-тери, возвращением блудного сына, отягощенного в дальних странствиях виной и бедами.
VI
Итак, для грезовидца грота грот больше, чем дом, это существо, отвечающее нашему существу голосом, взглядом, дыханием. К тому же, это некая вселенная. Сентив задается вопросом, не считались ли гроты в четвертичный периодА 'уменьшенным Космосом, когда свод изображал небо, а зем-ля воспринималась как Земля в целом' (р. 47). Он находит весьма правдоподобным, что некоторые пещеры 'были вы-рыты и обустроены по правилам архитектуры, долженствую-щей отражать образ Космоса' (р. 48). В любом случае моти-вов полезности, столь часто объявляемых неоспоримыми, не-достаточно для того, чтобы уяснить роль гротов и пещер в доисторическую эпоху. Грот остается магическим местом, и не следует удивляться, что он сохраняется как архетип, дей-ствующий в подсознании всех людей.
А Четвертичный период - геологическая эпоха, последняя в кайнозой-скую эру, продолжавшаяся от 4 до 2 млн. лет. Характеризуется несколь-кими великими оледенениями, эволюцией человека.
188
Еще Сентив приводит примеры первобытных мифов, в которых пещера предстает как своего рода вселенская матка. В некоторых мифах из пещеры выходят луна и солнце, все живые существа. В одном перуанском мифе грот назван 'до-мом производства' (р. 52). Сентив цитирует Второзаконие (32).
Он... питал его медом из камня и елеем из твердой скалы..,
..................................................
А ЗаступникаА, родившего тебя, ты забыл.
В одном стихе Исаии можно уловить эндосмос образа и реальности: родиться из скалы = родиться от предка. 'Взгля-ните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего'B. Подобно всем свидетельствам о грандиозных грезах, такой текст можно пережить либо в его ясном символизме, либо в его глубинной онирической реальности. Благодаря многим своим чертам грот позволяет обрести ониризм яйца, все чер-ты ониризма бездвижного сна куколки. Это могила повсед-невного существования, могила, из которой мы каждое утро восстаем, укрепленные сном земли.
Сентив попытался заново ввести реальные компоненты в символику философов. Для него платоновский миф о пещереС - не просто аллегория. Пещера - это Космос7. Древ-негреческий философ рекомендует аскезу разума, но такая аскеза обыкновенно осуществляется в 'космической пещере инициаций'. Инициации как раз и действуют в этой зоне,
А Во франц. тексте - rocher 'утес'.
B Ис. 51: 1, 2.
C 'Наше земное существование подобно заточению в пещере, наши общераспространенные знания о вещах - только подмеченные свойства теней, истинное знание возможно лишь в свете дня - здесь разумеется мир идей - и в лучах солнца - под солнцем, разумеется идея Блага' (Васильева Т.В. Путь к Платону. М., 1999, с. 75). Пещера - образ из диалога Платона 'Государство'.
7 Во второй части 'Фауста' Гёте хор говорит ФоркиадеD: 'Ты творишь так, как если бы в этих гротах были пространства некоего мира, лесов, лугов, ручьев, озер...'
D Форкиады - мифологические существа; страшные старухи, фигу-рирующие во 2-й части 'Фауста'.
189
промежуточной между грезами и идеями; грот является сце-ной, где дневной свет борется с подземным мраком.
В гроте царствует свет, наполненный сновидениями, а тени, проецируемые на стены, без труда можно сравнить с видени-ями грез. В связи с платоновским мифом о пещере Пьер-Максим Шюль справедливо упоминает более скрытые и от-даленные ценности бессознательного. Классические толкова-ния стремятся представить этот миф как простую аллегорию, а тогда можно удивиться, почему узники пещеры позволяют принять себя всего лишь за китайские тени. Этот миф наде-лен другой глубиной. Грезовидец привязан к ценностям пе-щер. Реальность этих ценностей располагается в бессозна-тельном. Стало быть, мы не исследуем такие тексты полнос-тью, если будем читать их не более как аллегории, - если мы немедленно перейдем к их ясным частям. По мнению Пшилуского8, Платон описал зрелище, 'вероятно, составляв-шее часть религиозных церемоний, подобных отправляемым при посвящении в мистерии' в пещерах. Эти отголоски бес-сознательного мало важны для философской рефлексии. Их важность возросла бы, если бы философия вновь поверила в собственные интуиции.
Впрочем, геометрическая игра света 'плавает' между от-четливыми идеями и глубинными образами. Вот литератур-ные грезы, где объединены обе инстанции.
Иногда - благодаря открытому положению - в гротах протекает свой солнечный день, и тогда они становятся свое-образным природным гномоном. И странно, что именно на-стоящий церемониал входа солнца в глубину фота сообщает час жертвоприношения беглой амазонки в одноименной пове-сти Д. Г. Лоуренса, в повести, для которой характерна не-слыханная религиозная жестокость, в повести с явным вооб-ражаемым смыслом - и во всем этом невозможно заподоз-рить книжное влияние. Пещера дожидается Солнца.
Поэзия склепов, медитация в подземных храмах могут дать повод для классических ремарок. Мы же отметим одно-
8 См.: Schuhl P.M. La Fabulation platonicienne, pp. 59-60. Шюль отсы-лает к статье Р. Р. Мэрретта о спелеолатрии.
190
единственное направление грезы, и оно находит в склепе грот, оно глубоко погружается в бессознательное - в сторону сти-хотворения Бодлера 'Прошлая жизнь'. В храмах с 'широки-ми портиками'
Et que leur grands piliers droits et majestueux, Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques,
(Которые благодаря прямым и величественным портикам Вечерами становятся похожими на базальтовые гроты),
поэт обретает прошлую жизнь, первозданные грезы, склеп бес-сознательного и бессознательное склепа.
В начале этой главы мы говорили, что всякий посетитель грота грезит о его обустройстве. Но существуют и противо-положные грезы, возвращающие нас к изначальной просто-те. И тогда грезы возвращают в природу сооружение, пост-роенное человеком. Оно становится естественной полостью, или, как выразился Д.Г. Лоуренс, 'совершенной полостью'. Займемся анализом страницы, на которой великий грезови-дец возвращает человеческому прошлому отдаленнейшее из впечатлений текущего дня.
Персонаж романа 'Радуга' на паперти Линкольнского со-бораА оказывается на пороге мрака бессознательного: 'Под портиком его охватывал восторг, и он ощущал себя на грани открытий. Он поднимал голову в направлении открывав-шейся перед ним каменной перспективы. Сейчас ему пред-стояло перейти в совершенную полость.' (Trad., p. 160).
Неф, полный мрака, сам кажется колоссальным яйцом, где грезовидец встретится с глубинными флюидами. В 'об-ширном мраке' его трепещущая душа 'возвысилась над соб-ственным гнездом', 'его душа ринулась во тьму, в одержи-мость, она развернулась, рассеялась, обратившись в великое бегство, содрогнулась в глубокой полости, в безмолвии и мраке изобилия, словно прорастающее зерно: экстаз'.
Странный экстаз, который возвращает нас к подземной жизни, к жизни, стремящейся спуститься в подземелье.
А Линкольнский собор - шедевр готического искусства. Построен нор-маннами в 1192-1233 гг.
191
В этой совершенной полости мрак больше не колышется, его уже не нарушает живость света. Совершенная полость есть некий замкнутый мир, космическая пещера, где дей-ствует сама материя сумерек. 'Здесь сумеречная материя была самой сутью жизни, расцвеченным мраком, эмбрионом света и дня. Здесь блистала первая заря, здесь уходило последнее свечение заката, и первозданная тень, из которой просияла, а затем и ослабела жизнь, отражала безмятежное и глубокое изначальное безмолвие.'
Читатель, следящий за такой грезой, прекрасно чувствует, что он находится уже не в искусственном мире, не в храме, возведенном по науке, - он в материи мрака, переживаемого в самой основной из амбивалентностей, в амбивалентности жизни и смерти. В этой-то тьме совершенной полости Лоу-ренс и объединяет 'сумерки произрастания' с 'сумраком смер-ти' (р. 161). Тем самым он обретает великий сновидческий синтез, синтез сна как покоя и роста со сном как 'смертью при жизни'. Мистика произрастания, столь могущественная в творчестве Лоуренса, превращается здесь в мистику под-земных сновидений, в мистику полужизни, жизни как меж-дуцарствия, каковую способен уловить лишь лиризм бессоз-нательного. Часто разум, согласуясь с хорошим вкусом, воз-ражает этой лирической жизни грезовидца. Чрезвычайно лю-бопытно, что весьма умные люди зачастую неспособны к интерпретации истин сна, сил произрастающего бессознатель-ного, которое подобно зерну всасывает в совершенную по-лость 'тайну всего мира, содержащуюся в его элементах'.
Сколь бы слабо мы ни ориентировались во мраке, вдали от форм и не заботясь об измерениях, мы обязательно придем к констатации того, что образы дома, живота, грота, яйца и зерна сходятся з одном глубинном образе. Когда мы роемся в бессоз-нательном, эти образы постепенно утрачивают индивидуаль-ность, обретая бессознательные ценности совершенной полости.
Как мы уже часто замечали, в образах глубины всегда поляризованы одни и те же интересы. В странном жилище, представляющем собой в разных своих оттенках дом, грот и лабиринт, куда Анри де Ренье приводит своего героя г-на д'Амеркёра, царствует женщина: 'Она казалась мне цветком, распустившимся у врат путей, подземных и опасных. Она
192
казалась мне щелью, сквозь которую души падают в без-дну...' Так во всех образах мироздания (а грот - один из них) излагается некая психология, и Анри де Ренье пишет фразу, сжато выражающую весь синтез образов глубины: 'Я дышал полостью магической спирали'9.
Отметим, впрочем, что мы ощущаем некоторое неудоб-ство, объединяя столь несходные образы. Представляется, что в этом стеснении можно видеть запрет на глубинное, не ус-кользнувший от прозорливости лингвистов. Ж. ВандриесA за-метил, что слова, обозначающие глубину, издавна получали самую пейоративную коннотацию. Своего рода вербальный страх останавливает нас, когда мы обдумываем то, что гово-рим, в момент когда на пороге грота мы воображаем, будто проникаем во 'внутренности' земли.
На протяжении всей этой главы мы стремились подтвер-дить наши выкладки в сфере естественных грез, опираясь, прежде всего, на литературные образы, которые кажутся спон-танно вышедшими из-под пера писателей. Между тем, нам было бы нетрудно представить множество ссылок и на исто-рию религий. Существует масса документов о богах пещер10. Но если мы и хотим продемонстрировать, что логова, дыры, полости, гроты навевают человеку особенные грезы, нам не следует перегружать наши доказательства анализом традиций, совершенно не учитываемых заурядными грезовидцами.
Если, впрочем, было бы возможно создать теорию состав-ного бессознательного, можно было бы обратиться к археоло-гам, чтобы они подтвердили определенный синкретизм ана-лизируемых образов. Грот - это жилище. А значит - в выс-шей степени ясный образ. Но из-за самого обращения к зем-ным грезам, жилище это одновременно является первым и последним. Оно становится образом материнства и смерти.
9 Régnier H. de. La Canne de Jaspe, p. 60.
A Вандриес, Жозеф (1875-1960) - франц. лингвист. Специалист по кельтской лингвистике. Автор трактата 'Язык' (1921), написанного под влиянием Э. Дюркгейма.
10 См., например, Rohde Е.B Psyché. Trad. A. Reymond, pp. 93 suiv.
B Роде, Эрвин (1845-1898) - нем. классический филолог, друг Ниц-ше и Вагнера. Цитируется его наиболее известный труд 'Психея. Культ души и вера в бессмертие у греков' (1894).
193
Погребение в пещере есть возвращение к матери. Грот - это естественная могила, могила, устроенная матерью-землей, Mutter-Erde. Все эти грезы находятся в нас, и похоже, что археология может на них ссылаться. Тогда покажется не столь 'парадоксальным', что заходила речь о 'могиле Зевса'. Само слово 'парадоксальный' достаточно свидетельствует о том, что сколь бы мы ни были открыты всевозможным реалиям религиозной жизни, эти легенды мы рассматриваем при свете логики. 'Бросается в глаза, - говорит Роде, - что в легенде о могиле критского Зевса 'могила', являющаяся всего-на-всего пещерой, как место вечного пребывания вечно живо-го бога, представляет собой парадоксальное выражение, оз-начающее, что этот бог неразрывно связан с упомянутым местом. Это, естественно, наводит на мысли о не менее пара-доксальных традициях, соотносящихся с могилой некоего бога в Дельфах. Под пуповинным камнем (omphalos) богини зем-ли, в храме Аполлона, в куполообразном сооружении, напо-минающем древнейшие могилы, было погребено божествен-ное существо, которое серьезнейшие свидетельства называют ПифономА, противником Аполлона...' То, что этот культ был именно так укоренен в специфическом месте, несомненно, представляет собой мотив, который следовало бы изучить истории. Но эта укорененность - не всегда просто метафора. Так отчего бы не уделить внимание синтезу образов? Пифон под пупком (omphalos) богини Земли - разве это не полива-лентный синтез жизни и смерти?
Мы, стало быть, видим необходимость изучения легенд и культов в русле естественных грез. К тому же, смогли бы легенды реально передаваться, не будучи непосредственно сцеплены с бессознательным? Благодаря бессознательному устанавливается строй подобия, ослабляющего всякую види-мость парадокса. И тогда диалектика жизни и смерти при-глушается, порождая некое синтетическое состояние. Погре-бенный герой живет во внутренностях Земли, жизнью мед-лительной и погруженной в сон, но вечной.
А Пифон - чудовищный змей, сын Геи. Имел храм в Дельфах. Апол-лон убил его своими стрелами и в тех же Дельфах воздвиг собственный храм, где Пифии изрекали оракулические предсказания.
194
Когда мы выберем другую линию земных образов, како-вые объединим в нашей главе о змее, мы не будем удивлять-ся новому синтезу, часто превращающему погребенных геро-ев в змеев. Например, Роде отмечает: 'ЭрехтейА обитает - вечно живой - в глубоком склепе этого храма, в виде змея, подобно прочим духам земли' (р. 113). Так судьба образов наделяет вечностью земные существа. В дальнейшем мы уви-дим, что змей в легендах обладает привилегиями долгожи-тельства - и не только благодаря ясному символу Уроборо-саВ (змея, кусающего себя за хвост), но, вдобавок, и более материально, более субстанциально.
Так грот вбирает в себя грезы, становящиеся все более земными. Обитать в гроте означает приступать к раздумьям о земле, быть сопричастным жизни земли в самом лоне Зем-ли как матери.
А Эрехтей - одно из первых божеств, имевших культ в Афинах (получеловек-полузмей). Считался одним из трех мифических царей Афин; умерщвлен Посейдоном. Похоронен на Акрополе, где возведен
Эрехтейон.
В Уроборос - оккультный символ самооплодотворения, вечного воз-вращения и союза Неба и Земли.
Глава 7. Лабиринт
Вес стен закрывает все двери.
Поль Элюар. Непрерывная поэзия
I
В полное исследование понятия лабиринта нужно включить весьма разнородные про-блемы, ибо понятие это затрагивает как ночную жизнь, так и жизнь во время бодрствования. И, разумеется, все, чему учит нас дневная жизнь, маскирует глубинные ониричес-кие реальности. Смятение путника, не находящего тропы среди изборожденных дорогами полей, замешательство при-езжего, заблудившегося в большом городе, как будто под-крепляют особой материей все страхи, характерным для ла-биринта грез. В этой перспективе, чтобы возникли страхи, достаточно придать крепость огорчениям. Как минимум, следует составить план лабиринта наших ночей подобно тому, как психолог, сооружая зигзагообразные перегород-ки, строит 'лабиринт' для изучения поведения крыс. И не-прерывно следуя идеалу интеллектуализации, многие архе-ологи, кроме прочего, полагают, что им удалось бы понять легенду, если бы они раздобыли планы дедаловской конст-рукции. Но сколь бы полезными ни были поиски фактов, не бывает хорошей исторической археологии без археоло-гии психологической. У всякого ясного произведения есть смутная бахрома.
Следовательно, истоки лабиринтного опыта являются скрытыми, а эмоции, имплицируемые таким опытом, - глу-бокими и изначальными: 'Мы преодолеваем эмоцию, пре-
196
граждающую путь' (Reverdy P. Plupart des Temps, p. 323). Здесь опять же перед воображением форм, перед геометри-ей лабиринтов следует расположить особое динамическое воображение и даже воображение материальное. В своих грезах мы порою превращаемся в материю лабиринта, в ма-терию, которая живет, растягиваясь и пропадая в собствен-ных теснинах. Итак, бессознательные тревоги следует по-местить перед замешательствами ясного сознания. Если бы мы были свободны от страха, связанного с лабиринтом, мы не раздражались бы на углу улиц, не находя дороги. У вся-кого лабиринта есть подсознательное измерение, которое нам надо охарактеризовать. У всякого лабиринта есть бессозна-тельное измерение страха, глубина. Это-то измерение стра-ха и предстоит открыть нам в бесчисленных и монотонных образах подземелий и лабиринтов.
Уразумеем сначала, что греза о лабиринте, переживае-мом в сновидении столь особом, что ради краткости его можно было бы назвать лабиринтным, представляет собой регулярную связь глубинных впечатлений. Оно может слу-жить хорошим примером архетипов, упомянутых К. Г. Юн-гом. Это понятие архетипа уточнил Робер Дезуайль. Он го-ворит, что мы недопоняли бы архетип, если бы восприняли его как простой и единственный образ. Архетип - это, ско-рее, серия образов, 'подводящих итог опыту предшествую-щих поколений в отношении типичных ситуаций, т. е. в обстоятельствах, не приложимых к одному-единственному индивиду, а способных навязать себя любому человеку...'; брести по темному лесу или сумрачному гроту, блуждать, заблуждаться - вот типичные ситуации, производящие бес-численные образы и метафоры при самой что ни на есть трезвой деятельности духа, хотя в современной жизни ре-альный опыт всего этого, в конечном счете, крайне редок. Я очень люблю лес, но не помню, чтобы мне когда-нибудь случалось в нем заблудиться. Мы боимся заблудиться, од-нако никогда не заблуждаемся.
А какое странное языковое сращение (concrétion) зас-тавляет нас употреблять одно и то же слово для двух столь непохожих видов опыта: потерять предмет и потеряться са-мим! Можно ли лучше показать, что определенные слова
197
отягощены комплексами? Кто скажет нам, что станется с тем, что потеряно? Кольцо? Счастье? Совесть? А какая пси-хическая связность в том, чтобы потерять сразу и кольцо, и счастье, и совесть! Аналогично этому, существо в лабирин-те - одновременно субъект и объект, слитые воедино в по-терявшемся существе1. В лабиринтных грезах мы как раз и переживаем эту типичную ситуацию потерявшегося суще-ства. Значит, потерянность со всеми имплицируемыми ею эмоциями представляет собой явно архаическую ситуацию. При малейшем - конкретном или абстрактном - затруд-нении человек может очутиться в такой ситуации. 'Когда я бреду по темной и однообразной местности, - говорит Жорж Санд, - я задаю себе вопросы и ссорюсь сама с собой...' (La Daniella. T. I, p. 234). Зато некоторые люди притязают на то, что у них есть чувство ориентации. Они превращают его в предмет мелкого тщеславия, возможно, маскирующе-го некоторую амбивалентность.
По существу, в наших ночных сновидениях мы подсоз-нательно возобновляем жизнь наших странствовавших пред-ков. Говорят, что в человеке 'всё - путь'; если мы со-шлемся на древнейший из архетипов, надо будет добавить: в человеке всё - утраченный путь. Систематически связы-вать ощущения потерявшегося существа с всякими бессоз-нательными блужданиями означает обретать архетип лаби-ринта. Горестно брести по грезам означает быть потерян-ным, переживать бедствия потерявшегося существа. Так синтез бедствий происходит по простейшему элементу труд-ного пути. Если мы проведем тонкий анализ, мы ощутим, что теряемся при малейшем повороте, что нас тревожит
1 В начале своего романа 'Америка' Кафка изображает эту слитность потерянного предмета и потерявшегося путешественника. В поисках по-терянного зонтика он теряет чемодан и теряется сам в коридорах, 'то и дело заворачивавших'A, во чреве трансатлантического лайнера. Затем - после высадки в Америке - путешественник начинает лабиринтную жизнь, приводящую его к ситуации, все более усложняющейся с социальной сто-роны. Всякое реальное страдание представляет собой лавину бед. (См. статью Поля Жаффара Signification de Kafka // Connaître, no. 7).
A См.: Кафка Ф. Америка, Процесс. Из дневников. М., 1991, с. 17. Пер. В. Белоножко.
198
малейшее узкое место. В пещерах сновидений мы всегда вытягиваемся - расслабленно или болезненно.
Мы лучше уясним кое-какие виды динамического син-теза, если рассмотрим отчетливые образы. Так, при бодр-ствовании идти по длинному ущелью или находиться на пересечении путей означает два типа как бы взаимодопол-нительного страха. Можно даже избавиться от одного при помощи другого. Так пойдем же по этому узкому пути, по крайней мере, не будем колебаться. Так возвратимся же на пересечение дорог, по крайней мере, нас больше не будет вести дорога. В кошмаре же лабиринта объединены оба типа страха, и грезовидец переживает необычайное замешатель-ство: он испытывает колебание посреди единственного пути. Он становится колеблющейся материей, материей, которая длится, колеблясь. В синтезе, образуемом лабиринтной гре-зой, похоже, сопрягается страх перед застойным прошлым и беспокойство перед бедственным будущим. Оказавшийся в ней человек захвачен врасплох между заблокированным прошлым и выводящим на простор будущим. Он превра-щается в пленника пути. Наконец, странный фатализм гре-зы о лабиринте: порою мы возвращаемся в ту же точку, но никогда - тем же путем.
Стало быть, речь здесь идет о жизни, которую мы вла-чим, а она стонет. Ее образы необходимо раскрывать по их динамическому характеру, или, скорее, следует показать, как при затрудненном движении откладываются 'ушиблен-ные' образы. Попытаемся выделить некоторые из них. А впоследствии представим несколько наблюдений над ми-фами, связанными с такими пещерами, как пещера ТрофонияА. И, в последнюю очередь, мы постараемся про-лить некоторый свет на промежуточную зону, где и объе-диняется опыт грез с опытом бодрствования. Здесь-то, преж-де всего, и формируются литературные образы, интересую-щие нас особо.
А Трофоний - греч. герой, построивший храм Аполлона в Дельфах вместе с Агамедом. За то, что он убил Агамеда, он провалился сквозь землю и изрекал пророчества из трещины.
199
II
Довольно часто кошмар характеризуют как бремя на груди спящего. Видящий сон ощущает себя раздавленным и пы-тается вырваться из-под давящего на него бремени. И, ра-зумеется, классическая психология, безраздельно отдава-ясь позитивизму ясного опыта, пытается найти давящий объект - что это, гагачий пух или одеяло? Или же какая-нибудь 'тяжелая' пища... Гигиенист, запрещающий есть мясо на ночь, забывает, что тяжелая пища - всего лишь метафора тяжести пищеварения. Организм, умеющий и любящий переваривать пищу, никогда не страдает от такой 'тяжести': к большому счастью, существуют полные же-лудки, которым ведом хороший сон.
Значит, окказиональные причины грез почти не име-ют значения. Грезы следует воспринимать в функции производства образов, а не восприятия впечатлений, ибо для грез восприятие впечатлений поистине не характер-но. Лабиринтная греза весьма благоприятствует такому исследованию, поскольку ее динамика сцеплена с тво-римыми ею образами. А лабиринт - именно история такого творения. Онирически типичным является то, что он состоит из вытягивающихся, взаиморастворимых, за-гибающихся событий. Кроме того, у онирического ла-биринта не бывает углов; в нем есть лишь изгибы, и изгибы глубинные, влекущие грезовидца как некую гре-зящую материю1bis.
Стало быть, еще раз необходимо, чтобы психолог, же-лающий понять грезу, осуществил инверсию субъекта и объекта: грезящий подавлен не из-за того, что проход узок; оттого, что грезящий тревожится, он видит, как сужается путь. Грезовидец подгоняет более или менее ясные образы
1bis По многим характерным чертам интуиция глубокой длительности, интуиция непрерывной длительности, переживаемой вглубь, представляет собой эксплицирование длительности лабиринтной. Эта интуиция, кото-рой сокровенность придает смысл, как правило, сопровождается безучас-тностью к геометрическим описаниям. Переживать длительность сокро-венно означает переживать ее в отрешенности, с полузакрытыми или зак-рытыми глазами - уже погружаясь в большие грезы.
200
к видениям смутным, но глубоким. Значит, в грезах лаби-ринт не виден и не предвидится, он не предстает как перс-пектива путей. Чтобы его увидеть, его следует пережить. Судороги сновидца, его искривленные движения в материи снов оставляют в качестве следа лабиринт. Задним числом, в грезе описываемой, когда спящий вновь попадает на зем-лю ясновидящих, когда он самовыражается в царстве пред-метов твердых и определенных, он говорит о запутанности путей и перекрестках. Обобщенно говоря, в психологии грезы полезно было бы различать два процесса: грезу пере-живаемую и грезу описываемую. На этом можно лучше уяс-нить некоторые функции мифов. Так, если нам позволят играть словами, мы скажем, что нить Ариадны есть дискур-сивная нить. Она относится к порядку описываемых грез. Это нить возвращения.
В практике исследования запутанных пещер принято разматывать нить, которая будет направлять путешествен-ника на обратном пути. БозиоА, стремясь посетить ката-комбы под Аппиевой дорогойB, взял с собой клубок ниток, достаточно толстый для того, чтобы направлять подземное путешествие в течение нескольких дней. Благодаря такому простому ориентиру, как размотанная нить, у путеше-ственника возникает вера; он уверен, что вернется. А иметь веру - уже половина открытия. Эту-то веру и символизи-рует нить Ариадны.
Un fil dans une main et dans l'autre un flambeau,
Il entre, il se confie à ces voûtes nombreuses
Qui croisent en tous sens leurs routes ténébreuses;
Il aime à voir ce lieu, sa triste majesté,
Ce palais de la nuit, cette sombre cité
A Бозио, Франсуа Жозеф (1848-1895) - скульптор родом из Монако. Автор барельефов на Вандомской колонне, конной статуи Людовика XIV, квадриги на Триумфальной арке, бюстов Наполеона и Жозефины, а также многочисленных работ на мифологические сюжеты.
B Аппиева дорога - дорога из Рима в Бриндизи, которую начал строить цензор Аппий Клавдий в 312 г. до н.э. Была украшена роскошными над-гробиями, руины которых сохранились.
201
(С нитью в одной руке и с факелом в другой,
Он входит, вверяя себя этим многочисленным сводам,
Где пересекаются сумрачные пути, ведущие во все стороны;
Он любит смотреть на это место, на его печальное величие,
На этот дворец ночи, на этот темный город) -
писал аббат ДелильА о лабиринте катакомб.
Есть весьма существенное различие между грезой о пре-граждающей путь стене и грезой о лабиринте, в котором всегда имеется щель: щель - это начало лабиринтной гре-зы. Щель узка, но грезовидец в нее проскальзывает. Мож-но даже утверждать, что в грезах всякая щель связана с со-блазном проскальзывания, всякая трещина дает импульс к лабиринтным грезам. В практике сна наяву Робер Дезуайль часто просит грезящего проскальзывать в узкую щель, в узкий просвет между двумя базальтовыми стенами. По су-ществу, это активный образ, образ естественного онириз-ма. В таких грезах не формулируется отчетливая диалекти-ка, которая говорит: 'Необходимо, чтобы дверь была от-крыта либо закрыта', - ибо лабиринтная греза, по сути, представляет собой череду полуоткрытых дверей. Эта воз-можность 'целиком' проскальзывать в малейшую щель - новое применение законов грезы, принимающих измене-ния размеров предметов. Норбер Кастере описывает техни-ку, ведущую к терпению и успокоению, посредством кото-рой исследователю пещер удается проскальзывать в весьма узкие лазейкиB. И тогда, в этом реальном упражнении, медлительность необходима; следовательно, рекомендуе-мая Кастере медлительность подвергает своеобразному психоанализу архаические страхи перед лабиринтом. Греза инстинктивно знает эту медлительность. Не бывает стре-
А Делиль, Жак, аббат (1738-1813) - франц. поэт. Благодаря переводу 'Георгик' Вергилия стал академиком (1774). Автор описательной поэмы 'Сады' (1782) и философской поэмы 'Воображение' (1785-1794). В годы Революции эмигрировал в Лондон, в 1800 г. опубликовал поэму 'Сельс-кий житель', апологию сельского счастья. В годы Империи играл роль патриарха, признаваемого и официальным неоклассицизмом и первыми романтиками.
B Буквально: кошачьи ходы (chatières).
202
мительных лабиринтных грез. Лабиринт связан с психи-ческим феноменом вязкости. Он представляет собой са-мосознание 'болезненного теста', растягивающегося, вздыхающего.
Иногда, между тем, грезящая в нас материя является более текучей, менее сжатой, менее угнетенной, более сча-стливой. Существуют лабиринты, где грезовидец себя уже не утруждает, где его больше не одушевляет воля к вытяги-ванию. К примеру, грезящего просто уносят подземные реки. Этим рекам свойственны те же динамические противоре-чия, что и лабиринтной грезе. Течение их неравномерно, у них есть пороги и излучины. Они тинисты и изогнуты, так как любое подземное движение является искривленным и зат-рудненным. Но поскольку грезовидца уносит, поскольку он безвольно предается течению, эти грезы о подземных реках оставляют меньше следов; мы находим лишь убогие расска-зы о них. В них не выражается тот опыт первобытного стра-ха, коим отмечен грезовидец, бродящий по ночам по узким ущельям. Чтобы увидеть эти подземные течения или тече-ния морских глубин, требуется такой великий поэт, как Блейк:
Мы увидим, когда над нами
Будут реветь взвихренные волны,
Янтарный потолок,
Жемчужную мостовую.1ter
В сущности, лабиринт есть первое страдание, страдание детства. Родовая ли это травма? Или же, напротив, как счи-таем мы, один из наиболее отчетливых следов психической архаики? Страдание всегда воображает орудия пытки. На-пример, сколь бы светлым, просторным и приветливым мы ни делали дом, какие-то детские тревоги всегда найдут уз-кую дверь, чуть темноватый коридор, низковатый потолок, чтобы превратить их в образы сжатости, физического угне-тения, подземелья.
Так наступает угнетенность. Ее накопление мы ощутим, читая вот эти строки Пьера Реверди:
1ter Процитировано Суинберном // Fontaine, no. 60, р. 233.
203
Une ombre dans l'angle du couloir étroit a remué,
Le silence file le long du mur,
La maison s'est tassée dans le coin le plus sombre.
(В узком углу коридора шевельнулась тень,
Вдоль стены тянется безмолвие,
Дом сгорбился в самом темном углу.)
(Plupart du Temps, p. 135)
В 'Сказке о золоте и молчании' Гюстав Кан сгущает в коридорах переменчивый свет: 'Длинные коридоры дро-жат и дребезжат меж своих толстых стен, колеблются раз-реженные красноватые огоньки, они колеблются непрерыв-но, и вот, устремляются назад, как будто для того, чтобы отдалиться от чего-то незримого' (р. 214). В лабиринтах всегда присутствует легкое движение, сулящее лабиринт-ному грезовидцу тошноту, головокружение, недуг.
Впоследствии мы вспоминаем эти горести детства с та-кой ностальгией, что они становятся амбивалентными. Сколь бы простыми они ни были, им присущ драматизм и болезненно земной характер. Например, кажется, что мно-гие страницы Люка ЭстанаА живут этими ностальгически-ми воспоминаниями воображаемых в детстве мук. Леон-Габриэль Гро2 на мгновение этому изумляется - реальные причины столь поверхностны! - но понимает, что об обра-зах первых страхов следует судить вглубь: 'В некотором смыс-ле достаточно парадоксально, но весьма логично для вся-кого, кто ссылается на определенные воспоминания, Люк Эстан почти всегда ассоциирует с идеей детства идею более или менее выраженной тревоги. Ему нравится воскрешать ветхие семейные дома, от которых мы оставляем в памяти лишь теплоту, но которые нас некогда пугали: 'Страх: в коридорах кишели какие-то темные руки'3. Синтез обра-
А Эстан, Люк (р. 1911) - франц. писатель; журналист и редактор. Пи-сал романы о детстве.
2 Gros L.-G. Présentation de Poètes contemporains, p. 195.
3 Даже в запустении в коридорах возникают рыщущие руки: 'Убоже-ство разрушаемых нами коридоров. Какое раболепное существо могло по-думать о том, что кирка с легкостью врежется в сердцевину кусков щебня, которые, однако, куполообразно располагаются вокруг рыщущих рук?' (Guilly R. 'L'Œil inverse. Messages, 1944.)
204
зов, когда нечеловеческое связано с человеческим, а тем-ный коридор сжимает нас своими холодными руками!
К тому же, есть масса примеров, в которых понятия вос-соединяются с первообразами. Персонаж Поля Гаденна, прогуливающийся по Парижу, послужит нам для обозначе-ния такого попятного движения от изношенного понятия к волнующему образу. В квартале, куда попадает гуляющий, улицы носили 'имена тяжеловесные и печальные. Они сами и были звуками туннелей и пещер' (Le Vent noir, p. 136). Вот так все, даже имена улиц, нагромождается, чтобы усу-губить самомалейшие лабиринтные впечатления, чтобы преобразить улицу в туннель, а перекресток - в склеп. А затем прогуливающийся начинает тосковать. Тосковать и бродить по улицам - этого достаточно для того, чтобы потеряться в сновидениях и сбиться с пути. 'Эти улицы всегда были для Люка не столько улицами, сколько путя-ми, коридорами, где никто больше не живет... Он носил в себе образ перекрестка, словно алое сердце.' На перекре-стке улиц мы переживаем волнение, кровь начинает течь стремительно, как в беспокойном сердце, и превращает метафору в сокровенную реальность. Следуя за стран-ствующим сновидцем Гаденна, мы попадаем на риль-ковские 'улочки Вилль-Суффранса'А из Десятой Дуин-ской Элегии.
Какое счастье для читателя вот так наткнуться на стра-ницу, соединяющую непреложной связью внешние ощу-щения и моральные впечатления, представляя доказатель-ство того, что грезы вставляются в рамку реальности при своеобычной фатальности образа!
Прочие улицы из 'Черного ветра' характеризуются как лабиринты непреложного ониризма. 'Зловещая улица Лаф-фитт, зажатая меж стен банка, словно одетая гранитом ка-нава. Другая улица представляет собой 'узенький вход в гавань', а окаймляющие ее маленькие кафе - 'пещеры' (р. 155). Слова звучат в двух регистрах, будто некие надпи-си на вывесках, и однако, в данных контекстах - как мор-ские реалии.
А Города-страдания.
205
В сновидении, описанном Андре Беем (Amor, p. 11), динамический образ узкой улицы, грезящейся, словно ла-биринт, претерпевает интересную инверсию. Грезовидец остается 'бездвижным посреди скользящих домов'. Этот релятивизм динамического образа - верно подмеченная онирическая истина. Переворачивая элементы подвижнос-ти, такая греза сообщает нам синтез головокружения и ла-биринта. Между субъектом и объектом происходит обмен тревожностью.
III
Теперь мы попытаемся ввести в онирический контекст традицию пещеры Трофония. А перед этим позаимствуем ее описание из книги, написанной спелеологом в высшей степени позитивистских взглядов. По пути нам будет не-трудно доказать, что ее географическое и историческое опи-сание не соответствует онирической связности мифа.
Адольф Баден в своей книге пишет: 'Печеобразное от-верстие в 'фойе', правильной формы и весьма искусно ус-троенное, позволяло отважному исследователю проскольз-нуть в пещеру' (Grottes et Cavernes, pp. 58-59). Этот вход уже сам по себе требует комментариев. Горизонтальная щель возбуждает множество грез. Ведь о 'пасти печи' говорят не просто так. Мы немедля поймем, что консультируемый 'про-глочен' бездной. О страх, вытянутый, вытягивающийся, длящийся и мимолетный! Описание продолжается: 'Чтобы туда спуститься, не было лестницы и приходилось доволь-ствоваться узкой и легкой приставной лесенкой, приспо-собленной для этого'. Такая узость лесенки, несомненно, представляет собой преувеличение рассказчика. Как часто бывает, объективное повествование желает передать впе-чатления. Необходимо, чтобы сразу же после попадания в 'таинственную сень' возникало впечатление неуверен-ности. Потому-то рассказчик и говорит, что 'лесенка узка и легка'. Ему приходится писать, что она, как минимум, дрожит. При этих простейших передержках мы ощуща-ем, что оказываемся в пределах словесной географии, при которой к мирозданию вещей добавляется вселенная дис-курса.
206
'У основания лесенки, между почвой и сооружением, можно было обнаружить весьма узкое отверстие, в которое следовало опустить ноги, улегшись на плиточном полу и держа в каждой руке по медовому пирогу.' Надо напом-нить, что пещера Трофония была обнаружена при следова-нии за пчелами, чье пристанище зачастую носит земной ха-рактер. В грезах ульи часто располагаются под землей.
После того, как исследователь погружается в отверстие по колени, тело его влечется туда 'с такой силой и стреми-тельностью, как это происходит с человеком в водоворотах, где образуются самые большие и стремительные реки'. Здесь мы хотим показать, насколько мощнее была бы ссылка на онирический опыт. Увлекаемый 'самыми большими и стре-мительными реками' - вот уж действительно редчайшее переживание, переживание едва ли переживаемое! Насколь-ко многозначительнее была бы ссылка на ночную жизнь, на несомость подземной рекой, той самой рекой ночи, кото-рую каждый из нас изведал во сне! Все великие грезовидцы, все поэты, все мисты знают эти подземные воды, уносящие все наше существо. 'Ночь, - говорит Анри Мишо, - в про-тивоположность тому, что я считал, сложнее дня и распо-лагается под знаком подземных рек'4. Эти-то подземные реки и находит Сновидец Кольридж в следующем опыте ночной поэзии, сформулированной в самих грезах:
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea.
(Где протекал Альф, священная река,
Сквозь пещеры, безмерные для человека,
Вниз к бессолнечному морю.)
Как только мы согласимся соотносить некоторые элементы реального с глубокими грезами, определенный психологи-ческий опыт обретет глубинную перспективу. В пещере Тро-фония мы переживаем грезу. Реальное должно способство-вать переживанию сновидения. А реальность здесь - абсо-
4 Michaux H. Au Pays de la Magie. Morceaux choisis, p. 373.
207
лютная ночь, полные сумерки. Спускаться в эту пещеру озна-чает быть увлекаемым черным потоком в темный лабиринт. Тот, кто рассказывает об этом приключении, должен сохра-нять тесную связь с психикой ночной и 'подземной'. Имен-но в грезах обыкновенно предстает динамическая категория тотального вовлечения. В этом отношении реальный опыт убог, редкостен и фрагментарен. А значит, испытание пещерой Трофония сможет найти проясняющие сравнения как раз с онирической стороны. Претерпевающий инициацию испол-нен грез, и пещера проглатывает его единым махом.
К тому же, голоса, которые слышались в пещере, весьма разнообразны. Здесь опять-таки кажется, что если мы хо-тим уразуметь это разнообразие, то, прежде всего, следует проанализировать онирическую подготовку консультируе-мого. 'Попадающий в глубь тайного грота' - говорит А. Баден, - узнавал о будущем не всегда одинаково; иногда он действительно видел то, чему суждено было свершить-ся, а иногда слышал суровый и ужасный голос, произно-сивший пророческие речи; впоследствии приходилось воз-вращаться через отверстие, служившее для входа, причем ноги испытуемый вытаскивал первыми.'
Итак, кажется, что подземные консультации получают в одиночестве. Подобно грезовидцу, вернувшемуся на свет, подобно грезовидцу, пробудившемуся ото сна, консульти-руемый просил жрецов истолковать смутные послания под-земных сил. 'Посетитель вновь поступал в распоряжение жрецов, и, посадив его на то, что называлось троном Мне-мозиныА, находившимся на небольшом расстоянии от тай-ного хода, они расспрашивали его об увиденном.' Могло бы быть иначе, если бы жрецам приходилось толковать сно-видение, великий черный сон земного воображения, при-ключение в онирическом лабиринте?
Из такого кошмара испытуемый зачастую выходил 'со-вершенно напуганным и неузнаваемым'. 'ПавзанийB до-
А Мнемозина - одна из девяти муз; олицетворение памяти; дочь Урана и Геи.
B Павзаний (II в. до н.э.) - греческий географ. Посетил всю Грецию, Италию и часть Востока. Оставил 'Описание Греции' в 10 томах; бесцен-ный источник сведений по Древней Греции.
208
бавляет следующие слова, - пишет Баден, - но успокаи-вают они лишь наполовину: "Между тем, некоторые по-зднее вновь обретали и разум, и даже способность смеять-ся".' Подобные испытания бывали столь устрашающими, что о том, кто казался суровым и озабоченным, говорили: 'Он возвращается из пещеры Трофония.' Чтобы запечат-леться столь глубоко, этому приключению необходима со-отнесенность с бессознательными приметами, связь с реаль-ными кошмарами, с кошмарами, обретающими архаичес-кую реальность психики.
Неспособность исследователя-позитивиста познать мес-то действия мифов мы поймем лучше, если последуем за Адольфом Баденом в его путешествии. Он говорит, что ря-дом с древней пещерой - часовня. Ее продолжают 'посе-щать несколько христиан, которые проскальзывают туда в корзине, привязанной к веревке шкива. Этот грот полон ниш, где можно располагать статуи и жертвоприношения; но мы не находим там больше ни отверстия, сквозь кото-рое, словно на санках, спускали паломников, ни потайной двери, в которую жрецы вносили орудия своих фантасма-горий.' Адольф Баден не подвергает сомнению этот упро-щенческий тезис о жрецах-фокусниках. Де Пуквиль, путе-шественник весьма мало открытый подлинному смыслу мифов, выносит столь же скороспелое суждение. У этого исследователя топография как будто вытесняет смысл пей-зажа и, в основном, приглушает все исторические обер-тоны.
Жертвами рационализации могут стать даже писатели, культивирующие чудесное. Например, Элифас Леви ('Histoire de la Magie') усматривает в культовых действиях в пещере Трофония следы гомеопатической психиатрии. По его мнению, в эту пещеру спускали людей, страдавших от галлюцинаций. Их якобы излечивали гораздо более мощ-ные галлюцинации, с которыми они сталкивались в 'без-дне': 'Припадочные не могли вспоминать об этом без со-дрогания и никогда не дерзали говорить о заклинаниях и призраках.' Вот так, в том самом стиле, в каком сегодня говорят об электрошоке, Элифас Леви трактует целебное воздействие шока от призраков, как будто мелкий страх,
209
страх неявный и пригвожденный к подсознанию можно исцелить страхом более отчетливым!
Возможно, воздействие этого целебного страха хотят приписать множеству посвящаемых в тайные культы. В дру-гом месте мы упоминали изложенную в 'Тоске по родине' теорию ШтиллингаА, в которой инициируемый подвергает-ся четырем типам посвящения, соотносящимся с четырьмя стихиями5. Тем не менее путь в этих столь несхожих ини-циациях всегда представляет собой лабиринт. Жорж Санд в романе 'Графиня Рудольштадтская' возвращается к лаби-ринту, где Консуэло обнаруживает мистерии замка. На сей раз речь явно идет о масонской инициации, и Жорж Санд пишет так: 'Та, что спустилась в одиночестве в водоем пла-ча... с легкостью сумеет пройти сквозь внутренности нашей пирамиды.' (Т. И, р. 194). Всякая инициация есть посвя-щение через одиночество. Нет большего одиночества, чем одиночество лабиринтной грезы.
Из-за позитивизма, ограничивающегося реальным опы-том (таков позитивизм де Пуквиля), или психологически наивного утилитаризма, как у Элифаса Леви, забывают о позитивизме бессознательных феноменов. Как тогда истол-ковать состояние испуга, в которое погружает нас пребыва-ние посреди скалистого пейзажа, полного расселин, с длин-ными и узкими подземными коридорами? Боязнь - это первичная ситуация, которую всегда надо уметь переводить на объективный и субъективный языки. Темница - это кошмар, а кошмар - темница. Лабиринт есть вытянутая темница, а коридор грез - скользящий и вытягивающийся грезовидец. Проскальзывающий в сумрачную трещину об-ретает впечатления грезы в жизни наяву. Когда он проде-лывает этот 'номер', онирическое сознание сближается и сме-шивается с трезвым. Это единство осуществляется во множе-стве мифов. А ведь столько здравых умов искажают их толко-вания, а также приглушают их онирические отзвуки.
А Юнг-Штиллинг, Иоганн Генрих (1740-1817) - нем. теософ; автор трудов, пронизанных оккультизмом и эсхатологией.
5 Прежде всего, герой 'Тоски по родине' влезает в тело крокодила. Впоследствии выясняется, что тело это - просто машина. Однако связь этой инициации с комплексом Ионы довольно очевидна.
210
IV
Мы лучше уразумеем воображаемый опыт лабиринта, если припомним один из принципов воображения (этот принцип, впрочем, относится к геометрической интуиции): у образов нет постоянных размеров; образы без труда могут плавать между большим и малым. Когда один из пациентов Дезуайля утверждает, что он поднимается внутри нитевид-ной трубы толщиной в волос, 'он испытывает потребность обсудить этот образ'; 'должен признать, что ощущаю я себя не слишком удобно, поскольку грудная клетка толщиной всего-навсего в волос не позволяет воздуху легко циркули-ровать. Значит от этого подъема я выдыхаюсь, - но разве в каждой работе нет своих мук? А теперь мой путь уже по-крылся цветами. Он предо мной - цветок - награда за все мои усилия. О! Он слегка колется и засох, это ежевичный цветок с шипами и без аромата, но все-таки это цветок, не правда ли?' (Le Rêve éveillé en Psychothérapie, p. 64). Силе воображения вредит здесь смешение интуитивной жизни с прокомментированной. Чтобы сделать повествование ра-ционализованным, достаточно одних слов грудная клетка. Грезы не могут встретиться с клеткой (пусть даже с груд-ной), не войдя в нее. Аналогично этому, конечное не прав-да ли предполагает чуждую самим грезам потребность в одоб-рении. Субъект хочет показать, что действует в согласии с фантазированием. Но как только фантазирование хочет оправдаться, оно утрачивает свой порыв. И мы полагаем, что метод грез наяву должен отбросить объяснения, зачас-тую ломающие линии образов. Здесь живительный сок ла-биринта переживается как капля, превращающаяся в цве-ток, а грезовидец ощущает, как цветок вытягивается в уз-ких каналах. Это достаточно распространенная греза воп-реки абсурдности фигурирующих в ней размеров. Лабиринт, из которого мы выходим, весьма часто ощущая расшире-ние, покрывается цветами. В своей книге 'Конец страха' Дени Сора представил несколько лабиринтных грез. Он справедли-во замечает, что из ущелья мы выходим с большим трудом; он говорит, что мы то и дело вытягиваем себя оттуда, но часто ощущаем желание начать все сначала (р. 99).
211
V
Впрочем, целью этих нескольких страниц было всего лишь привлечь внимание к необходимости восстановить онирическую атмосферу, чтобы судить об исключитель-ных впечатлениях, переживаемых в причудливом иссле-довании реального. Теперь же мы должны вернуться к основному замыслу и продемонстрировать, как литера-турное воображение приступает к возбуждению лабирин-тных грез.
Мы покажем два литературных лабиринта, лабиринт жесткий, взятый из творчества Гюйсманса, и лабиринт мягкий, типичный для творчества Жерара де Нерваля. Каж-дая индивидуальная психика добавляет к фундаментально-му образу собственные характеристики. И этот-то личный вклад наделяет архетипы жизнью; всякий грезовидец поме-щает стародавние грезы в некую личную ситуацию. Тем самым, следовательно, хорошо объясняется то, что конк-ретным онирическим символам в психоанализе невозмож-но придать единственный смысл (см. Teillard A. Traumsymbolik, S. 39). Стало быть, существует определен-ный интерес в том, чтобы диалектизировать символы. Диа-лектизации символов весьма благоприятствует великая ди-алектика материального воображения: жесткость и мяг-кость. Похоже, два крайних образа, которые мы собираем-ся анализировать, охватывают все символические ценности лабиринта.
Прежде всего рассмотрим жесткий лабиринт с окамене-лыми стенами, хорошо согласующийся с общей материаль-ной поэтикой Гюйсманса. Этот жесткий лабиринт есть ла-биринт ранящий. Он отличается от лабиринта мягкого, в котором задыхаются. 'Он решил протиснуться по тропкам ГемусаА (напомним, что Гемус - это гора на исследуемой грезовидцем Луне), но на каждом шагу натыкался на Луи-зу, бредя меж двух стен из окаменелых губок и белого кок-са по бородавчатой почве, вздувавшейся затвердевшими пузырями хлора. Затем они очутились перед своего рода
А Гемус - по-гречески 'кровавый'.
212
туннелем, им пришлось перестать идти под руку, и они пошли друг за другом по этой кишке, напоминающей хру-стальную трубу...'7 В этом тексте изобилуют синтетические противоречивые образы - от белого кокса до хрустальной кишки. Достаточно сделать образы короче и сказать 'хрус-тальная кишка' вместо 'кишки, напоминающей хрусталь-ную трубу', опустив грамматические функции сравнения, чтобы, по существу, показать, что образы объединяют мир грез (кишка) с миром жизни наяву (хрусталь). Заметим, к тому же, что в лабиринте грезовидец отпускает руку подру-ги и предается одиночеству заблудившегося существа.
Но после мук наступает радость, и, возможно, небезын-тересно отметить, что узкое ущелье со столь несоразмер-ными человеку стенами впадает 'в Море Спокойствия, чьи контуры имитируют белый образ живота с запечатленным на нем пупком Янсена (другая лунная гора), живота, похо-жего на девический благодаря большому 'V' залива, напо-минавшего расставленные ноги хромоножки: море Плодо-родия и море Нектара' (р. 107). Можно задаться вопросом: сможет ли автор, пишущий после Фрейда, столь наивно пред-ложить себя для психоаналитического исследования? Для автора, пишущего после Фрейда и сколько-нибудь разбира-ющегося в психоанализе, такие образы соответствовали бы показному освобождению от подавленных стремлений (défoulement)A. И действительно, если автор стремится скрыть некоторые из своих фантазмов, ему необходим как бы другой разрез вытеснения. В сущности, диалектика по-казного и сокрытого, к которой сводится искусство пись-ма, благодаря свету психоанализа меняет центр и становит-ся острее, сложнее, замысловатее.
В любом случае, читая страницы, подобные этой гюйс-мансовской, мы хорошо отдаем себе отчет в необходимос-ти обогатить литературную критику внесением в нее они-рической шкалы оценок. Видеть в картине, подобной толь-ко что взятой из Гюйсманса, всего лишь поиски редкост-
7 Ниуsmarts J.-C. En Rade.
А Здесь неологизм, составленный по образцу фрейдистского термина refoulement (вытеснение).
213
ных и живописных выражений означает недопонимать глу-бинные психологические функции литературы. Столь же недостаточно воскрешать хорошо известную тенденцию, когда в географических очертаниях усматривают профили людей. Без сомнения, для некоторых любящих погрезить школьников контурные карты сродни граффити. Но писа-ные грезы требуют большей настойчивости, они взывают к более значительной глубинной сопричастности. Словами не только рисуют, но и создают скульптуры, и мы ощущаем, что на приведенных страницах из Гюйсманса говорится, в первую очередь, о твердости ущелья, форма которого со-храняется лишь за счет 'сексуальной географии'.
Как только мы признаем, что лабиринт, ущелье и узкий коридор соответствуют распространеннейшим типам они-рического опыта, более всего нагруженным смыслом, мы поймем, что особые виды психики проникнутся непосред-ственным интересом к повествованию Гюйсманса. Приве-денная страница Гюйсманса иллюстрирует простейший пер-вотекст, снабженный довольно редкой разновидностью вариантов, окаменелой губкой. Окаменелая губка, губка ка-менная часто встречается в прозе и стихах Виктора Гюго7. Ощущаемая как стена угловатого и ранящего лабиринта, каменная губка соответствует особому виду зловредности, вероломной материи. Губке полагается быть мягкой и плас-тичной, ей следует сохранять свой характер неагрессивной материи. Но внезапно она наделяется всевозможной враж-дебностью, свойственной остекленению. Она вносит вклад в материальный пессимизм Гюйсманса. Подобно малопи-тательному мясу, подобно отравляющему вину8, губка яв-ляется предательницей. Неожиданная жесткость - это впи-санная в материю злая воля. Неожиданный материальный образ всегда агрессивен, и разве это не доказательство того, что материальные образы обычно бывают наделены исклю-чительной искренностью?
7 В диком ущелье Пьер Лота (Vers Ispahan, p. 47) замечает 'странные дырчатые утесы', похожие на 'колоссальные черные губки'.
8 Мы составили карту плохих вин в творчестве Гюйсманса и узнали, что разве только благородному вину из департамента Об (Les Riceys) удалось избежать литературных изъянов.
214
В сновидении из 'Аурелии' мы найдем описание лаби-ринта более мягкого, вырывающегося из абсолютного мра-ка и вырисовывающегося в полутьме нежных оттенков: 'Казалось, я падаю в бездну, проходящую сквозь земной шар. Я ощущал, что не причиняя мне боли, меня уносит поток расплавленного металла, - и тысячи схожих с ним рек, чьи цвета свидетельствовали о химических различиях, бороздили лоно земли, словно сосуды и вены, извивающи-еся между мозговыми полушариями. Так все текло, кружи-лось и вибрировало, и у меня возникло ощущение, будто потоки эти состоят из живых душ в молекулярном состоя-нии, и разглядеть их мне мешает лишь стремительность этого путешествия. Беловатый свет постепенно просочился в эти потоки, и, наконец, я увидел, как подобно громадному ку-полу расширился новый горизонт, где показались острова, омываемые светозарным морем. Я пребывал на освещен-ной стороне этого бессолнечного дня'9. Сразу же отметим различие между кристаллической химией Гюйсманса и те-кучей химией Жерара де Нерваля. Окрашенная вена соотно-сится с ползучей динамикой, осознающей собственную лег-кость. То, что в ней течет, создает как бы стенки канала. По размерам канал всегда точно соответствует обращаю-щейся в нем материи. В этом всегда заполненном лабирин-те нет боли, тогда как пустой лабиринт непрестанно ранит гюйсмансовского грезовидца.
Лабиринт Гюйсманса и лабиринт Жерара де Нерваля можно противопоставить и с другой точки зрения. Гюйс-манс входит в кошмар, а Жерар де Нерваль из кошмара выходит. Благодаря Жерару де Нервалю мы переживаем 'зарю мозговых ощущений', которая вот-вот положит ко-нец онирической жизни; лабиринт расширяется. Возника-ет свет, готовящий возвращение к жизни.
К тому же, весьма поразительно, что в последних стро-ках 'Аурелии' происходит откровенное сопоставление ла-биринтной грезы с описанием сошествия во ад. Это сопос-тавление, ставшее знакомым психоаналитикам благодаря
9 Nerval G. de. Aurélia, Éd. Corti, IV, p. 19.
215
новым познаниям онирической психологии, прекрасно до-казывает, что 'сошествие во ад' является событием психо-логическим, психической реальностью, как правило, привя-зываемой к бессознательному. Под высоким домом психи-ки у нас есть лабиринт, ведущий в наш ад: 'И все-таки, - говорит Жерар де Нерваль, закрывая свою превосходную книгу, - я чувствую себя счастливым из-за приобретенных мною убеждений, и я сравнил бы эту череду испытаний, что я преодолел, с тем, что для древних представляла собой идея сошествия во ад.'
VI
Между жестким лабиринтом Гюйсманса и совершенно податливым лабиринтом Нерваля мы без труда найдем мно-жество промежуточных. Мишель Лейрис, к примеру, изоб-ражает многочисленные лабиринты из плоти и камня, про-изводя на нас любопытное впечатление затвердевающего ущелья. Так, в 'Стороне света' грезящий плывет по охлаж-дающейся воде (р. 61). И вот, он 'натыкается' 'на необыч-ные течения'. Он 'сталкивается' с рыбами 'с острыми плав-никами', 'ракообразные раздирают его броней'. Значит, вода, изначально счастливая в своей теплоте, постепенно вбирает в себя некую враждебность, а в затвердевший ла-биринт грезовидец входит так: 'Впоследствии воды еще более остыли. Казалось, мне приходилось преодолевать го-раздо большее сопротивление, вытесняя стихию, становив-шуюся все более вязкой; и плыл я не в реке, а в земле, меж ее стратифицированных пластов. То, что я принимал за пену, было всего лишь губчатыми кристаллами, а давившие на меня водоросли оказались ископаемыми отпечатками па-поротника в залежах каменного угля. Чтобы освободить мне путь, рукам моим приходилось раздвигать несметные и плот-ные минералы; я скользил среди золотоносных песков и ноги мои покрылись глиной. Тело мое хранило оттиснутые на нем всевозможные формы камней и растений до мель-чайших отпечатков их прожилок. Я все забыл...'
Наваждение продолжает застывать, пока грезовидец не попадает в эпоху камней. 'Медлительность или быстрота
216
больше не имели для меня значения'; 'за каждым моим движением (brassées), должно быть, протекали годы'. Ла-биринт из камней вызывает окаменение лабиринта. Вне-шние очертания лабиринта не только запечатлеваются на нем, но еще и приносят с собой законы собственной мате-рии. Мы еще раз видим материалистическое воздействие образов, синтетическое действие воображения. Всем гла-вам, которые мы посчитали себя обязанными выделить в нашем исследовании материального воображения, по окон-чании их разработки предстоит объединиться. Вместе с Лей-рисом мы вошли в лабиринт, вызывающий окаменение. Мы живем в непосредственной близости от диалектики 'вызы-вающий окаменение-окаменелый'.
'Доски материи сжались надо мной еще сильнее, угро-жая превратить мой рот в подвальное okho...'9bis.
VII
По существу, каждый писатель наделяет великие образы индивидуальностью. В безумстве 'Аурелии' остается опре-деленный свет, в нервалевских бедствиях - благодарность за счастье отрочества, за блаженство сугубой невинности. Такой грезовидец, как Пьер Лоти, прибавит к лабиринту другие оттенки. В склепе египетского храма он пробегает 'по темным коридорам, напоминающим те, что в дурных снах могут сжиматься, погребая вас' (La Mort de Philae, p. 203). Мимоходом отметим это соотнесение реальности с грезой, что неопровержимо доказывает, что Лоти дает ощу-тить исключительные впечатления через типичные снови-дения. И действительно, стены узкого прохода, по всей види-
9bis Рильке также, отправляясь от образа, похожего на нервалевский, преобразует его в лабиринт, вызывающий окаменение:
Авось по жилам гор тяжелых в скалы
пойду один рыдающей рудой
в такой глуби, что далей не видала,
что нет конца мне: все мне близким стало,
а близкое - гранит седой.А
А Рильке P.M. Часослов. СПб., 1998, с. 141. Пер. С. Петрова. У Башляра - в переводе Шюзвилля.
217
мости, пробуждают у рассказчика пласт грез, уже не со-ответствующих его боязни быть погребенным. Вот они изваяны, говорит Лоти, 'бесчисленные персонажи... ты-сячи изображений прекрасной богини, выпячивающей свои груди, к которым полагалось прикасаться при про-ходе и которые сохранили едва ли не в неизменности цвета плоти, нанесенные во времена Птолемеев'. Не сим-птоматично ли, что на одной странице боязнь прикос-нуться к груди можно объединить с боязнью быть по-гребенным!10
Прочие темпераменты реагируют на такие ситуации буй-ством и гневом, вызывая нечто вроде взрыва лабиринта. С этим-то впечатлением лабиринта, одновременно и же-сткого, и взрывающегося, мы читаем вот эти стихи Люка Декона:
Environné de la nuit souterraine,
Conduit par les animaux du roc,
J'arrache ma poitrine au feu infernale des étoiles,
Je fraie mon chemin à force d'orgueil,
Et dans les coups précipités de mes organes
Le voisinage entier sonne comme une cloche,
Le paysage vole avec l'air de mon sang.
(Окруженный подземной ночью,
Ведомый животными, высеченными из скальных пород,
Я вырываю свою грудь из адского огня звезд,
Я прокладываю себе путь посредством гордыни,
И в учащенном биении моих органов
Вся округа звенит, будто колокол,
Вместе с воздухом моей крови улетает пейзаж.)
(A l'Œil nu, p. 7)
Похоже, что 'ведомый животными, высеченными из скальных пород', поэт несет взрывчатку вглубь подкопа, - что он больше не чувствует ран жесткого подземного мира. И вот лабиринт взрывается.
10 Тристан Тцара также знает 'дороги, окаймленные грудями', хотя, в отличие от Лота, не страдает от этого (L'Antitête, p. 120).
218
Другой поэт с помощью нагромождения слов и синтак-сиса, как бы согнувшегося в три погибели, сумел как бы вписать лабиринт в сам стих, до такой степени, что чув-ствительный читатель ощутит ущемленную любовь, стра-дающую в арканах сердца, при чтении следующих строк ЖуваА:
Prends place aux arcanes, canaux et labyrinthe, Piliers, ramifications et branches de ce coeur.
(Располагайся в арканах, каналах и лабиринте, В столпах, разветвлениях и ветвях этого сердца.)
(Р. 45)
В другом стихотворении Пьер Жан Жув как будто осу-ществляет синтез душераздирающего и удушающего:
Le chemin de rocs est semé de cris sombres, Archanges gardant le poids des défilés.
(Скалистый путь усеян мрачными криками, Когда архангелы хранят тяжесть ущелий.)
(Sueur de Sang, p. 141.)
Порою литературное творчество бывает как бы раздав-ленным воспоминаниями о прочитанном. Жорж Санд, не-сомненно, читала повести Анны РадклиффB о подземельях. Она старается показать, что им не подражает, однако це-лые главы из 'Консуэло' обрекают читателя на долгое блуж-дание по внутренностям гор и 'каменным мешкам' замков (см. Т. I, р. 345; t. II, pp. 14-15). Жорж Санд, впрочем, с изяществом изображает эндосмос прочитанного и грез: 'Перечитайте, - пишет она в одной заметке, - стихотво-
А Жув, Пьер Жан (1889-1976) - франц. поэт; романист, музыковед, переводчик Гёльдерлина и Шекспира. Начинал как певец научно-техни-ческого прогресса, близкий к 'унанимистам'. В 1924 г. пережил духовный переворот, после которого пришел к католическому мистицизму и к ана-лизу фрейдистской тяги к смерти. Цитируется сборник 'Кровавый пот' (1933-1935).
B Радклифф, Анна Уорд (1764-1823) - англ. писательница; представи-тельница готического романа.
219
рение под названием "Индийские колодцы", ибо это ше-девр, или оргия воображения, в зависимости от того, есть ли у вас способности сочувствовать способностям поэта, или же таковых нет. Что до меня, то я признаю, что чтение его меня ужасно шокировало. Я не могу одобрить эту бес-порядочность и эти неряшливые описания. Когда я закры-ла книгу, перед моим мысленным взором представали одни лишь эти колодцы, эти подземелья, лестницы и бездны, через которые поэт меня провел. Я видела их во сне, я ви-дела их наяву. Я не могла оттуда выйти, меня заживо похо-ронили. Я была порабощена, и мне не хотелось прочиты-вать это место из боязни обнаружить, что столь великий живописец, будучи столь великим поэтом, оказался писа-телем не без изъянов' (Т. HI, p. 265). Такая чувствитель-ность к определенному строю образов в достаточной степе-ни доказывает, что образы эти не просто объективного про-исхождения. Эти образы оставляют глубокие следы, они и есть следы.
VIII
Иногда ловкость рассказчика такова, что он в состоя-нии записать на счет реальности то, что фактически в лите-ратурном произведении принадлежит ониризму. Новелла Мериме 'Джумана' служит хорошим примером этой лите-ратурной ловкости11. Вот краткое содержание новеллы.
На первых страницах все объединено, чтобы передать впечатление пережитого приключения, исторического по-вествования, сгущенного завоевания Алжира. Бравый пол-ковник представляет собой здесь 'уменьшительное' к ге-нералу БюжоА. После ужина в офицерской столовой, укра-шенного выступлением заклинательницы змей, герой при-ступает к смелой вылазке. Попав в горы, он сразу же го-
11 Mérimée P. Dernières Nouvelles, p. 225 suiv.
A Бюжо, Тома Робер (1784-1849) - маршал Франции (маркиз де ла Пиконнери, герцог д'Или). Начал службу в 1804 г. Прославился в 30-е годы подавлением выступлений алжирцев и марокканцев. С 1840 г. - генерал-губернатор Алжира.
220
нится за неким арабским вождем в длинном развевающем-ся бурнусе. Он пронзает его саблей. Но оба падают в глубо-кую ложбину.
Падение французского полковника смягчает спящая вода. Затем 'толстый корень' дает ему возможность сопротив-ляться течению. Но вот этот корень начал 'извиваться'. Это 'огромная змея', и она устремляется в реку, оставляя за собой фосфоресцирующий след.
Но у входа в пещеру, в бездну которой течет вода из ложбины, стоит женщина с факелом в руках. Начинается длинное повествование, где описывается 'бесконечный ла-биринт', а потом - колодец, 'вода в котором находилась, по меньшей мере, в метре от края. Ах, я сказал "вода"? Неведомо какая мерзкая жидкость была покрыта радужной пленкой, рваной и местами клочковатой, а сквозь нее вид-нелась черная отвратительная грязь.' 'Внезапно из колод-ца вынырнул пузырь синеватой тины, и из этой грязи вы-лезла громадная голова змеи мертвенно-серого цвета, с фос-форесцирующими глазами...'
Эти картины подземного мира служат рамкой для чело-веческого жертвоприношения: юная заклинательница змей, которую видели во время ужина полковника, низвергается в тинистый колодец, чтобы ее пожрала змея.
Это преступление заслуживает мести. Тотчас по выходе из пещеры полковник обещает истребить секту некроман-тов. В продолжение нескольких страниц он ощупью бредет во мраке среди скал, взбираясь по черным ступеням. Он завершает путь в комнате, где живет женщина неописуе-мой красоты.
В 'этом подземном будуаре' офицер и просыпается, а мы так и не узнаём, с какого места повествование пре-вратилось в сновидение, в лабиринтную грезу с собствен-ной диалектикой страха и наслаждения. Читатель тоже внезапно проснулся. И только на последней странице ему открывается, что он следовал за грезящим. Рассказ построен достаточно умело, и переход от реальности к грезе неощутим; онирические аспекты замаскированы словами, выходящими за пределы реальности лишь слегка.
221
Когда мы прочтем последние строки, упомянутые они-рические аспекты предстанут с некоторого рода психоло-гической повторяемостью. Но окажется ли этот отлив дос-таточным? Может быть, надо посоветовать вторичное про-чтение, прочтение, которое придаст больше ценности об-разам, нежели повествованию, и наделит всевозможными смыслами литературный акт? Точнее говоря, стоит восста-новить онирические ценности, как мы уясним, что в рас-сказе гораздо больше психической непрерывности, чем в его умело выстроенном поверхностном сюжете. И тогда мы убе-димся, что как следует прояснить новеллу Мериме можно лишь методами двойного комментария, предлагаемого нам для литературной критики: комментария идеологического в сочетании с онирическим. Если мы постараемся онири-чески познать столь своеобычные черты лабиринтной гре-зы, мы вскоре овладеем неким типом литературного истол-кования для весьма несхожих произведений; мы даже при-знаем, что некоторые описания, притязающие на реалис-тичность, развертываются благодаря онирическим интере-сам лабиринтной грезы. Основополагающие грезы упрос-тятся, как только мы лишим их некоторых второстепенных идеологических обстоятельств. Лабиринтной грезе всегда присуще динамическое единство. Корень, превратившийся в змею, движение большой змеи, фосфоресцирующая вода должны были дать нам понять, что мы вошли в сферу грез12. Однако же, даже по сю сторону чересчур ясной приметы нас мог встревожить белый бурнус посреди черной ночи. Итак, психологическая повторяемость приводит нас к само-му порогу повествования. А следовательно, эту новеллу Мериме можно назвать моделью рекуррентной психологии. Она дает нам весьма отчетливый пример спада психологи-ческого интереса, и этот спад интереса классическая лите-ратурная критика слишком дискурсивная, слишком уж свя-
12 Как мы неоднократно отмечали, всем значительным образам под-земных существ свойствен взаимно обратимый характер. Напомним, что во многих повествованиях античности Трофоний сам - змей. Этим-то и объясняется, что спрашивать совета у него идут с медовым пирогом в надежде умилостивить его (см. Rohde Е. Psyché. Trad., p. 100).
222
занная с компактной и реальной длительностью, вряд ли может оценить. Чтобы понять, о чем идет речь, надо ожи-вить финальные образы, отыскивая в начале повествова-ния целесообразность начальных образов. В книге о грезах воли, исследуя сказку Гофмана 'Фалунские рудники', мы показали, что в повторяемости образов есть неувязки, что финальные материальные образы недостаточно четко отра-жают собственную заинтересованность в канве рассказа. Литературное искусство зачастую сводится к слиянию от-даленных образов. Оно должно овладеть рекуррентным вре-менем в той же степени, что и текучей длительностью.
Порою синтез бывает всего-навсего подстановкой. В одном и том же рассказе, к примеру, образы лабиринта можно подставлять под образы Ионы. Так, Франсис Бар приводит германскую легенду, описывающую нисхождение в преисподнюю. Это нисхождение проходит по настояще-му лабиринту, и вот, в какой-то момент герой достигает 'реки, единственный мост через которую охраняет дракон'13. Итак, мы подошли к стражу порога, к персонажу, чью роль мы указали в последней главе предыдущего труда. Но вот и новое событие: герой, этот отважный Иона, влезает в глот-ку чудовища, а за ним следуют его товарищи, 'которые це-лыми и невредимыми очутились на равнине, где текут ме-довые реки'. А значит, каменный лабиринт сменяется ла-биринтом плоти. Страж порога, раскрыв челюсти, открыл путь, на который он не должен был пускать. В таком пове-ствовании смешиваются жанры. Оно почти не содержит великих онирических ценностей.
Поскольку по любому поводу нам приходится напоминать об изоморфизме образов глубины, следует выделить образы Ионы, усложняющиеся вплоть до смешения с образами лаби-ринта. Поразительное сочетание образов мы найдем в одной гравюре Уильяма Блейка (воспроизведена на р. 17 превосход-ного альбома галереи Друэна)А. На ней изображены 'Возлюб-ленные в вихре' ('Ад', песнь V). Этот вихрь представлен в образе громадного змея, внутрь которого проклятых любов-
13 Bar F. Les Routes de l'autre Monde, p. 70.
A Друэн, Флориан (1540-1612) - франц. скульптор и архитектор, ра-ботавший в Нанси у герцога Карла III Лотарингского.
223
ников влечет адское пищеварение. Если поискать информа-цию в мифах, образы этого пищеварительного ада, этого орга-нического ада можно будет нагромождать без труда14.
IX
Большинство только что исследованных нами 'ущелий' все-таки наделяют очертания определенным первенством, так что грезовидец видит в них стены и двери. Но можно встретиться и с более глубокими впечатлениями, когда гре-зящий становится прямо-таки прокатываемой материей, материей истончаемой. В некоторых грезах можно поисти-не говорить о динамическом лабиринте. И тогда попадаю-щий в него подвергается болезненному растягиванию. По-хоже, именно затрудненное движение создает тесную тем-ницу, устраивающую пытку вытягиванием. В таких грезах об активном лабиринте мы встречаем синонимию скручи-вания (torsion) и пытки (torture). Эту синонимию можно почувствовать на превосходной странице из романа Белого 'Котик Летаев'. 'Первое ты-еси охватывает меня безобраз-ными бредами... невыразимости, небывалости лежания со-знания в теле ...какое-то набухание в ниоткуда и ничто...'А Этот нарост грезовидец ощущает изнутри, как волю к вы-тягиванию щупальцеобразного существа: 'Состояние натя-жения ощущений; будто все-все-все искрилось: расширя-лось, душило; и начало носиться в небе крылорогими туча-ми'B. Существо зовет на помощь, желая вытянуться:
- Перетягиваюсь...
- ...Помогите... Центр вспыхивал:
- Я - один в необъятном.
- Ничего внутри: все - вовне...
И опять угас. Сознание, расширяясь, бежало обратно.
- Так нельзя, так нельзя: Помогите...
- Я ширюсь...C
14 Репродукцию 'Возлюбленных в вихре' можно найти в 60-м номере журнала 'Fontaine'.
А Белый А. Сочинения. М., 1990. Т. 2, с. 296. Башляр цитирует издание: Slonim M., Rearey G. Anthologie de la Littérature soviétique, 1918-1934, p. 50.
B Там же, с. 296.
C Там же, с. 297.
224
Растяжение (extension), представляющее собой наме-ренное страдание, страдание, желающее продолжаться. Порыв, застывая, создает препятствие, корку, стенку: 'Образовывались мне накипи: закипела в образах моя жизнь; и возникали на накипях накипи мне: предметы и мысли...
Мир и мысль - только накипи: грозных космических образов'А. Можно ли лучше сказать о том, что образы рождаются на уровне кожи, что мир и мысль друг друга угнетают?
Итак, для Белого пространство бытия, застигнутого в пер-возданности, представляет собой коридор, где скользит жизнь, жизнь всегда возрастающая, исчерпывающая. И - с замечательной онирической верностью - Белый, возвра-щаясь к отчетливым впечатлениям, пишет: 'Мне впослед-ствии наш коридор представляется воспоминанием о вре-мени, когда он был мне кожей; передвигался со мною он; повернись назад - он сжимается сзади дырой; впереди от-крывается просветом; переходики, коридоры и переулки мне впоследствии ведомы; слишком ведомы даже; а вот - "я"; а вот - "я..."B
По существу, узость является своего рода первичным впечатлением. Копаясь в своих воспоминаниях, мы обна-ружим очень дальнюю страну, где пространство было всего лишь путем. Только пространство-путь, пространство-путь-затрудненность вызывает грандиозные динамические гре-зы, которые мы переживаем с закрытыми глазами, в тех глубочайших сновидениях, где мы обретаем великую со-кровенность нашей незрячей жизни.
Если бы мы согласились уделить внимание этим перво-грезам, грезам, утраченным для нас именно вследствие их первозданности, вследствие их глубины, мы лучше уразу-мели бы странный аромат некоторых видов реального опы-та. Воля к прокладыванию пути в мире, полном препятствий, естественно, принадлежит жизни наяву. Впрочем, разве было
А Белый А. Сочинения. Т. 2, с. 298.
B Там же, с. 302.
225
бы у нас столько энергии, если бы грезы о могуществе не облагораживали фактическую задачу? Перечитайте главу 'Ползком' (En rampant) из книги Норбера Кастере 'Мои пещеры' (Mes Cavernes)! Отметив низость, обыкновенно приписываемую ползучему врагу, сопоставляемому 'с жи-вотным по жестокости, хитрости или трусости', этот иссле-дователь пещер пишет: 'Но есть и другой способ внедриться в землю и другие основания для ползания. Подвергаясь рис-ку насаждения парадокса или взлелеивания преувеличенной страсти в отношении подземных миров, мы хотели бы про-изнести похвальное слово, апологию пресмыкательству, и даже отметить его возвышенную полезность, изысканность и радости.' (р. 85). И он описывает напряженность жизни, протекающей вдоль 'кишок, узких проходов, кошачьих ла-зов, суфлерских будок, диаклазА, пластов, узкостей (étroitures), блюминговB (laminoirs)...' (p. 86). Мы прекрас-но ощущаем, что каждый из этих терминов связан с опре-деленным воспоминанием о затрудненном ползании, с оп-ределенным динамически переживаемым лабиринтом. Тем самым воля к прокладыванию себе пути прямо находит соб-ственные образы, и мы понимаем, почему Норбер Кастере избрал девизом своих путешествий вот эту прекрасную мак-симу ГудзонаC: 'Where is a will, there is a way'. Где воля, там и путь.
Воля играет и страдает, она приносит нам труды и муки, грезы героизма и испугов. Но сколь бы разнообразной она ни была в собственных импульсах и подвигах, мы видим, что она одушевляется подле поразительно простых и жи-вых образов.
Однако системы образов, вдохновляющихся формами и соотносящих между собой фактические переживания, не дают нам представления обо всем могуществе глубинных
А Диаклаза - трещина в скале или формации.
B Блюминг - спелеологический термин, означающий сужение галереи, когда ширина ее становится больше, чем высота.
C Гудзон, Генри (середина XVI в.-1611) - англ. мореплаватель. Был послан на поиски нового морского пути в Китай. Однако исследовать ему удалось Северную Америку, Гренландию и Шпицберген.
226
грез. О ценностях подземных грез может поведать нам только великий грезовидец. У читателя, который прочтет длинную новеллу Франца Кафки 'Нора' достаточно медленно, бу-дет масса удобных случаев для обретения лабиринтных впе-чатлений. Он уловит их с той любопытной амбивалентнос-тью безопасности и страха, многосторонность которой су-мел показать гениальный рассказчик. Тот, кто делает под-коп, боится контрподкопа. Существо из норы - какой-то барсук, сделавшийся человеком - слышит дальние отго-лоски земляных работ. Под землей все шумы враждебны. И противоречивость запершегося возвращается вновь и вновь: он защищен, но он пленник. А какой дозой хитрости и страха сумел зарядить Кафка некоторые страницы: 'Итак, муку лабиринта мне приходится преодолевать и меня одно-временно и сердит и трогает, что я иногда запутываюсь в собственном сооружении'*. Динамические радости ощущает тот, кто проскальзывает в нору. 'И разве не в этом кроется смысл тех блаженных часов, которые я, отдаваясь одновре-менно и мирной дремоте и веселому бодрствованию, про-вожу обычно в ходах моего жилья, в ходах, предназначен-ных именно для меня, ибо я в них блаженно потягиваюсь, ребячливо перекатываюсь с боку на бок, лежу в мечтатель-ной неподвижности или спокойно засыпаю'B. Не кажется ли, что лабиринт здесь выступает в роли осознания гибко-сти, проводника или раковины, научающих героя вращать-ся вокруг самого себя, переживать радости сворачивания?15 На других страницах за отчетливыми выражениями (см. р. 161) мы можем различить некую животную плотность, некую биологическую густоту, как если бы автора бессоз-
А Кафка Ф. Собр. соч. В 3 т. Т 2. М.-Харьков, 1995, с. 93. Пер. В. Стане-вич.
B Там же, с. 99.
15 Представляется также, что в анимализованном лабиринте имеется несколько полых шариков, где можно собраться с духом, насладиться соб-ственным теплом, собственным запахом. В этом случае такой запах подо-бен тонкой обволакивающей материи, эманации сновидения о нас самих. Это могущество норы отметил Поль Клодель: '... подобно тому, как бар-сук или хорек вдыхает полными легкими в глубине своей норы все, что мо-жет быть там наиболее барсуковым или хорьковым' (Labyrinthe, no. 22, р. 5).
227
нательно вели его фантомы. По существу, кажется, будто лабиринт загроможден провизией, питательными шарика-ми, которые нужно 'проталкивать', продолжая есть и пить: '...но я до такой степени зажат этим обилием мяса здесь, в узких ходах, через которые мне, даже когда я ничего не тащу, бывает трудно продвигаться, что я мог бы просто за-дохнуться среди собственных запасов: иногда я спасаюсь от их напора только тем, что начинаю есть и пить. Но вот транспортировка удалась, я довольно быстро заканчиваю ее, проталкиваю добычу через боковой переход в особо пред-назначенный для таких случаев главный ход... Наконец-то мне можно будет отдохнуть'А. Яркий пример синтетичес-кого воображения, которое следует переживать в двух реги-страх. Несомненно, лабиринт можно переводить на ясный язык и всегда видеть в нем усложненный путь. Но это оз-начает принести в жертву динамическую жизнь образа, за-быть о показе замешательства. Греза Кафки сокровеннее. В коридорах зверя поднимается и опускается своего рода ис-терический комок, заставляя Кафку несколько раз повто-рить, что стенки у лабиринта тонкие. Это все равно что сказать, что они расширяются и скользят подобно слизис-той оболочке. Вот так нечто проглоченное, поглощенное завершает образ лабиринтного движения. Поразительней-шее выражение Германа фон КайзерлингаB примыкает к тому же образу: с его точки зрения, червь ест землю, чтобы проложить себе путь. 'Первозданный Голод проявляется чуть ли не в чистом виде, прогрызая себе путь, как червь в зем-ле' (Méditations sud-américaines. Trad., p. 164). В другом ме-сте писатель говорит о 'продвижении, напоминающем путь червя, прогрызающего себе путь сквозь землю' (p. 36)16. Если
А Кафка Ф. Собр. соч. Т. 2, с. 101.
B Кайзерлинг, Герман фон (1880-1946) - нем. философ. Естествоис-пытатель, ставший философом под влиянием Зиммеля и Бергсона. Между Двумя мировыми войнами основал 'Школу мудрости' в Дармштадте. Бо-ролся с национализмом и узким рационализмом западного человека, от-рывающего его от корней.
16 Об улитках, поедающих землю, Франсис Понж пишет: 'Она пронза-ет их. Они пронзают ее' (Le Parti Pris des Choses, p. 29).
228
мы чуть-чуть поразмыслим над этим образом, мы увидим, что он соответствует своего рода удвоенному лабиринту. 'Пожранная' земля прокладывает путь внутри червя, и в то же время червь прокладывает путь в земле. Мы лишний раз замечаем, что очертания усложненного пути дают лишь схе-му грез, в которых объединяется целый мир сокровенных впечатлений. Реальные формы, слишком уж отчетливые ре-алии не могут навевать грезы автоматически. В романе 'От лисицы к Марго' Луи Перго также описывает работу жи-вотного в норе, находя при этом весьма простые и много-значительные выражения (р. 15). Ведь в норе находится лиса, животное, хорошо известное охотникам и браконьерам. Это коварное животное. Его слишком развитая личность зас-тавляет его забыть смысл грез. И потом, у рассказчика своя задача, и он хочет привязать бубенчик к шее дикого жи-вотного. Рассказ становится чересчур человеческим. Он не дает нам пережить колышущихся метаморфоз кафки-анской грезы.
Другая сказка Перго обладает большей онирической цен-ностью. 'Подземное изнасилование' (р. 77) может служить примером несложного сгущения лабиринтных и сексуаль-ных грез. В подземных коридорах самка крота убегает от самца, и весь лабиринт превращается в сексуальное пресле-дование - а это новое доказательство того, что в ониричес-ком стиле вещи становятся действиями, а обрисовываю-щие имена - активными глаголами17.
Впрочем, под всеми этими формами, чересчур замаски-рованными и весьма отчетливыми образами животных, мы, надо полагать, найдем человеческие впечатления. Луи Пер-го справедливо верит в то, что ему удастся заинтересовать большое количество читателей. Если каждый читатель по-
17 В мифологических грезах Анри де Ренье приводит любопытную ин-версию лабиринта сексуальных поисков. Ему грезится, что лабиринт об-разуется в плоскости колебаний желания. Если бы мы шли к счастью пря-мо и не сворачивая, насколько светлее был бы дом! А вот что говорит любовник Пасифаи из одноименного рассказа: 'Я внушил безрассудную любовь одной девушке. Она вращалась вокруг меня, когда сердце ее было пожрано желанием, и по ее шагам впоследствии проложили все меандры лабиринта' (Sсиnes mythologiques, p. 11).
229
желает заняться самоанализом, он не преминет признать, что с этим повествованием его связывает именно ониричес-кий интерес. Обретенные человеческие впечатления явля-ются человеческими грезами, подземными грезами, рабо-тающими в любом человеческом подсознании.
X
Одна из чрезвычайно любопытных черт сокровенных ме-таморфоз образов - то, что эти метаморфозы редко быва-ют холодными. Какими бы суровыми ни были мучения по-павшего в лабиринт, ему ведомо блаженство тепла. Грезы, вытягивающие грезовидца, возвращают его к блаженству протоплазмы. Множество подтверждений тому мы найдем в космогонии Розанова, так хорошо охарактеризованной Борисом Шлёцером. С точки зрения Шлёцера, Розанов - 'человек из внутреннего подполья', 'мягкий, студенистый', 'лишенный спинного хребта' человек, бредущий внутри самого себя. В сравнении с Ницше, пыл которого 'оставля-ет угли, насколько же Розанов кажется тяжеловесным и тусклым! Он теплый, но какой-то влажной и животной теп-лотой. Это потому, что он мыслит кожей, животом, а точ-нее говоря - собственным полом.' И тогда кожа становит-ся коридором (couloir), где плоть познаёт медлительные и тепловатые течения (coulées). 'Дело Плоти, - говорит Ро-занов, - и суть космогонии'A. Плоть заключает в себе все жизненное тепло. И ничего удивительного, что из глубины своей грезы Розанов сказал: 'Я похож на младенца в утробе матери, но которому вовсе не хочется родиться... Мне и тут тепло'18, B.
'В стихии холода, - также пишет Розанов, - есть что-то враждебное организму человеческому'C. Мы не встреча-емся с холодом при должном осознании органической жиз-
А Розанов В. Уединенное. М., 1990, с. 407. 18 Rozanov V. L'Apocalypse de notre Temps.
B Здесь Башляр ошибается. Эта цитата - не из 'Апокалипсиса' наше-го времени, а из самого 'Уединенного' (с. 407). C Розанов В., с. 406.
230
ни, жизни протоплазмы. 'Он боится холода, и как-то ду-шевно боится, а не кожно, не мускульно'A. По существу, как мы уже замечали, холод останавливает не только мыс-ли, но и сами грезы. Не бывает глубинного ониризма холо-да, и в той мере, в какой лабиринт представляет собой глу-бинную грезу, не бывает холодных лабиринтов.
Холодный лабиринт, жесткий лабиринт - все это они-рические продукты, более или менее упрощенные деятель-ностью интеллекта.
XI
В этюде по осмыслению образов не следует забывать об анализе определенных типов отвращения, играющих важ-ную роль при оценке труда. Например, реальная жизнь в лабиринтах рудников зачастую описывается как жизнь гряз-ная. С ней сопрягается отвага быть грязным19.
Приведем две картины - одну нарисовал пролетарий, а другую - буржуа.
'Шахтер, - пишет Викки БаумB, - это нагой, черный и изнуренный человек, скрючившийся во внутренностях зем-ли..., ноги у него мокнут в воде, спину у него ломит, плечи болят и с них всегда градом течет пот...' Когда он протал-кивает вагонетку по узкой штольне, 'в нем зачастую не бывает ничего человеческого... он наклоняется вперед так сильно, что можно подумать, будто он ползет на четверень-ках. Лицо у него - черная и изборожденная морщинами маска, с белыми глазными яблоками, с синими и блестящи-ми от пота веками, с зубами, как у зверя. Челюсти его жуют тяжелый воздух шахты; иногда он кашляет и выплевывает какую-то черноватую слизь' (Arrêt de Mort. Trad., p. 129).
Вспомнив черный реализм труда, теперь посмотрим, как воображение похваляется всего лишь спуском в шахту, слов-но подвигом. Вместо опасностей реальных и неустранимых
А Там же, с. 99.
19 Большинство шахтеров, фигурирующих в романах Лоуренса, равно как и шахтерские дети - это люди, которых мылят жены.
B Баум, Викки (1888-1960) - австр. писательница. С 1931 г. жила в США; писала романы, пользовавшиеся большим успехом.
231
воображение находит воображаемые. В своих 'Воспоминани-ях юности' Рёскин пишет: 'Когда мне удавалось спуститься в шахту, радость моя не ведала границ.' (Trad., p. 79). Это бес-хитростное признание, к которому трудно проникнуться ин-тересом при быстром чтении, обретает определенные психо-логические отзвуки, если мы поместим его в необычный кон-текст воспитания юного Рёскина. И действительно, Рёскин добавляет: 'Разрешая мне вот так предаваться страсти к под-земельям, мои родители проявляли доброту, коей я тогда не мог уразуметь, ибо матери моей было противно все грязное, а моему очень нервному отцу всегда грезились обрушившиеся лестницы и несчастные случаи, что не мешало моим родите-лям следовать за мной повсюду, где я загорался желанием побывать. Отец отправился со мной даже на страшный руд-ник Спидвелл в Каслтоне, куда я спустился не без волнения - признаюсь - единственный раз' (р. 79).
Соотнесем эту манию обрушивающихся лестниц с дру-гим рассказом, где Рёскин напоминает нам, что 'стоило ему упасть на лестнице... как его немедленно секли' (р. 10). Упасть на лестнице, упасть с лестницы - вот, стало быть, моральные запреты. Относительно такой дисциплины Рёс-кин - с какой амбивалентностью! - сообщает, что он обя-зан ей 'научением безопасным и непреложным методам жизни и движения'.
Идеал чистоплотности у матери, потребность в безо-пасности у отца придают отваге ребенка, исследующего шахту, весьма специфический психологический оттенок. Настоящие препятствия - не столько в опасностях руд-ника, сколько во враждебном настрое родителей. Если мы проанализируем подземные страхи, мы порою будем на-ходить в них следы социальных запретов. Воля к исследова-нию подземелья, некоторое время одушевлявшая юного Рёс-кина, во многих отношениях была скрытой волей к тому, чтобы вырваться из-под достаточно мелочной опеки, ког-да наказывают за падение и за испачканный костюм. Пра-во быть грязным можно счесть символом других прав. Существуют тысячи форм отстаивания воли к власти. И не всегда наиболее косвенные его формы являются слабей-шими.
232
XII
Разобравшись во всяких амбивалентностях, имеющих отношение к подземным образам, поняв всевозможные виды взаимодействия между ценностями черноты и нечистоплот-ности, мы меньше поразимся, встретившись с литератур-ными разработками темы клоаки.
Довольно многочисленные вариации на эту тему мы обнаружим в творчестве Виктора Гюго. 'В своей первоздан-ной форме, - говорит Гюго, - сточные канавы отвергали определенные маршруты' (Les Misérables. V, p. 164. Éd. Hetzel). Чудовищный Город 'непостижим', из канализации под городом 'не найдешь выхода', 'при смешении языков произошло смешение подземелий; Лабиринт образовался вместе с Вавилоном'.
Сближение клоаки с лабиринтом проявляется у Виктора Гюго по многим характерным чертам: 'Клоака реагирует на рост Парижа. Здесь в земле живет своего рода темный полип с тысячью щупальцев, растущий внизу одновремен-но с городом, растущим вверху. Всякий раз, когда в городе пробивают улицу, клоака вытягивает рукав.' (Les Misérables. V, p. 177). Одна из причин, в силу которых в этом образе столько жизни, - то, что этот образ эксплуатирует колы-шущийся и мягкий характер полипа. Полип - один из ос-новных типов воображения Гюго. Здесь полип земной, под-земный. Воображение клоаки у Гюго отчетливо отмечено земным знаком. В земле воображение работает не так, как на поверхности земли. Под землей всякий путь извилист. Таков закон любых метафор движения под землей.
А вот другой образ, образ более жесткого лабиринта, ва-риант воображения Гюго (Les Misérables. V, p. 156): 'Если бы взгляд мог проникнуть в подземелье Парижа сквозь по-верхность, он увидел бы подобие колоссального звездчато-го коралла. У губки едва ли больше отверстий и узких прохо-дов, чем в коме земли в шесть льё в окружности, который служит основанием для древнего и великого города.'
Ад заразы - во многих отношениях напоминающий ад экскрементов и столь активно действующий в грезах Стрин-дберга - выражается в творчестве Гюго в многочисленных
233
образах: 'Устье клоаки под улицей Мортеллери было зна-менито вытекающей из нее заразой; с железной остроко-нечной решеткой, похожей на ряд зубов, оно располага-лось на этой роковой улице, словно пасть дракона, изрыга-ющая на людей ад.' Кажется, что за этим устьем живет вытянувшееся животное; иными словами, лабиринт тяготе-ет к оживлению. По клоаке движутся существа из грез. Воображение Гюго видит там 'сколопендр длиной в пят-надцать футов' (р. 166)20.
Весьма характерно для Виктора Гюго также сравнение клоаки с кишкой. В этой связи Бодуэн подчеркивает яв-ный анальный комплекс. И делает он это с большой мерой, характеризующей его превосходную книгу 'Психоанализ Виктора Гюго'. Чтобы продемонстрировать психологичес-ки важную роль этого образа, достаточно привести несколько замечаний. Поистине он лежит в основе целой последова-тельности глав, названной 'Кишка Левиафана'. 'Ничто не равнялось по омерзительности этому ветхому водосливно-му склепу, вавилонскому пищеварительному аппарату' (Les Misérables. V, p. 174). В парижской клоаке раздается выст-рел: 'Отзвуки детонации перекатывались по склепу, слов-но урчание этой титанической кишки' (V, p. 198)21.
В 'Человеке, который смеется', мрачный лабиринт при-водит все к тому же образу, что, на наш взгляд, подтверж-дает воздействие некоего архетипа: 'Эта кишка извивалась; любые внутренности извилисты - и у тюрьмы, и у челове-ка... плиточный пол, которым был вымощен коридор, по вязкости напоминал кишки' (Éd. Hetzel. T. II, p. 127). Пусть читатель поразмыслит над странным признанием рассказ-чика, полагающего, что он спокойно увеличивает дозу ес-
20 Даже самые невразумительные метафоры получают смысл движения сквозь мрак: 'Духу мнится, что он видит, как бредет сквозь мрак, через помои, что когда-то были роскошью, этот громадный слепой крот, про-шлое'.
21 В сновидении, которое видел Андре Бей, будучи подростком, мы можем пронаблюдать синтез лабиринтов, беспрестанно меняющих инстан-ции подсознания, что характерно для глубоких грез. Клоака утолщается, а затем превращается в каучуковую грыжу. Потом следует путешествие по кишке, становящейся 'подземным бульваром'.
234
тественного отвращения, заставляя читателя еще больше презирать запутанные коридоры тюрьмы! В литературной палитре нет 'прямых' красок, присущих палитре живопис-ца, но весьма косвенные литературные 'цвета' обладают непреложным действием.
Работая над всевозможными образами пищеварения, Гюго говорит о времени, когда 'охваченная гневом' клоака по имени Нил вышла из берегов: 'Этот желудок цивилиза-ции плохо переваривал пищу, клоака хлынула в глотку го-рода, и у Парижа оказался привкус собственной грязи. В сходстве клоаки с угрызениями совести были хорошие сто-роны, оно о чем-то предупреждало.' Такое равнение мета-фор друг на друга в моральной зоне может застать врасплох разве что психолога, не ведающего о конвергенции всех характерных черт и смыслов этого образа. В главах, посвя-щенных парижским сточным канавам, Виктор Гюго на про-тяжении нескольких страниц описывает героическую са-моотверженность Жана Вальжана под заголовком 'Грязь, но душа'. Сколько же раз в других местах романа 'Отвер-женные' город предстает как смятенная душа, как душа, отягощенная грехами, но уповающая на благо!
Космические видения Гюго, естественно, увеличивают масштаб образов. Адские реки кажутся ему чудовищными сточными канавами:
A l'égout Styx où pleut l'éternelle ímmondice...
(В сточной канаве Стикс, где плачут вечные нечистоты...)
Dieu. Le Vautour
Égout où du déluge on voit la boue énorme...
(Сточная канава, где со времени Потопа видны потоки грязи...)
La Fin de Satan. Sous le Gibet
Порою мощь углубления грез столь велика, что мы ви-дим, как самые несходные образы становятся родственны-ми. Клоака похожа сразу и на шахту, и на кишку. Мы ус-матриваем здесь осторожность строителя, но это еще и ди-кая греза о материнстве земли. Проследуем, к примеру, по
235
лабиринтной грезе, в которой Антонен АртоA описывает храм в ЭмесеB: 'Под храмом Эмеса есть система особых сточных канав, где кровь человека сочетается с плазмой некоторых животных. Через эти канавы, имеющие форму пылающей спирали, окружность которой сужается по мере продвиже-ния вглубь почвы, эта кровь существ, принесенных в жерт-ву в особых обрядах, достигает священных уголков земли, она касается допотопных рудоносных жил, недвижных со-дроганий хаоса.' (Héliogabale, p. 60). Что описывает нам автор на такой странице? Храм или живот? Религиозный культ или преступление? Содрогающееся лоно или теку-щую кровь? Пылающую спираль или неподвижную рудо-носную жилу? Для того, чтобы синтез объединил столько противоречий, чтобы в нем накопилось столько ценностей, его нужно довести до крайности, до манихейства материн-ства, которое позволяет земле быть одновременно еще и матерью, и смертью. Тем самым этот выводной секретор-ный проток кровавого алтаря может служить примером онирической археологии, синтезирующей разнообразные глубины.
В таких примерах, количество которых можно приум-ножить, мы видим, как воображение создает под землей устрашающие ценности. Нам могут возразить, что реаль-ность тут ни при чем. Чтобы говорить вещи, подобные приведенным, нет нужды бродить по сточным канавам. Достаточно привести в систему отвращение к черным по-токам, к подземной грязи. Литературная клоака (égout) есть порождение отвращения (dégoût). И теперь мы долж-ны подчеркнуть то, что образам нечистот также присуща некая связность, а воображению гнусной материи свой-ственно особое единство. Как писал Виктор Гюго (Les Misérables. V, p. 161): 'Такая искренность нечистот нам нравится'.
А Арто, Антонен (1896-1948) - франц. театральный режиссер, автор новаторских эссе о театре, киносценарист и киноактер. Цитируется текст 'Гелиогабал, или Коронованный анархист' (1934).
B Эмес - древний город на реке Оронт. Знаменит храмом, посвящен-ным богу солнца Эль Гебалу. Ныне - сирийский город Хомс.
236
XIII
Чтобы показать, что у всякого подземного ремесла есть привлекательные черты для некоторых душ, мы собираем-ся переписать домашнее задание одного парижского школь-ника, предоставленное в наше распоряжение г-ном Рено, преподавателем лицея 'Шарлемань'. Мы приводим его дос-ловную копию, ибо в сочинении по французскому языку все-гда - даже в отклоняющихся от нормы суждениях - про-является некое единство. Ученику двенадцать лет.
'Кем вы собираетесь стать впоследствии? И каковы ваши основания для этого?'
'Я хотел бы стать канализационным рабочим. С самого раннего детства у меня была мечта стать канализационным рабочим; в глубине души мне казалось, что это ремесло изумительно; я воображал, как через подземные кишки пройду сквозь землю. Оказавшись в Бастилии, я смог бы сбежать куда угодно. Я мог бы вынырнуть в Китае, в Япо-нии, у арабов. Я увидел бы еще маленьких карликов, духов, обитателей земных недр. Я говорил себе, что совершу путе-шествия сквозь землю. А еще я воображал, что в сточных канавах зарыты сокровища, что меня ожидают экскурсии, что я буду рыть землю и в один прекрасный день вернусь к родителям с грузом золота и драгоценных камней, я смогу сказать: "Я богат, я куплю великолепный замок и парки".
Там, в сточных канавах, будут встречи, разыграется дра-ма, первым актером которой стану я: там будет темница, где томится девушка, я услышу ее жалобы и прибегу к ней на помощь, и освобожу ее от злого волшебника, хотевше-го на ней жениться. Я буду прогуливаться с фонарем и киркой.
Наконец, по правде говоря, я не знал ремесла более ве-личественного и прекрасного, чем это.
Но когда я узнал, что представляет собой ремесло кана-лизационного рабочего, что это труд тяжелый, суровый и нездоровый, я понял, что мечтал вовсе не об этом ремесле, а о какой-то сказке Жюля Верна или же о прекрасном ро-мане, прочитанном в детстве. Сделав это открытие, я дога-дался, что в ремеслах не бывает каникул, но что нужно
237
всегда прилежно работать, зарабатывая на хлеб насущный; и тогда я решил избрать другое ремесло. Меня очень увлек-ло ремесло книгопродавца. До чего здорово, я буду прода-вать книги школьникам и остальным! У меня также будет абонемент на книги, и люди будут приходить в библиотеку обменивать книги. В начале учебного года ученики будут покупать у меня книги, школьные наборы, ручки и пр. Время от времени они будут приходить за конфетами.'
XIV
В большинстве глав этой книги мы привели наброски серии монографий, в которых образы можно будет изучать по отдельности. А между тем, сколь бы несхожими ни были определенные образы, взятые в своем первичном аспекте, - грот, желудок, подземелье, ущелье - мы смогли показать, что их связывают бесчисленные метафоры. В заключение этой главы нам хотелось бы поразмыслить над этой мо-щью взаимозаменяемых метафор и - в более обобщен-ном виде, чем мы могли это сделать при анализе конк-ретных образов - установить закон изоморфизма образов глубины.
Сначала напомним, как мы характеризовали углублен-ность, исходя из конкретных образов. С этой целью приве-дем всего четыре отправные точки:
1. Пещера.
2. Дом.
3. 'Внутренности' вещей.
4. Живот.
Для каждого из четырех образов, прежде всего, следует рассмотреть отчетливые типы углубления. Земля дает нам логова, берлоги, гроты, а впоследствии - колодцы и шах-ты, куда мы отправляемся, проявляя смелость; грезы о по-кое сменяются волей к рытью, к познанию глубин земли. Вся эта подземная жизнь - будь она спокойной или же активной - оставляет в нас кошмары раздавленности, на-важдения ущелий. Мы рассмотрели несколько примеров на эту тему в настоящей главе о лабиринте. Итак, грезы посте-пенно превращаются в наваждения.
238
К тому же, дом и сам проваливается, укореняется в зем-ле, приглашает нас спуститься в землю; он дает человеку чувство потайного, сокрытого. Затем начинается драма - ведь дом не только тайник (cachette), но и застенок (cachot). Нередки романы о замурованных в подвалах. Повести 'Чер-ный кот' и 'Бочонок Амонтильядо' показывают, что Эдгар По не только всю жизнь мучился, ощущая погребение за-живо, но еще и изведал всю агрессивность такого образа. 'Подземная' жизнь Эдгара По естественным образом де-монстрирует амбивалентность дома и могилы22.
Глубина вещей исходит из той же диалектики явленного и скрытого. Но эта диалектика вскоре подвергается воздействию воли к тайному, грез, в которых накапливаются могуществен-ные секреты, сгущенные субстанции, яды и зелья в оправе драгоценных камней в кольцах. 'Инфернальные ценности' искушают грезы о глубинных субстанциях. Несомненно, в субстанции есть 'хорошие' глубины. Если в ней имеются яды, то в ней еще наличествуют и бальзамы, и снадобья. Однако представляется, что в этой амбивалентности нет равновесия и что здесь опять же первичной субстанцией является зло. Ког-да в грезе о сокровенности субстанций мы продвинемся дос-таточно далеко, когда мы 'перелистаем' наши знания повер-
22 Мы не планировали написание монографии о могилах. Центром та-кой монографии, разумеется, должны стать образы смерти. А значит, раз-виваться она должна в совершенно ином направлении, нежели наши на-стоящие исследования. Между тем, на определенном уровне анализа мож-но обнаружить массу связей между тремя образами покоя - домом, пеще-рой и могилой. Многие народы рыли себе могилы в пещерах (см. Augé L., Les Tombeaux, p. 55). Для многих народов 'последнее жилище' поистине является жилищем. Диодор СицилийскийA писал: 'Египтяне зовут жили-ща живых пристанищами, поскольку те пребывают в них немного време-ни; а вот могилы они, напротив, называют вечными домами, поскольку пребывание в них вечно. Потому-то они мало заботятся об украшении своих домов, тогда как ради роскоши своих могил не жалеют ничего'. Колоссальная литература о пирамидах может сделаться предметом инте-ресного психологического труда. Мы найдем в ней несметные свидетель-ства археологической психологии.
А Диодор Сицилийский (ок. 90 - конец 1 в. до н.э.)- греч. историк. Совершил много путешествий, в особенности - в Египет; более 30 лет работал в Риме. Автор 70-томной 'Исторической библиотеки'; 15 томов дошли до нас.
239
хностного мира, мы обнаружим чувство опасности. Тогда вся-кая сокровенность становится опасной.
К тому же, мы воспользовались животом как образом несложной сокровенности. Накапливая литературные об-разы вокруг этого изношенного и, казалось бы, лишенно-го всякой онирической мощи символа, мы постепенно ус-тановили, что этот бедный образ тоже способен 'работать'. В продолжение нашего исследования мы и сами поража-лись его способности к углублению. Наблюдая за ним, мы обнаружили ту самую линию, которая уже была оха-рактеризована при углублении лабиринтов и клеток; мы догадались, что наше тело также представляет собой 'тайник'.
Если, наконец, мы уделим больше внимания лабиринт-ным кошмарам, мы обнаружим в нас самих множество теле-сных реалий, производящих впечатление лабиринтов. Чуть более продвинутый самоанализ вскоре дал бы картину пове-дения (conduite) наших каналов (conduits). Все, что есть в нас сколько-нибудь непрерывного, служит проводником (conducteur). И вот, прямо-таки сокровенная гидродинамика предлагает свои услуги, помогая нам ощущать наши матери-альные образы. Тогда-то к нам и приходит чувство самоуг-лубленности.
Но теперь нам непонятно, где формируются убеждения. Формируются ли они в перспективе интровертности или же экстравертности? И где бездонное? Глубокий ли это колодец или не поддающийся зондированию живот? Напомним, что с точки зрения оральногоA бессознательного, для глотающего подсознания живот пуст. А, кроме того, органы представля-ют собой каверны. Как писал Эрнест Френкель в работе по психоанализу пищеварения, каковую он соблаговолил пере-дать нам в рукописи: 'Всякий орган есть пространство, куда нечто входит, чтобы впоследствии оттуда выйти.' Но ведь этот вход и этот выход отнюдь не симметричны. Их динамические ценности отчетливо различаются между собой. И как раз на этих динамических ценностях основано то, что Эрнест Френ-кель называет 'гастрической душой'. Эта гастрическая душа, справедливо утверждает Эрнест Френкель, 'по сути своей,
А В оригинале явная описка: orant - молящийся.
240
циклотимична'A. День и ночь, полный и пустой желудок - таковы основы нормальной и целебной циклотимии23.
В этих темах динамизма переполненного желудка и фи-зиологических выделений функционируют настоящие про-странственные конструкции, конструкции реальные или во-ображаемые. Работало ли воображение у природы? По мне-нию Френкеля, 'именно у жвачных желудочностъ (estomacité) производит наибольшие усилия по архитектурному управле-нию пространством'. Корова из сказки братьев Гримм пере-жевывает 'своего Иону'. Грезовидец, который вообразит конструктивное пережевывание, на свой лад начнет пони-мать, почему в желудке жвачных столько отделений.
XV
Если столь несходные образы так регулярно сходятся в смежных онирических смыслах, то не потому ли это проис-ходит, что нас влечет подлинное чувство углубления? Мы - глубокие существа. Мы прячемся под поверхностями, под внешностью, под масками, но прячемся мы не только от других, но и от самих себя. И глубина в нас представляет собой, выражаясь в стиле Жана Валя, транс-десцендентность.
Так грезит Ремизов в поисках легендарного дыхания. Это дыхание 'не приходит к нам извне, оно в наших мыслях: это сновидение темнейшей глубины, это плавучая речь, из которой рождаются раздумья, раздумья, завершающиеся самосознанием'. А мы сказали бы - осознанием инфра-я, своего рода подземного cogito, подземелья в нас, дна без-дны. В этой-то глубине и теряются собранные нами образы.
Возвращение в нас самих дает лишь первую стадию этой медитации с погружением. Мы ощущаем, что спуск в наши недра характеризует другой анализ, другую медитацию. В этом анализе нам помогают образы. И зачастую мы полага-ем, будто описываем всего лишь мир образов, а в это самое время мы спускаемся вглубь нашей собственной тайны. Мы вертикально изоморфны великим образам глубины.
А Циклотимия - чередование мании и меланхолии в настроении. Одни специалисты не подчеркивают ее патологического характера, другие счи-тают синонимом маниакально-депрессивного психоза.
23 Морис Сайе выявил нарциссизм переваривающего пищу живота в творчестве Альфреда Жарри: 'Мерзкий нарцисс, - пишет он, - все суще-ствующее соотносится с его прожорливостью.' (Fontaine, no. 61, р. 363). Жизнь преображается 'в своего рода обобщенное пищеварение'.
Часть третья
Глава 8. Змея
Когда змеи ползут, они совершают изгибы
четырех разновидностей ... змеи не могут ползать,
если им отрезать части тела, совершающие
последние изгибы при их движении.
Ла Шамбр.А Рассуждение
о принципах хиромантии
I
Изучение змеи как литературного образа весь-ма отчетливо обозначает наши позиции по отношению к исследованию мифов. Если бы нам потребова-лось хотя бы обобщить роль змеи в мифах Индии, нам при-шлось бы написать целую книгу. Но такая работа проделана, и мы можем отослать читателя, например, к книге Дж. Ф. Фоге-ля (Vogel J.Ph. Indian Serpent lore)1. В более недавнее время в книге 'Индуистская эпопея' Шарль Отран подробно иссле-довал змей, так называемых 'наг'B в мифологии индуизма, и он же занимался этой темой в фольклоре разных народов Азии, Египта и Америки. Статья, посвященная змее 'Serpent' в Энциклопедии Паули-Виссова, дает множество сведений о змеях в классической мифологии.
А Ла Шамбр, Мартен Кюро де (1594 или 1596-1669) - франц. писа-тель, по профессии - врач. Один из первых стал писать ученые трактаты по-французски ('Новые мысли о причинах света, о разливе Нила и о любви по наклонности' (1634); 'Характер страстей' (1660-1662)).
1 London, 1926.
B Нага - в индуизме: род духов с человеческим торсом и змеиной нижней частью тела. Подземные обитатели, чей культ связан с культом вод.
242
Итак, стоит лишь приступить к изучению такой мифоло-гической ценности, как документы по ней будут накапли-ваться во всех ее аспектах. Уже не надо удивляться тому, что образ змеи стал традиционным образом и что поэты всех вре-мен и стран склонны превращать ее в предмет своих стихов. Между тем, в составляющих предмет нашего исследования крайне ограниченных очерках спонтанного воображения, во-ображения живого, нам показалось полезным рассматривать этот образ в тех случаях, когда он не был порожден традици-ей. Если бы мы осуществили эту задачу, мы доказали бы естественный характер порождения образов, мы увидели бы, как складываются частичные мифологии, мифологии, сводя-щиеся к единственному образу.
К тому же, нам представляется интересным наблюдение над тем, что эти естественные мифологии формируются в простейшем литературном акте: в метафоре. Когда метафора является искренней, когда она 'вовлекает в себя' поэта, мы обнаруживаем тональность заклинания, так что можно ут-верждать, что метафора представляет собой современное зак-линание.
Стало быть, имея в виду простые вариации старинного образа, мы сможем продемонстрировать, что литературное воображение продолжает некую глубинно человеческую фун-кцию.
II
Змея - один из важнейших архетипов человеческой души. Это наиболее земное из животных. Поистине это анимализи-рованный корень, а в сфере образов это звено, промежуточ-ное между растительным и животным царствами. В главе о корне мы приведем примеры, доказывающие такую вообра-жаемую эволюцию, эволюцию, все еще живую в любом вооб-ражении. Змея спит под землей, во мраке, в черном мире. Она вылезает из земли через малейшую щель или промежу-ток между камнями. Она возвращается в землю с ошеломи-тельной быстротой. 'Ее движения, - говорит Шатобриан2, -
2 Chateaubriand F.R. Le Génie du Christianisme. Éd. Garnier, p. 138.
243
отличаются от движений остальных животных: невозможно сказать, на чем основан принцип ее перемещения, ибо у нее нет ни плавников, ни ног, ни крыльев, а между тем, она скользит как тень и магически исчезает.' Флобер отметил эту фразу в своем каталоге перифраз. Скрытая ирония этого каталога лишила его возможности грезить о принципе пере-мещения, который мы лучше уясним в конце главы, когда чуть-чуть вживемся в воображаемую динамику этого прин-ципа. Ведь, если теперь мы станем свидетелями бегства га-дюки под землю, если мы поразимся волшебной стремитель-ности этого исчезновения в земле, мы лучше подготовимся к грезам о таком стремительном ползании, образующем диа-лектическую пару к ползанию медленному. Змея, эта изви-листая стрела, устремляется под землю так, словно ее засасы-вает сама земля. Такое умение входить в землю, такая бурная и ловкая динамика - вот на чем основан любопытный дина-мический архетип. И как раз змея может послужить нам примером для обогащения динамическими свойствами по-нятия архетипа в том виде, как оно было представлено К. Г. Юнгом. Для этого психоаналитика архетип есть образ, корни которого находятся в наиболее глубинном бессозна-тельном, - образ, живущий жизнью, которая не является нашей личной и которую можно изучать, лишь сообразуясь с некоей психологической археологией. Но представлять себе архетипы идентичными символам было бы недостаточно. Сле-дует добавить, что архетипы - это движущие символы. Змея в нас и есть движущий символ, существо, у которого нет 'ни плавников, ни ног, ни крыльев', существо, не вверив-шее свои двигательные потенции ни внешним органам, ни искусственным средствам, но само сделавшееся сокровен-ной причиной любого своего движения. Если мы добавим, что это движение ведет к проникновению в землю, мы пой-мем, почему для динамического воображения, как и для воображения материального, змея обозначает земной архе-тип.
Упомянутая психологическая археология, кроме прочего, характеризует образы через своего рода первозданную эмо-цию. А образ змеи проявляет психологическую активность именно так. По существу, в европейской жизни змея чаще
244
всего представляет собой существо, живущее в зоологичес-ком саду. Если она выпустит жало, то посетителя всегда за-щитит стекло. А, меж тем, сам Дарвин, невозмутимый на-блюдатель, признается в инстинктивной реакции: в миг, когда змея спокойно повернула голову в направлении Дарвина, тот инстинктивно отпрянул, хотя неагрессивный характер змеи в клетке был очевиден. Волнение - этот архаизм - повелевает и мудрейшими. Когда мы встречаемся со змеями, целая родос-ловная предков испытывает страх в нашей смущенной душе.
III
С этим страхом сопрягаются тысячи видов отвращения, причем не всегда удобно расположить их в порядке глубины. Несомненно, в связи с образом змеи, психоаналитики выя-вят запреты, налагаемые на зону половых органов или на анальную зону. Тем не менее, больше всего бросающиеся в глаза образы не всегда являются наиболее определяющими, и проницательный психоаналитик РанкА справедливо заме-тил, что 'фаллический смысл' змеи вторичен, а не перви-чен3. В частности, кажется, что материальное воображение могло бы обращаться к образам более сонным, не так четко обрисованным и, без сомнения, более глубоким. Мы часто задавались вопросом, не может ли змея символизировать от-вращение к холоду? Так, Доден даже в начале XIX века в 'Общей и частной истории пресмыкающихся' говорит: 'Если кто-нибудь хочет посвятить себя преимущественно изучению животных, то с упорством в работе ему следует сочетать от-вагу, позволяющую преодолеть всякое отвращение; без ужа-са и отвращения ему предстоит размышлять об омерзитель-ных и зловонных животных и дотрагиваться до них' (Histoire générale et particulière des Reptiles. T. I. An X). Он напомина-ет, что Герман в своих 'Таблицах родства между животны-
А Ранк, Отто (Отто Розенфельд) (1884-1939) - австр. психиатр. Один из первых последователей Фрейда. Книга 'Травма рождения' (1924) зна-менует его разрыв с фрейдовской ортодоксией. Родовая травма была для него важнее Эдипова комплекса.
3 Baudouin Ch. Ame et Action, p. 57.
245
ми' предложил заменить термин 'амфибии' на 'cryeroses'A, 'что означает холодный, отвратительный и мертвенно-блед-ный' (Tabulae affinatum animalium). Здесь присутствует вооб-ражаемый синтез отвратительных свойств, причем змея вполне может образовать их полюс. Впрочем, обобщений следует ос-терегаться. Холодность рыбы и холодность пресмыкающего-ся - это вовсе не одинаковые воображаемые функции. Для Д. Г. Лоуренса рыба 'абстрактна, холодна и одинока' (Kangourou. Trad., p. 396). Однако холодность рыбы, извле-ченной из холодной воды, не доставляет никаких проблем материальному воображению. Этот холод не отвратителен. Зато холодный уж в летней почве - некая материальная ложь.
Впрочем, для того, чтобы сформулировать психологию холодности, требуется гораздо больше свидетельств. Несмот-ря на множество исследований, мы по сей день не сумели составить досье, пригодного для объективного изучения во-ображения холода. Без всякого толку мы читали многочис-ленные повествования о полярных путешествиях: зачастую мы не могли в них найти других средств пробудить чувство холода, кроме ссылки на показания термометра - разумеет-ся, чрезвычайно рационализованной. Холод, на наш взгляд, является одним из важнейших табу человеческого воображе-ния. Притом, что тепло в определенной степени способствует рождению образов, можно сказать, что холода никто не во-ображает. Трупный холод преграждает путь воображению. С точки зрения воображения, нет ничего холоднее трупа. Не-возможно пойти дальше холода смерти. И перед впрыскива-нием яда змея леденит кровь у нас в жилах.
Но и не заходя в зону, которую нам не по силам исследо-вать и где у нас есть одни предчувствия, а следовательно, оставаясь в плоскости общеизвестных символов, мы понима-ем, что отвращение к более или менее наделенной полом змее не бывает без определенных амбивалентностей. Стало быть, змея совершенно естественно представляет собой комп-лексный образB или, точнее говоря, комплекс воображения.
А От греч. cryos 'холод'.
B Это выражение следует понимать и как 'образ, имеющий отношение к психическому комплексу', и как просто 'составной, сложный образ'.
246
Мы воображаем змею дающей жизнь и приносящей смерть, гибкой и жесткой, прямой и округлой, обездвиженной или стремительной. Вот почему она играет столь значительную роль в литературном воображении. Значит, змея, столь инер-тная в изобразительном искусстве, живописи и скульптуре, является в первую очередь чисто литературным образом. Что-бы актуализовались все связанные с ней противоречия, что-бы активизировались все символы, доставшиеся ей от пред-ков, ее необходимо наделить дискурсивностью литературного образа. А теперь мы займемся текстами. Они покажут все бо-гатство метафор, в которых участвует этот архетип бессозна-тельного.
IV
Архетип змеи обладает необычайной мощью в поэтике Виктора Гюго, но, разумеется, этого невозможно вывести ни из одного реального факта, который удостоверял бы силу данного образа. В этой связи можно сделать замечание, дока-зывающее первенство воображения над памятью реального опыта: словарь образов Виктора Гюго в том виде, как его осуществил Э. ЮгеА, интересен и полезен, однако крайне удивительно, когда перед указателем образов мы читаем, что нам рекомендуют различать 'имена предметов, служащих поводом для метафор, и... имена, употребляемые метафори-чески'. Это означает чрезмерное доверие к реалистическому описанию предметов. На самом деле, чтобы увидеть, что раз-личие, вводимое Юге, не выдерживает критики, достаточно сослаться на приведенные им тексты. Ведь для поэта предмет - уже образ, предмет - это ценность воображения. Реальный предмет получает поэтическую силу лишь благодаря страст-ному интересу, каковой он черпает из архетипа.
В 'Рейне' Виктор Гюго и сам изумляется мощи потока образов, вызываемого архетипом змеи: 'И потом, не знаю почему, но образы змей наполняют все сознание; мы полага-
А Юге, Эдмон (1863-1948) - франц. лингвист. Предпринял публика-цию 'Словаря французского языка XVI в.', завершившуюся после его смерти.
247
ем, что ужи заползают к нам в мозг, что колючий кустарник свистит на краю откоса, словно кучка аспидов, что кнут ям-щика - это летучая гадюка, настигающая экипаж и пытаю-щаяся укусить нас сквозь стекло; вдали, в тумане линия хол-мов колышется, словно брюхо переваривающего пищу боа, принимая в преувеличениях дремоты очертания необыкно-венного дракона, опоясывающего горизонт'4 (Le Rhin. T. II, pp. 174-175). Чтобы ощутить онирическое тяготение этой темы, хватило бы одного заключительного преувеличения; но уже 'плюрализм' образов, ни один из которых как следу-ет не сцепляется ни с какой реальностью, доказывает суще-ствование скрытого центрального образа: какой прок грезить поэту, уносимому в дилижансе и подвергающемуся путевой тряске? Откуда столько предгневных (sub-coléreuses) впечат-лений? Как не увидеть тут нового проявления провоцирую-щего воображения, ищущего в реальности поводов для враж-дебности?
В поэтике Александра Блока змея является одновременно символом и притаившегося зла, и зла морального, зловещим существом и соблазнителем. София Бонно показала насколь-ко по-разному используется архетип змеи. В роковой женщи-не всё - змея, 'кудри, коса, узкие глаза, обволакивающее очарование, красота, неверность'. Можно заметить смесь ви-димых знаков с абстракциями. Мы также найдем массу фал-лических редупликацийА вроде вот такой: 'На конце ботин-ки узкой дремлет тихая змея'B (ср. множество стихов, в осо-бенности р. 34 из диссертации о Блоке).
4 Американский поэт Дональд Викс в своей книге 'Частный зоопарк' описывает гремучую змею так:
Кони духа встают на дыбы при виде хлыста, сияющего в черноте. Фитиль лунного света завершается S серебра и бубенчиков.
А Это всего-навсего реальная деталь маскарадного костюма H.H. Во-лоховой, туфли с пряжкой в виде змеи. Маскарад устраивала В.Ф. Ко-миссаржевская. Прочесть об этом можно в любых комментариях к этому стихотворению.
B Из стихотворения 'Сквозь винный хрусталь' (1907), входящего в цикл 'Снежная маска', посвященный H.H. Волоховой. Цит. по: Блок А. Стихотворения, поэмы, театр. В 2-х т. Л., 1972. Т. 1, с. 351.
248
Динамические впечатления бывают особенно примечатель-ными, когда они сочетаются с инертным предметом. Например, для Виктора Гюго, как и для всякого грезовидца, относящегося к образам динамически, веревка - это змея5. Она колышется и удушает. При виде ее мы испытываем тревогу. И, пожалуй, не надо слишком наскоро усматривать в ней орудие самоубийства, ощущая особенное головокружение, напоминающее те, что свя-зывают нас со всякими орудиями смерти! Естественнее назвать ее преступной. Весьма часто ощущается воображаемый синкре-тизм, придающий способность к удушению пресмыкающемуся, чья опасность - исключительно в ядовитости. В этом синкре-тизме ленты и змеи возникла игра слов, ответственная за всю таинственность рассказа Конан Дойля 'Пестрая лента'.
Точно так же змеящаяся река - не просто геометрическая фигура: в чернейшей ночи остается достаточно огоньков, чтобы ручей в траве скользил с проворностью и ловкостью ужа: 'В самую беспросветную ночь вода обладает способностью не-весть откуда вбирать в себя свет, превращая его в ужа'6. У Гюйсманса река Драк в галечном русле сравнивается с теку-чей змеей, на которую смотрит обитатель земли. Поток ше-лушится 'пленками, похожими на радужный крем кипящего свинца' (La Cathédrale. Éd. Crès. T. I, p. 17).
Иногда тяготеющий над ручьем образ змеи сообщает ему не-ведомо какую порчу. Ручей, сопрягающийся с таким образом, становится зловредным. И тогда начинает казаться, что добрая река записывается в виде контрапункта: ее можно прочитывать и как змею, и как реку. Пример такого двоякого прочтения мож-но видеть в следующем стихотворении Браунинга:
Путь мне пересек ручеек,
Неожиданно, словно наносящая вам визит змея.
...
Такой узенький, и все же такой гневный...
...
5 Среди многочисленных метафорических имен змеи в Индии Фо-гель отмечает 'the toothed горе' (зубастая веревка), 'the putrid горе' (гни-лая веревка) (Indian serpent lore', p. 12).
6 Hugo V. Les Misérables. Hetzel. V, p. 278.
249
В него устремлялись мокрые ивы, в порыве Немого отчаяния, - толпа самоубийц.7
Если мы продолжим чтение, впечатление отравленного пейзажа будет постепенно усиливаться.
Порою начинается шествие образов пресмыкающихся, но центральное существо в нем может и отсутствовать; и тогда живучесть образа змеи ощущается по какой-то дета-ли, по отдельным импульсам. Так, в прекрасных косми-ческих грезах, которыми наполнен 'Ковчег' Андре Арни-вельде, читаем: 'Волны черного прилива с золотыми пят-нышками в точках, где свет, проницая мглу, достигал моря, - успокаивались и закручивались в спираль у очертаний ри-фов' (р. 45). Образ колеблется между приливом и змеей, однако, как всегда, его оживляют наиболее анимализован-ные грезы.
К тому же, когда воображение наделяется подвижностью столь живого образа, как образ змеи, оно начинает пользо-ваться этой подвижностью по своей прихоти, что противо-речит даже очевиднейшей реальности. И вот, какое обнов-ление старого образа ощущаем мы, читая эту строку Андре Френо:
Comme un serpent qui remonte les rivières... (Словно змея, плывущая к истокам рек...)
Заставляя змею плыть против течения ручья, поэт извле-кает образ сразу и из царства воды, и из царства пресмыкаю-щихся. Мы охотно приводим стихотворение Френо, как один из наиболее отчетливых примеров чисто динамического обра-за. Литературный образ живее любого контура. Он преодоле-вает форму. Его можно даже назвать движением без материи. Здесь он - чистое движение.
7 Цит. по: Cazamian L. Symbolisme et Poésie. L'exemple anglais, pp. 154- 155.
250
V
Некоторые образы (в творчестве Виктора Гюго они имеют множество вариантов) обнаруживают сгущение и материаль-ность, поражающие любого психоаналитика пищеваритель-ных функций: 'Змея в человеке, и это кишечник. Он иску-шает, предает и наказывает'8. Этих двух строк достаточно для доказательства того, что сексуальность - еще не все, и что у самого что ни на есть материального и пищеваритель-ного искушения может быть собственная история. С этим образом, впрочем, можно сравнить и странный вопрос, по-ставленный Фридрихом Шлегелем, причем в нем следует ви-деть не прихоть воображения, а скорее, проявление земных раз-думий над феноменами жизни: 'Нельзя ли считать змей болез-ненным отродьем и чем-то вроде кишечных червей Земли?'9.
С точки зрения Кардано, наоборот, пища змей хорошо переваривается медленным пищеварением из-за узости их внутренних органов, 'и в силу этой причины их экскремен-ты хорошо пахнут' (Les Livres de Hierome Cardanus. Trad. 1556, p. 191). Такие переосмысления к лучшему или к худ-шему, разыгрывающиеся благодаря столь незначительным предлогам, убедительно доказывают, что при соприкоснове-нии с подобными образами мы имеем дело с весьма глубо-ким и архаичным пластом подсознания.
VI
Вместо столь отчетливо маркированных образов мы мо-жем встретиться с образами как бы вышитыми, которые, змеясь, способствуют утолщению плетеных узоров. Кое-кто задавался вопросом, не получил ли сонет Артюра Рембо о гласных свою первичную субстанцию от раскрашенных букв его букваряА. Тот же вопрос можно поставить и в отноше-нии Виктора Гюго, который на протяжении всего творче-ства часто грезил об инициалах, глядя 'вглубь' заглав-ной буквы: 'S - это змея (serpent)', - говорит он в книге
8 Hugo V. William Shakespeare, p. 78.
9 Schlegel F. Philosophie des Lebens, S. 141.
A Сонет Рембо 'Гласные' гораздо чаще анализируют исходя не из букв, а из звуков и их цветных (синестетических) ассоциаций.
251
путешествий 'Альпы и Пиренеи' (Les Alpes et les Pyrénées, pp. 65-67). Впрочем, не такая уж редкость увидеть инициа-лы, по которым карабкаются рептилии. Кажется, будто змея изгибает чересчур прямую заглавную букву, инициал, же-лающий спрятаться. Сколько же бессознательных призна-ний порою связано с выбором такого анимализованного ор-намента!
Гирлянда, лиана и змея - все оживает под грезящим пе-ром, в том числе и жизнь - переплетенная, обвитая и свер-нутая.
VII
Столь несходные цитаты, количество которых мы мог-ли бы и приумножить, хорошо доказывают, что литера-турные образы змеи часто выходят за рамки взаимодей-ствия форм и движений. Если аллегории превращают змею в столь речистое существо, в столь сладкоречивую иску-сительницуА, то, возможно, это оттого, что сам облик змеи побуждает к речи. Сказки на эту тему никогда не кончат-ся. Дело в том, что в глубине языка есть привилегирован-ные слова, повелевающие сложными фразами, слова, цар-ствующие над разнообразнейшими сферами. Слово змея 'мошеннически протаскивает' самые необыкновенные нюансы. Например, в 'Наброске о змее' поэт обнаружи-вает как бы прирожденное изящество и играючи дает нам набросок некоей вселенной. Эта вселенная представляет собой отрицаемый мир, мир, подвергнутый утонченному презрению.
Слово змея задействовано во многих регистрах. Оно пере-ходит от искушения, произнесенного шепотом, к искуше-нию ироническому, от медлительной плавности к внезапно-му свисту. Оно играет соблазном. Оно вслушивается в соб-ственную речь:
А Здесь имеется в виду, конечно же, библейский змей. Поэтому в этой главе повсюду следует учитывать, что франц. слово 'le serpent' - 'змея' - мужского рода.
252
Je m'écoute, et dans mes circuits Ma méditation murmure...
(Я вслушиваюсь в себя, и в моих кольцах Шепчут мои раздумья...)
( Valéry P. Charmes. Ébauche d'un Serpent )
В скобках заметим, что мы охотно воспользовались бы примером со словом змея, чтобы обрисовать переход от архе-типического образа к архетипическому слову, ибо именно сло-во несет весь вес этого образа. Такое соскальзывание образов в речь может открыть новые пути для литературной крити-ки. В литературе змея живет самовыражением: она произно-сит длинные и болезненные речи.
И все же, после этого периферического кружения вокруг центрального архетипа теперь нам предстоит выделить всё земное, что имеется в образах змеи.
VIII
Лучше всего сразу же привести образ космической змеи, змеи, которую во многих отношениях можно назвать всей землей. Возможно, змею, земное существо, никто и никогда не изображал лучше, чем Д. Г. Лоуренс: 'В самой сердцевине этой земли посреди огня спит громадная змея. Спускающие-ся в рудники ощущают ее тепло и пот, они чувствуют ее шевеление. Это жизненное пламя земли, ибо земля живет. Мировая змея имеет гигантские размеры, утесы - это ее чешуя, а между ее чешуйками растут деревья. Я говорю вам, что земля, которую вы роете заступами, жива, словно уснувшая змея. По этой огромной змее вы ходите, это озеро покоится во впадине ее складок, будто капля дождя, оставшаяся между чешуйками гре-мучей змеи. Тем не менее, змея жива. Земля живет.
Если бы змея умерла, мы все погибли бы. Одна лишь ее жизнь делает влажной почву, из которой растет наша кукуруза. Из ее чешуек мы добываем серебро и золото, а деревья держатся за нее корнями, словно наши волосы - за подкожные корни'.10
10 Lawrence D.H. Le Serpent à Plumes. Trad., pp. 204-205.
253
Логик, реалист, зоолог - и литературный критик класси-ческого пошиба - совместно могут одержать несложную побе-ду над подобными утверждениями. Здесь можно изобличить избыток воображения и даже противоречия между образами: разве змея не нагое существо, так как же вообразить ее 'волоса-той'? Разве змея не хладнокровное существо, так как же вооб-разить ее живущей в средоточии огня? Но за Лоуренсом надо следовать не в предметном мире, а в мире грез, в мире энерге-тических видений, где вся земля является вселенской змеей, свернувшейся в узел. В этом фундаментальном существе соче-таются противоречащие друг другу атрибуты - перья и чешуя, воздушное и металлическое. У нее все потенции живого; у нее человеческая сила и растительная лень, способность творить во время сна. На взгляд Лоуренса, земля - это змея, свернувшая-ся в спираль. Если содрогается земля, то это грезит змея.
Само собой разумеется, приведенная страница Лоуренса оказалась бы убедительнее, если бы мы могли поразмыслить над ней, исходя из мексиканского фольклора, отмеченного присутствием змеи в мире. Однако же, эта страница - не просто комментарий. Она соответствует прямому видению писателя, его непосредственной сцепленности с ползучей зем-ной жизнью. Она показывает нам, что, следуя могуществу архетипа и увеличивая образ змеи, воображение, как прави-ло, приобретает фольклорный оттенок. Лоуренс имеет дело даже с живым фольклором, с фольклором искренним, с та-ким, что не всегда бывает знаком желающему развлечься фольклористу. По существу, кажется, будто автор верит в свои причудливые образы, в образы, не сопрягаемые с объек-тивными ценностями, в образы, которые были бы пассивны-ми в воображении 'я-ты', в образы, стершиеся бы при ма-лейшей активности разума или опыта. Он инстинктивно зна-ет, что обрабатывает твердые основы бессознательного. Его оригинальное видение, наполненное неожиданными образа-ми, освещается светом, возникающим в глубинах.
Если бы мы продолжали идти к источнику образов, если бы мы искали материю под явленным, рептильную материю под ползучим существом, змеиную субстанцию под вытяги-вающимся и выгибающимся существом, мы поняли бы, что
254
образ естественно преодолевает сам себя. Элемир Бурж как раз говорил об 'офионическихА атомах', составляющих первома-терию многих его чудовищ. Тем самым офионическую суб-станцию можно считать изначальной чудовищностью: она из-начальна, словно атом, и, как и атом, неразрушима. Эта офи-оническая субстанция может, подобно зародышу, переносить-ся в инертную материю и в мертвую землю. Она вытягивает шарик и наделяет его способностью ползать. Это и есть тот самый воображаемый витамин S, выделенный нами в столь выразительно анимализированном воображении Виктора Гюго.
Между тем, что питает, и тем, что порождает, всегда су-ществует некий материальный плеоназм. Описывая персть тела и металл чешуи, из которых состоит 'змея-грех', суще-ство земной сокровенности и искрящегося соблазна, - Су-инберн в превосходной работе о Блейке (Fontaine, no. 60, р. 231) упоминает 'серпантинную пищу змеи', 'тело из креп-кой и податливой глины, прекрасное, покрытое сыпью ядови-той фосфоресцирующей коросты, зараженное холодной разно-цветной чешуей, подобной струпьям проказы на коже; с зеле-новатой бледностью напряженной пасти и выставленным на-показ горлом в огне, сравнимом с кровью; с зубами и когтя-ми, сжимающимися в конвульсиях от болезненного наслажде-ния болью, с веками, раздираемыми темным пламенем жела-ния, со зримым в дыхании ядом, что есть силы выплескивае-мым в лицо и глаза божественной души человеческой...'
Чтобы питать это существо, рожденное из земли, есть ли пища лучше самой земли? Слова Ветхого Завета, обрекающе-го змея-соблазнителя на поедание персти земной, звучат эхом во всяком воображении земли". С помощью грезы змейА
А Офионический (греч.) - змеиный.
11 В 'Калевале' читаем о змее:
Головой в траву уткнися, Устреми ее на холмик, - В дерне лишь твое жилище, И убежище под кочкой.B
А Здесь опять же следует иметь в виду, что в оригинале змея и змей - одно и то же существо. Их приходится различать только в русском переводе.
B Калевала, с. 337.
255
пожрет всю землю, он переварит такое количество ила, что сам сделается илом, он станет первоматерией всех вещей. Образ, выдвигающийся в ряды первообразов, становится первоматерией воображения. Это справедливо на уровне каждой из стихий. Это также верно до деталей на уровне индивидуальных образов. Офионическая материя пропи-тывает и наделяет индивидуальностью воображаемую зем-лю Лоуренса.
Несомненно, у читателя, не имеющего земной жилки в воображении, вряд ли возникнут отзвуки по прочтении при-веденной страницы Лоуренса; а вот 'земная' душа, наоборот, поразится тому, до какой степени верным образу земной мате-риальности можно оставаться, преодолевая значительные про-тиворечия. К примеру, разве металлическое воображение усом-нится в том, что золото или серебро можно добывать из чешуи чудовищного дракона? Ведь изготавливают же перламутр из чешуи уклейки? Так отчего бы не добывать сияющую сталь из змеиного платья с золотыми и серебряными узорами?
И вот, грезы идут своей дорогой... Они накапливают син-тезы, они проявляются как синтезы. Во взаимно обратных синтезах одушевляются образы. Образы инвертируют свою способность к синтезу: если дракон - страж сокровищ, то это потому, что он и сам - груда сокровищ, монстр, состоящий из карбункулов и металла. Дракон - это существо, выкованное кузнецом и золотых дел мастером, символ, соединяющий силу земли с ее драгоценностями. Чтобы понять, что такое Дракон Алхимиков в его материальности, достаточно наделить сокро-венностью эту символику, этот союз силы и ценности. Алхи-мики мыслят о блестящем цвете вглубь, вглубь они мыслят и об агрессивности субстанций. Стало быть, они считают, что прожорливый волк рождается из прожорливого атома.
Писатели выражают те же вещи проще, слишком просто: 'В некоторых краях, - пишет СентинА, - змеи способны откры-вать клады' (La Seconde Vie, 1864, p. 131). Сентин написал
А Сентин, Ксавье Бонифас (1798-1865) - франц. писатель; автор ко-медий и водевилей; более всего известна его повесть 'Пиччола' (1836).
256
сказку 'Псилла'А о пожирательнице золота. Что это, метафора для обозначения расточительной женщины? Нет, псилла - это уж, пожирающий луидоры рассказчика. Так образам по-рою случается находить опору в отдаленных метафорах чело-веческого поведения. Пожирать деньги - это совсем несложно для змеи, питающейся землей. Столь абстрактный образ де-лается в повествовании романиста абстрактно-конкретным. Он в высшей степени конкретен для наивно материалисти-ческого воображения металлической змеи. Чтобы быть блес-тящим, словно серебро (argent), надо пожирать деньги (argent).
Здесь можно обнаружить массу текстов, располагающихся между образом и метафорой. Приведем один из них в каче-стве примера. В 'Евгении Гранде' Бальзак описывает старого скрягу так: 'Если говорить о финансах, г-н Гранде походил на тигра и удава: он умел залегать, съеживаться, пристально разглядывать добычу, набрасываться на нее; затем он рас-крывал пасть кошелька, тратил некоторое количество взятых оттуда экю и спокойно залегал, словно переваривающая пищу змея, безучастная, хладнокровная и методичная.' Чтобы убе-диться, что 'пасть кошелька' не имеет ничего общего с ви-зуальным образом, достаточно поразмыслить над приведен-ным образом на нескольких уровнях. Этот образ возникает в более скрытой и глубинной инстанции бессознательного. Это Иона-финансист, которого можно присовокупить к те-мам, проанализированным АлландиB в книге 'Капитализм и сексуальность'.
Итак, греза ставит проблему обратимости конкретного и абстрактного. Она подвергает всевозможные пропозиции про-стой логической конверсии, совершенно не учитывая пра-вил, эту конверсию ограничивающих. Это следствие субстан-циальности грезы, т. е. первенства материального воображе-ния над воображением форм и цвета.
А Псилла - в древности: дрессировщица змей.
B Алланди, Рене Феликс (1889-1942) - франц. врач, психоаналитик и оккультист. Адепт Парацельса. Автор книг 'Символизм чисел' (1921); 'Проблема судьбы' (1927); 'Парацельс, проклятый врач' (1937). 'Днев-ник больного врача' (1944).
257
Такая свобода перелицовки субстанции и атрибутов, есте-ственно, достигает вершины в литературном воображении, становящемся подлинной силой освобождения человека. Воз-вращаясь к процитированной странице Лоуренса, мы с пол-ным основанием заявляем, что все будет прочитываться, что самые причудливые литературные образы смогут навевать грезы, если литература воспользуется естественным фондом воображения, а змея - один из элементов этого фонда.
И тогда литература предстанет в облике современного фольклора, фольклора в действии. Что за странный фольк-лор, тяготеющий к диалектизации стародавних образов по-средством экзотических штрихов! Теперь литература пре-вращается в гигантский труд над языком, когда образы не-сут клеймо воображаемого синтаксиса. Существительным (substantifs) она возвращает их субстанцию. Похоже, что для всех слов складывается субстанциальная этимология, эти-мология материальная. В связи с образом змеи мы собира-емся представить новое доказательство важности материаль-ного воображения.
IX
Мы чересчур склонны судить о символах с точки зрения форм. Всякий сразу же скажет, что змея, кусающая себя за хвост, является символом вечности. Здесь, без сомнения, змея причастна к гигантской мощи грез о кольце. С кольцом сопря-жено столько образов, что потребовалась бы целая книга, чтобы их расклассифицировать и установить взаимодействие между сознательными и бессознательными ценностями. Чем бы змея ни была в редкостных образах, животный вариант кольца - этого уже достаточно для того, чтобы она прониклась сопричас-тностью к любому кольцу вечности. Но философский коммен-тарий здесь ничего не добавляет. К примеру, философская тяже-ловесность этого образа, прокомментированного Элемиром Бур-жем, совершенно не способствует медитации над этим символом: 'Непрестанно брачующийся с самим собой в лоне моем, словно змея, обвивающаяся вокруг себя, словно глубокая протяжен-
258
ность - вокруг протяженности, а длительность - вокруг дли-тельности, я - бог твой, Существо существ' (La Nef, p. 254).
Но все оживает, если в образе змеи, кусающей себя за хвост, мы начинаем искать символ живой вечности, вечности, служа-щей причиной самой себя, собственным материальным основа-нием. И тогда надо представлять себе укус, одновременно и активный, и смертельный, в диалектике жизни и смерти.
Чем более динамизирована одна из сторон диалектического противоречия, тем с большей отчетливостью предстанет эта ди-алектика. Ведь яд и есть сама смерть, материализованная смерть. Механический укус - ничто, зато капля смерти - все. Капля смерти, источник жизни! В должные часы, при хорошем соче-тании звезд, яд приносит исцеление и молодость. Кусающая себя за хвост змея - это не сложенная нить и не просто кольцо плоти, это материальная диалектика жизни и смерти, смерть, исходящая из жизни, и жизнь, исходящая из смерти, и не как противоположности платоновской логики, а как бесконечное инвертирование материи смерти и материи жизни.
Ставя себе задачей восхваление Ван-ГельмонтоваА Альке-ста, Ле Пеллетье пишет: 'Это змея, которая сама себя ужали-ла и извлекла новую жизнь из собственного яда, чтобы сде-латься бессмертной' (p. 186).11bis Впоследствии Ле Пеллетье добавляет: 'Она становится Ферментом самой себя' (р. 187). Если как следует представить себе подсознательную ценность фермента в донаучные эпохи, мы уразумеем, что существо, ставшее ферментом самого себя, одолело всякую инерцию.
Тем самым алхимическая интуиция обнаруживает своего рода сокровенность в символе вечности, каким является свернувшаяся змея. Именно в самой материи, с помощью медленной дистилляции змеиного яда, происходит подготов-ка к смерти того, чему предстоит умереть, и к жизни того, чему суждено выжить. Мы столь всесторонне рационализи-
А Ван Гельмонг, Ян Баптист (1579-1644) - бельг. врач, алхимик и химик. Открыл углекислый газ и придумал сам термин 'газ'. Изобрел термометр.
11 bis Le Pelletier J. L'Alkaest ou le Dissolvant universel de Van Helmont, 1704.
259
ровали перегонный куб, что преградили путь всяким грезам о его змеевике. Для нас змеевик - не более чем спиралевид-ная трубка, ловко размещенная в цилиндрической емкости, и мы охотно верим, что название змеевика происходит по-просту от свойственной ему формы и не выходит за пределы царства формальных аналогий. Но для великих грезовидцев дистилляции змеевик действительно был телом змеи. Про-стая трубка, он испускал струю жидкости, если изготовитель виноградной водки (brandvinier) не вкладывал в свой спирт должную порцию грез. Если же огненная вода вытекала кап-ля за каплей, то змеевик исполнял свою функцию животного с кольцами, а перегонный куб также производил свой омо-лаживающий продукт, воду жизни, которая побежит по жи-лам подобно целебному яду12.
В таком случае понятно, почему Ван-Гельмонтову Альке-сту дали имя 'великий Круговращаемый' (grand Circulé). То, что дистиллятор - homo destillans - осуществляет искусст-венным путем, змея, кусающая себя за хвост, делает по при-роде, точнее говоря, в силу природной необходимости. Что-бы свершилась мистерия яда, чтобы начала действовать диа-лектика яда, необходимо, чтобы время от времени змея куса-ла себя за хвост. И тогда змея творит себе новую кожу; ее существо подвергается глубинному обновлению. Ради этого укуса, ради такого обновления рептилия прячется - вот от-куда ее тайна. 'Во все времена и у всех народов, - пишет Касснер (Les Eléments de la Grandeur humaine. Trad., p. 201), - змея считалась таинственным животным, животным маги-ческим, животным-метаморфозой'13.
12 См. анимализацию перегонного куба в романе Золя 'Западня', (chap. X). Герберт Зильберер (Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, p. 213) превосходно усмотрел важность медленной дистилляции для бессозна-тельного. С его точки зрения, дистиллировать означает падать по капле (destillare = herabtropfen).
13 В АтхарваведеA змеи берут свой яд у некоей высшей силы. 'Этот яд дает змеям ресурсы для их существования' (trad. Victor Henry, liv. III, 1894).
A Атхарваведа - Веда магических заклинаний, искусительных молитв и загадок, предназначенных для исцеления всевозможных недугов. Со-держит 731 гимн. Считается весьма 'простонародной' и менее совершен-ной, нежели остальные 3 Веды.
260
Когда мы поймем, что свернувшаяся змея - не столько кругообразная форма, сколько круговращение жизни, мы точнее оценим кое-какие легенды. Так, в 'Романе о Сид-раке', опубликованном Ланглуа, читаем: 'Всякая змея, ко-торая не была по случайности убита, живет тысячу лет и превращается в дракона' (Т. III, р. 226). Тем понятнее ста-новятся некоторые медицинские снадобья вроде гадючьего бульона или порошка из гадюки. Чтобы доказать, что у материи тоже есть свои легенды, достаточно прочесть одну лишь книгу ШарасаА о гадючьей соли. Материя змеи - легендарная материя.
X
Если теперь мы проследим за динамическим воображени-ем, возбуждаемым традиционным образом змеи, мы сможем сказать, что слово 'змея' представляет собой подлежащее к глаголу сплетать или обвивать (enlacer), a также к глаголу проскальзывать. Пресмыкающиеся стремятся к прикоснове-нию; как выразился Лоуренс, 'контакт влечет их' (Kangourou, р. 391). Они скручиваются в спираль ради прикосновения к самим себе. Они сплетаются, чтобы ощущать друг друга на всем протяжении своих тел. Несомненно, многие найдут это мнение весьма неполным, но малой толики внимания хва-тит, чтобы признать, что это - один из моментов нашего воображения, первый его момент, вскорости преодолеваемый более значительными интересами. И все-таки странно, что о ЛаокоонеB столько написано, но вряд ли кто-нибудь рас-сматривал его с точки зрения змеи. А, тем не менее, слегка анимализированное воображение ощутит некоторое наслаж-дение, ощущая в себе силы связывающего существа, суще-ства обвивающего. Оно почувствует характерные черты комп-
А Шарас, Моиз (1619-1698) - франц. фармацевт. Жил при британ-ском, голландском и испанском дворах. Вернувшись во Францию в 1689 г., в 1692 г. стал членом Академии. Трактат о яде гадюки написал в 1672 г.
B Лаокоон - троянский герой, жрец Аполлона, Афина наслала на него и двух его сыновей чудовищных змей, чтобы убить их.
261
лекса Лаокоона там, где воображение 'подвешено' между омерзением и очарованностью. Мы с большой живостью ощу-тим эту амбивалентность, глядя на заклинателя змей или на женщину в ожерелье из рептилий. Змея, существо нагое, обна-жает ее. Змея, одинокое существо, ее изолирует. Подобное впечатление поразило Рудольфа Касснера. 'Заклинатель змей, - утверждает он, - работает с помощью своеобраз-ного миметизма обнаженного движения, подвижной наготы: замечательное свойство этого лица - то, как оно собрано, как в чертах его отпечатались змеиные движения, - тем са-мым его яростная агрессивность становилась зеркалом жи-вотного, и некогда человеку именно так предстояло превра-титься в змею, стать змееподобным. В этом-то и состоял смысл его наготы: это нагота подвергающегося метаморфозе. Он был наг, словно животное, а не как человек.' (Le Livre du Souvenir. Trad., p. 178). В первой главе книги 'Земля и грезы воли' мы говорили, что твердые и крепкие виды материи показывают образы нашей воли. Некоторые животные - и змея среди них - дают нам особые уроки воли; они напоми-нают нам о сходных явлениях животной воли. Судороги об-витого змеями Лаокоона реагируют на витки тех, кто его обвивает.
Таковы подобия, которые умеет изображать современная литература с ее новейшим искусством обращения к образам напрямую, без всякого живописания. В 'Черном музее' Пьей-ра де МандьяргаА читаем: '... Лаокоон притягивает свои взгля-ды, а судороги группы кажутся ему в той же мере и вызова-ми, каковые надо немедленно принять, и приглашениями к взаимодействию между камнем и кожей...' (р. 94). А вот как грезовидца застает наваждение змеиной наготы: 'Благодаря любопытному обману чувств кажется, будто группа одушев-ляется от прикосновения к нагому человеку; и все же камень остается камнем, и все же не бывает другого чуда, кроме этой немного причудливой природы, что позволяет нашему
А Пьейр де Мандьярг, Андре (р. 1909) - франц. писатель. Цитируется его сочинение 'Черный музей' (1946).
262
человеку нарушить свою привычную форму, чтобы слиться со всеми объектами желания при единственном условии со-хранения собственного объема.' (р. 95). Писатель - тоже материя и движение образов; он хочет переживать весьма специализированные движения рептилий, объединенные об-вивающей агрессивностью с движениями Лаокоона: 'Видите, как он теперь вытягивается? Он снова превратился в голо-вокружительную спираль, набрасывающуюся на благородно-го старика; в некоторые моменты ослепленному взору пред-стает не более чем Мальстрем бледно-золотых отблесков, про-бегающих по мрамору так, будто они вот-вот в нем увязнут; затем хлещущая нить, напоминающая тонких древесных реп-тилий Индонезии (Insulinde), нависает под мускулистым ре-льефом статуи; все это утолщается до тех пор, пока не стано-вится чем-то вроде гидры или кальмара; и вот, выводок тол-стых змей, вышедших из рук, ног и всего тела человека, и змеи сливаются с его окаменелым изображением.' Итак, руки и ноги сами представляют собой нечто рептилиеобразное. Ди-намическое воображение выражает уподобление существа, под-вергшегося нападению, существам нападающим. Кажется, будто сам камень отвечает на колыхания змей. Речь идет уже не о разглагольствовании в духе Шопенгауэра, молчит ли Лаокоон или кричит. Пьейр де Мандьярг динамически встал на сторону змей. Если он и навострил уши, то лишь для того, чтобы сказать, что нам 'не хочется больше слышать непрес-танный шум стремительных колец', шум, 'напоминающий мнущиеся ремешки'. На следующей странице после того, как певчие птицы устроят экзорцизм этого шума, змеиный узел развяжется, и наваждение, в котором действует Лаокоон, ос-лабеет, подготовив досужего читателя к новым образам, к новому напряжению.
Приведенная страница из Пьейра де Мандьярга могла бы служить темой подлинной териодрамыА, в том же смысле, в каком Морено говорит о социодраме. По существу, вообра-
А Неологизм, означающий 'зверодрама' и образованный по типу со-циодрамы, психодрамы и прочих современных психологических техник.
263
жение часто ощущает потребность соизмерять себя с живот-ными. Наши средства воображаемой агрессивности столь мно-гочисленны, что нам необходимо коллекционировать типы животной агрессивности, чтобы как следует познать себя ди-намически. Творчество Лотреамона во многих отношениях представляет собой альбом териодрам. В воображаемом плане оно помогает нам реализовать вселенную нашего скотства.
Те же уроки динамического воображения мы получим, если будем рассматривать змею как анимализированное под-лежащее к глаголу проскальзывать. Так, Бёме в 'Трех прин-ципах' пишет (Trad., t. II, p. 12): 'Демон... проскользнул в змею'. Мы не можем смотреть на это скользящее животное иначе, как наблюдая за его скольжением, за его извивами. Тем самым здесь обретают свою фигуральную этимологию весьма абстрактные смыслы типа 'шепнуть кому-нибудь сло-вечко'А, хотя они и прошли несколько этажей метафор.
Впрочем, в такой механике животного скольжения мы встречаем множество динамических образов, уже отмечен-ных в нашей главе о хождении по лабиринту:
...Parfois l'éclair bleuâtre d'un reptile Éclaire brusquement l'horreur de ses caveaux,
(Порою голубоватая молния рептилии Резко освещает мерзость ее подземелий), -
говорит Лоран ТайядB (Poèmes élégiaques. Oeuvres. I, p. 121), объединяя два образа - лабиринта и змеи.
Но здесь можно разглядеть лишь мимолетный образ. Мы же собираемся показать, что он обозначает движение обра-зов, которое может увлечь все существо до самых его глубин. Подобно тому, как мы завершили главу о лабиринте страни-цей из Белого, мы можем почерпнуть из того же источника заключение и главы о змее.
А Буквально: дать слову проскользнуть в чье-нибудь ухо.
B Тайяд, Лоран (1854-1919) - франц. писатель. Автор классического перевода петрониевского 'Сатирикона' (1902)..
264
Грезы Белого фактически смешаны с воспоминаниями о лабиринтах и с впечатлением щупальцев. Их оживляют змеи: '... я одной головой еще в мире: ногами - в утробе; утроба связала мне ноги: и ощущаю себя - змееногим; и мысли мои - змееногие мифы, переживаю титанностиА.
...змеи ползают - в нем (в самом теле ребенка), вкруг него; наполняют его колыбель'B. История о змеях в колыбе-ли Геракла не навевает нам сокровенности мифа. Подстере-гаемая внешними образами, она тотчас же трактует сокро-венный миф как борьбу рук с внешним врагом. И наоборот, полная грез история нашего поэта сообщает о борьбе с внут-ренней рептилией, с сокровенным врагом, извивающимся в его собственном теле. Белый пишет: 'Продолжаю облклады-вать словом первейшие события жизни: - ощущение мне - змея: в нем - желание, чувство и мысль убегают в одно змее-ногое, громадное тело Титана; Титан - душит меня и созна-ние вырывается: вырываюсь - нет его... - за исключением какого-то пункта, низверженного - в нуллионы Эонов; оси-лишь безмерное... Он не осмысливал'C.
Да-да, сознание убегает, - побыв мгновение горячим в брыз-нувшей энергии, а затем холодным, оно ускользает, у него нет очертаний, оно колышется в мускулах, под кожей, вздувая бедро, словно крупная рептилия... Грезьте в самой материи вашего тела, пытаясь обрести первозданные силы, - если же ваше первое ощущение было поистине титаническим, вы пробудите образы Титана, ворочающего змеями в своей колыбели. И тогда вы поймете ужас и истинность формулы Белого: ощущение - это змея.
Впоследствии ощущение артикулируется, вычленяется, локализуется. Однако в наших первых грезах - а мы не можем отделить наши первые грезы от первых ощущений - оно представляет собой вздувание, которое распространяется, вздувание, наполняющее все тело.
А Титаны - сыновья Урана-Неба и Геи-Земли, первые жители земли, сброшенные отцом в бездонную пропасть Тартара. Как и змей, связаны с 'нижним' миром - подземными или водными стихиями.
B А. Белый. Сочинения. Т. 2, с. 299.
B Там же.
265
В дальнейшем Белый выражает свои воспоминания о пер-вых ощущениях так: 'Ощущения отделялись: она стала - навислостью; в ней я полз, как в трубе; и за мною - ползли - из дыры; таково вхождение в жизнь......'A.
Читая эти страницы, как и некоторые другие, последова-тели Отто Ранка без колебаний поставят диагноз: родовая травма. Но Белый связывает свои впечатления ползучего су-щества с любым рождением. А ведь всякие значительные гре-зы в нас - это некое рождение. Похоже, что для Белого все начинается с вытягивания, вытягиваясь медленно и болез-ненно. Материально сознание рождается из какого-то растя-жения, динамически - из колыхания. Это и есть рептилие-образное воображение. Это воображение земного существа, бродящего по черным подземным ходам.
Только земное и подземное воображение может способство-вать прочтению столь необычайных грез. При отсутствии под-готовки к материальным и динамическим образам мы утрачи-ваем благотворность обнаруженных писателем первозданнос-тей. Как иначе воспринять индуктивный динамизм грез, по-добных вот этой: 'Предлиннейший гад, дядя Вася, мне выпал-зывал сзади; змееногий, усатый, он потом перерезался; он од-ним куском захаживал к нам отобедать, а другой - позже встретился: один пошел к нам ужинать, а другого я встретил позднее на обертке полезнейшей книжки... "Вымершие чудо-вища"; называется он "динозавр"; говорят, они вымерли, еще я их встречал: в первых мигах сознания'B. В сущности, змея - нечто вроде выпуклого подземелья, живого дополнения к лабиринту. По существу, Белый обретает синтез образов лаби-ринта и образов змеи, не забывая финального фаллического образа, пережитого так отчетливо, что он избавляет от пред-шествовавших тревог: 'Так вот, стало быть, образ моего вос-хождения в жизнь: галерея, свод и тьма и гнавшиеся за мной
змеи......Этот образ сродни образам моих мучений в галереях
храма в обществе человека с головой быка, со скипетром в руке...'.
А А. Белый. Сочинения. Т. 2, с. 302. B Там же, с. 302-303.
266
XI
Само собой разумеется, для воображения всякое ползучее существо сродни змее. Червь, который мог бы сделаться пред-метом литературной монографии, весьма часто воспринима-ется как набросок рептилии. Читая Бёме, мы встретим много примеров с контаминацией образов червя и змеи. Например, для воображения огня нет ничего обычнее сравнения пламе-ни с гадюкой. Бёме же говорит попросту о 'прекрасном чер-ве, блещущем лишь в огненном зареве' (I, р. 319).
Среди животных, располагающихся под земным знаком, следует упомянуть еще и муравьев, которых один старый переводчик апулеевского 'Золотого осла' в 1648 г. называет 'юркими питомцами земли'. Существует множество легенд, где муравьи фигурируют как стражи сокровищ. Приведем лишь один пример, взятый из 'Бестиария' Филиппа Танско-го: 'В Эфиопии есть муравьи, большие, точно собаки; они собирают золотой порошок в реке, что там течет; но никто не приблизится к их сокровищам из страха быть искусанным и погибнуть. Жители того края придумали хитрость: они по-сылают к сим муравьям кобыл, каковым случается там жере-биться, будучи груженными раскрытыми сундуками; мура-вьи наполняют эти вместилища золотом; и тогда жеребят заставляют ржать, после чего кобылы уносятся прочь.' (Langlois. III, p. 19) (см. также Геродот, III, 10). Геркулесова сила муравьев также заслуживает быть отмеченной. С точки зрения РейсбрукаA Великолепного, 'сие малое насекомое... одарено силой и благоразумием, и жизнь его весьма сурова' (L'Ornement des Noces spirituelles. Trad. 1928, p. 114).
К тому же, например, в индийском фольклоре муравей-ник часто ассоциируется со змеей; так, в муравейнике змея скручивается в спираль. Во многочисленных текстах в мура-вейниках бывают скрыты клады, а охраняют их змеи (ср. Vogel J.Ph. Indian Serpent lore, p. 28).
A Рейсбрук Великолепный (Блаженный Ян Ван Руусбрук) (1293-1381) - брабантский теолог и писатель, приор Ордена августинцев. Автор знаме-нитых трудов: 'Духовный брак', 'Зерцало вечного спасения', 'Семь сту-пеней духовной любви'.
Глава 9. Корень
Никто не знает - а вдруг его тело -
растение, выращенное землей,
чтобы дать имя желанию.
Люсьен Беккер
I
Философская привилегия первообразов со-стоит в том, что при их изучении, в связи с любым из них, мы можем разбирать почти все проблемы метафизики воображения. В этом отношении особенно удо-бен образ корня. Подобно образу змеи, он соответствует взятому в юнгианском смысле архетипу, погребенному в бессознательном всех рас, и, в промежутке от наиболее про-ясненной части духа до уровня абстрактного мышления, архетип этот может создавать множество метафор, всегда простых и понятных. Тем самым и в высшей степени реа-листичный образ, и весьма вольные метафоры проходят сквозь все пласты психической жизни. Психолог, который займется подробным изучением всевозможных образов кор-ня, подвергнет исследованию всю человеческую душу. У нас нет возможности написать об этом целую книгу, и по-тому мы собираемся посвятить этому главу.
Драматические ценности корня сгущаются в одном-един-ственном противоречии: корень есть живая смерть. Эта подземная жизнь интимно нами прочувствована. Грезящая душа знает, что такая жизнь - это долгий сон, расслаблен-ная и медленная смерть. Но бессмертие корня находит нео-
268
провержимое доказательство, ясное доказательство, на ко-торое весьма часто ссылаются, как, например, в Книге Иова (14, 7 и 8).
'Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срубле-но, снова оживет, и отрасли от него выходить не переста-нут;
если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли'.
Грандиозны скрытые образы, проявляющиеся вот так. Воображение всегда стремится сразу и грезить, и понимать, грезить, чтобы лучше понимать, а понимать, чтобы лучше грезить.
Если рассмотреть корень как динамический образ, то ока-жется, что он в равной степени наделен самыми несходны-ми силами. Это одновременно и сила опоры, и пробурав-ливающая сила. В пределах двух миров - воздушного и земного - образ корня парадоксально одушевляется в двух направлениях, в зависимости от того, грезим ли мы о кор-не, возносящем к небу соки земли, или же о корне, рабо-тающем в царстве мертвых, для мертвых. Например, хотя крайне заурядными считаются грезы о корне, окрашива-ющем распустившийся цветок, все же можно найти ред-костные и прекрасные образы, придающие созерцаемому цветку своего рода силу укоренения. Таков превосход-ный образ Люка Декона, и Леон-Габриэль Гро справед-ливо объясняет его динамикой 'буйства упования', ди-намикой пробуравливающей надежды:
La fleur a donné les racines immenses La volonté d'aimer malgré la mort.
(Цветок пустил глубокие корни Такова воля любить вопреки смерти.)
1 Gros L.-G. Luc Decaunes ou les Violences de l'Espoir // Cahiers du Sud. Décembre 1944, p. 202.
269
II
Корень есть всегда некое открытие. Грезят о нем боль-ше, нежели его видят. Когда мы его обнаруживаем, он удив-ляет: разве это не камень в сочетании с шевелюрой, не гиб-кое волокно в сочетании с твердым деревом? Он дает нам пример противоречий в вещах. Диалектика противополож-ностей в царстве воображения осуществляется при помощи объектов, в оппозициях субстанций, отличающихся друг от друга и как следует овеществленных. Насколько мы акти-визировали бы воображение, занявшись систематическими поисками противоречащих друг другу объектов! Тогда бы мы увидели, как в великих образах, подобных корню, на-капливаются противоречия между объектами. В таких слу-чаях отрицание касается вещей, а не просто согласия на функционирование глагола, или отказа от такового. Обра-зы представляют собой психические первореальности. В са-мом опыте все начинается с образов.
Корень - это таинственное дерево, дерево подземное, дерево опрокинутое. Для него самая темная земля - слов-но пруд, хотя и без пруда - это тоже зеркало, странное тусклое зеркало, удваивающее всякую воздушную реаль-ность при помощи подземного образа. Благодаря таким грезам философ, пишущий эти страницы, в достаточной степени отмечает, какой избыток смутных метафор втяги-вает его, когда он грезит о корнях. Извинить его может лишь то, что, читая книги, он достаточно часто сталки-вался с образом дерева, растущего в обратную сторону, дерева, чьи корни, словно легкая листва, трепетали на подземном ветру, тогда как ветви были крепко укоренены в голубом небе.
К примеру, такой большой любитель растений, как Лекенн, поведав об опыте Дюамеля, на самом деле пере-вернувшего молодую однолетнюю иву, чтобы ветви стали корнями, а корни шелестели листвой в воздухе, пишет: 'Иногда, отдыхая в тени дерева после работы, я дохожу до полупотери сознания, смешивающего землю и небо. Я
270
думаю о листвах-корнях, жадно пьющих небо, и о корнях, сочетающих чудесную листву с чудесными ветвями и вибри-рующих под землей от удовольствия. Растение для меня - это не просто стебель и несколько листьев. Я вижу его и с этой второй листвой, трепещущей и сокрытой '2. Это пси-хологически полный текст, поскольку тексту Лекенна пред-шествует его рационализация в опыте Дюамеля. 'Над тем, истинность чего доказал Дюамель, можно и погрезить', - соглашается наблюдатель. Так с реальностью смешивают-ся всевозможные грезы о черенках, привоях и отводках. Но откуда происходит такая практика? Любой позитив-ный ум ответит, что она берется 'из опыта' и что удобный случай научил первых земледельцев искусству привоя. Но, может быть, философу, исследующему образы, позволят, наоборот, отстаивать привилегию грез. Он вспоминает, что в своем маленьком саду посадил безбрежные леса и долго грезил подле победоносных рядов саженцев, где разводил виноград отводками у кромки посадок люцерны. Да-да, к чему отвергать 'научную гипотезу' о грезах, предшеству-ющих техническим методам? И разве первые опыты по размножению черенками не были навеяны столь часто встречающейся и могущественной грезой о перевернутом дереве?
В связи со столь многочисленными и разнохарактер-ными образами, обыгрывающими столько противоречий, надо ли удивляться, что слово 'корень', употребляемое в психоанализе, дает о себе знать по несметному богат-ству ассоциаций? Это индуцирующее слово, слово, вызы-вающее грезы, слово, попадающее в наши грезы. Про-изнесите его плавно по любому поводу, и оно унесет грезовидца в его отдаленнейшее прошлое, в его глубо-чайшее подсознание, и даже за пределы того, чем ког-да-либо была его личность. Слово 'корень' помогает нам дойти до корня всех слов, до коренной потребности вы-ражения образов:
2 Lequenne. Plantes sauvages, pp. 97-98.
271
Les noms perdus de ma présence humaine
S'en allaient a leur tour vers les arbres dormants.
(Утраченные имена моего человеческого присутствия Ушли, в свою очередь, к спящим деревьям.)
(Delétang-Tardif Y. Tenter de vivre, p. 14.)
Достаточно понаблюдать за деревьями в земле, где они спят всеми своими корнями, чтобы отыскать в 'утрачен-ных именах' человеческие непреложности. Тем самым де-рево указывает одно из направлений грез:
Au dehors l'arbre est là et c'est bon qu'il soit là, Signe constant des choses qui plongent dans l'argile,
(Наружу дерево выходит вон там, и хорошо, что оно там, Это постоянная примета вещей, погружающихся в глину)3,
говорит редкостный поэт, умеющий прочитывать домини-рующую примету вещей. Благодаря этому он, подобно Вик-тору Гюго, обретает 'рядом с корнями'
Le revers ténébreux de la création
(Сумрачную изнанку творения.) (La Légende des Siècles. Le Satyre.)
У того, что на земле поистине крепко, с точки зрения воображения, есть глубокий корень. На взгляд Виктора Гюго, 'город растет, словно лес. Кажется, что фундамент наших жилищ - не фундамент, а корни, живые корни, по которым струится древесный сок'4.
Точно так же стоит персонажу Вирджинии Вулф подер-жать в руке стебелек, как получается корень: 'Я держу в руке стебелек. Да я и сам стебель. Корни мои погружаются в глубины мира, сквозь сухую глину и влажную землю,
3 Guillevic E. Terraqué, p. 132.
4 Hugo V. Le Rhin. T. II, p. 134.
272
сквозь свинцовые и серебряные жилы. Тело мое теперь пре-вратилось в волокно. Все потрясения отзываются во мне эхом, а вес земли давит мне на ребра. Там в вышине глаза мои стали слепыми зелеными листьями. Я - маленький мальчик, одетый в серую фланель'5. Психоаналитик, прак-тикующий сны наяву, моментально распознает грезу о нис-хождении. Ей свойственна чудесная онирическая легкость. Грезовидец телом и душой следует, куда его влечет объект: он стебель, а потом корень, он знает всю жесткость лабирин-та; словно рудоносная жила, он скользит в тяжелой земле. В конце этого превосходного онирического свидетельства мы не стали убирать фразу: 'Я - маленький мальчик, одетый в серую фланель', чтобы продемонстрировать, с какой непри-нужденностью, словно простым щелчком, Вирджиния Вулф умеет возвращать грезящих в реальность. По существу, в пере-ходе от реальности к грезам ощущается непрерывность, одна-ко - важнейший парадокс - любой переход от грез к реально-сти прерывен. Всякое пробуждение есть краткое всплывание. В этом романе Вирджинии Вулф можно найти и другие грезы о корне: 'Мои корни спускаются сквозь свинцовые жилы, сквозь серебряные жилы, сквозь сырую почву, ды-шащую болотными испарениями, до самого центрального узла, состоящего из дубовых волокон' (р. 92). И тот же грезящий показывает нам спутанную жизнь тесно растущих деревьев: 'Корни мои обвились вокруг земного шара, слов-но корни растений в цветочном горшке' (р. 26). Таков еще один способ охватить всю землю коварными корнями. Тот же образ живет в одном из стихотворений Реверди:
Les racines du monde pendent par-delà la terre
(Корни мира свисают через всю землю.)
{Reverdi P. Plupart du Temps, p. 353.)
5 Woolf V. Les Vagues. Trad., p. 18.
273
Порою образ корня, в отличие от того, что мы видим у Вирджинии Вулф, одушевляет не только страницу, но и целое произведение. Прочтите, к примеру, повесть Михаи-ла Пришвина 'Женьшень', и вы узнаете всю мощь синте-за, вызываемого этим образом корня. Погружаясь в грезу, мы больше не знаем, является ли женьшень корнем расте-ния или же корнем жизни (trad., p. 51): 'Иногда я думаю об этом так глубоко и упорно, что этот корень жизни стано-вится для меня сказочным, что он смешивается с моей кро-вью, что он делается самой моей силой...'А По ходу расска-за этот образ переносится на 'женьшень' из оленьего леса. Там тоже есть некий 'корень жизни', жизненное начало (см. р. 65). Затем мы видим страницу, где раздумья и науч-ная работа также становятся корнями жизни (р. 74). И на-учные работники 'ближе к цели, чем те, кто ищут доисто-рическое растение в первозданной тайге'. Все искусство Пришвина состоит в поддержании на протяжении девяно-ста страниц соответствия между предметами и грезами, между образами реальности и метафорами отдаленнейших грез. Корень дает ростки. Он служит счастливым образом всему, что пробивается. Согласно БэконуB (Histoire de la Vie et de la Mort. Trad., p. 308), ради омоложения надо есть то, что приносит 'зерна, семена, корни'. Эта простая динами-ческая ценность дающего ростки корня подготавливает нео-бозримое поле метафор, годящихся для всех стран и всех времен. Общераспространенность этого образа такова, что он теперь почти не привлекает внимания. Между тем, его необходимо сопоставить с реальностью, ему следует вер-нуть все земные ценности, и тогда он будет обусловливать в нас своего рода изначальную сцепленность. Равнодуш-ные к грезам о корне встречаются весьма редко. Психоло-гам, не желающим поставить воображение в первые ряды психических способностей, будет крайне трудно узаконить такую привилегию для столь убогой реалии.
А К сожалению, М. Пришвина Башляр цитирует неточно. В тексте Пришвина есть несколько более или менее похожих мест, и потому прихо-дится прибегать к обратному переводу.
B Имеется в виду Фрэнсис Бэкон (1561-1626).
274
Можно без труда приумножать количество примеров, устанавливая, что образ корня сочетается почти со всеми земными архетипами. По существу, когда образ корня об-ретает хотя бы малую толику искренности, он открывает в наших грезах все, что делает нас землянамиA. У всех нас до одного, без единого исключения, предки были пахарями. А ведь истинные грезы пахоты - это не досужее созерцание борозды и перепаханной земли, как в некоторых картинах из прозы Эмиля Золя. Все это созерцает литератор. Пахота же - не созерцание, она агрессивна, и психоаналитикам не составит труда выделить в ней компонент сексуальной на-ступательности. Но с той же точки зрения объективного психоанализа представляется, что пахота ополчается ско-рее против пней, чем против земли. Корчевание - вот наи-более пылкая пахота, пахота, у которой есть 'записной' враг.
В таком случае любой грезовидец, как следует динами-зированный строптивым корнем, признает, что первая соха сама была корнем, корнем, вырванным из земли, корнем прирученным, одомашненным. Раздвоенный корень своим лемехом и твердой деревянной частью начинает ответную борьбу с корнями дикими; человек, этот великий стратег, заставляет предметы бороться против предметов: соха-ко-рень выкорчевывает корни6.
А Terriens можно понимать и как 'сельские жители', и даже как 'земле-владельцы'.
6 В связи с ограниченностью нашего метода мы не затрагиваем целого ряда вопросов, которые можно долго разрабатывать. Земледелие изначально руководствовалось обрядами плодородия. Археология - задолго до пси-хоанализа - выявила фаллический характер сохи. По этому пункту имеет-ся масса документов. К примеру, достаточно сослаться на книгу Альбрех-та Дитериха 'Мать-земля' (1 издание, 1905), чтобы получить представле-ние обо всем этом плане сексуальных образов. Это глубочайший план. Однако мы как раз хотим показать, что он не один и что образы обладают материальной автономией. Для земной сущности корня сексуальной ха-рактеристики недостаточно. То же касается и активной сущности сохи. Внимательно читая книгу 'Мать-земля', мы уясним, что если у начально-го акта распашки нови и есть какой-то сексуальный смысл, то мы все же не в состоянии вывести из него всю образность земледелия.
275
И, сталкиваясь с яростью корней, кто не поймет чар мандрагоры, корня, мстящего за себя, умерщвляя того, кто его выдернет? Чтобы его вырвать, достаточно ли послать собаку, или же, как утверждает одна старая книга, 'затк-нуть себе уши воском или законопатить их смолой из стра-ха услышать крик корня, доводящий до смерти того, кто его выкопает'? Уже корчеватель (défricheur) многократно оскорбляет колючий кустарник, чьи корни, как говорят, 'адски неуступчивы'. Все эти оскорбления, произносимые тружеником, уже являются живыми элементами всевозмож-ных проклятий из легенд. Нас провоцирует неуживчивый мир. Он возвращает нам наши оскорбления и проклятья. Корчевание требует насилия, провокаций и криков. Здесь также выговоренный труд, труд выкрикнутый объясняет легенды, но, разумеется, не во всей их глубине, а в значи-тельной части их выразительной ценности. О мандрагоре классический психоанализ скажет больше, чем сможем мы на нескольких страницах; однако же, объект, сам корень обладает особенными выразительными чертами. Вот эти-то особенные черты и следует рассматривать при изучении образов корня.
III
В исследованиях образов растительности нам показалось крайне любопытным весьма частое присутствие искалечен-ного дерева. В действительности, большинство грезящих демонстрирует предпочтения в отношении конкретных ча-стей дерева. Одни переживают листву, листву с ветвями, отдельные листья и ветви, другие - ствол, наконец, ос-тальные - корни. Зрение столь аналитично, что оно обя-зывает грезовидца чем-либо ограничиться. Но тогда, при чересчур стремительном сцеплении с одним конкретным образом, нам часто представляется, что воображение отре-зает себя от взлета психических сил. И в таких вот дробных упражнениях мы приучаем себя видеть в образах эфемер-ные огоньки, бессвязные цвета, никогда не доводимые до
276
конца наброски. В качестве реакции на этот атомизм фигу-ративных образов, в своих опытах по воображаемому пси-хосинтезу мы попытались обрести силы интеграции, вер-нуть образам их целостность.
А именно, мы полагаем, что существуют объекты, пред-ставляющие собой силы интеграции, объекты, служащие нам для интеграции образов. На наш взгляд, дерево являет-ся интегрирующим объектом. Как правило, оно - произве-дение искусства. Кроме того, когда к динамической воз-душной психике дерева удавалось добавить дополнитель-ную заботу о корнях, грезовидца одушевляла новая жизнь; из строки получалась строфа, из строфы - поэма. Одна из значительнейших вертикалей воображаемой жизни челове-ка наделялась индуцирующим динамизмом с полным его размахом. И тогда воображение улавливало все силы расти-тельной жизни. Жить подобно дереву! Какой рост! Какая глубина! Какая прямизна! Какая правда! Мы тотчас же ощу-щаем работу корней внутри себя, мы чувствуем, что про-шлое не умерло, что мы должны что-то сделать сегодня же в своей смутной жизни, в своей подземной жизни, в своей одинокой жизни, в своей воздушной жизни. Дерево при-сутствует одновременно повсюду. Старый корень - а в во-ображении молодых корней не бывает - вот-вот произве-дет новый цветок. Воображение и есть дерево. Оно облада-ет интегрирующими качествами дерева. Воображение - ко-рень, ветви и листья. Оно живет между землей и небом. Оно живет в земле и в ветре. Воображаемое дерево нео-щутимо становится космологическим деревом, деревом, в котором свернута вселенная, деревом, образующим ми-роздание7.
Для многих грезящих корень служит осью глубины. Он отсылает нас к далекому прошлому, к прошлому рода чело-веческого. Ища свою судьбу в дереве, д'Аннунцио пишет: 'Когда я столь девственно (virginalement) всматривался в это дерево, мне случалось ощущать, что его спутанные кор-
7 Ср. 'Грезы о воздухе', глава 'Воздушное дерево'.
277
ни дрожали в моей собственной глубине, словно фибры моей расы...'8. Этот образ, без сомнения, перегружен, как часто бывает у итальянского писателя, но он не нарушает оси глубинных грез. В той же книге д'Аннунцио, следуя все тому же образу, в дальнейшем говорит: 'Вся моя жизнь вре-менами становится подземной, словно корень внутри глу-хой скалы' (р. 136).
IV
Впрочем, чтобы получше разглядеть, чего стоит эта ин-тегрирующая мощь, приведем, прежде всего, пример стра-дающей души, страдающего образа, который хочется исце-лить посредством интеграции в тотальный образ. Речь идет о своеобразном корне, потерявшем свое дерево.
Мы заимствуем этот образ из 'Тошноты' Жана-Поля Сартра. Страница, которую мы переписываем, послужит нам для того, чтобы оценить 'растительный диагноз' вообра-жаемой жизни в том виде, как мы его поставили чуть выше.
'Итак, только что я был в парке. Под скамьей, как раз там, где я сидел, в землю уходил корень каштана. Но я уже не помнил, что это корень. Слова исчезли, а с ними и смысл вещей, их назначение, бледные метки, нанесенные людьми на их поверхность. Я сидел ссутулившись, опустив голову, наедине с этой темной узловатой массой в ее первозданном виде, которая пугала меня'А. Сартру нужно столько сде-лать, чтобы доказать внезапное исчезновение мира, но он не описывает с достаточным количеством деталей тот гип-нотизм исчезновения, что притягивает грезовидца в миг, когда он отдается сокровенной новизне корня. Под лаком, под шероховатостью, под лоскутным одеянием коры и во-локон течет тестообразное вещество: '... корень состоял из существования'B. И специфицирует мир тошноты, и харак-
8 D'Annunzio G. Le Dit du Sourd et du Muet qui fut miraculé en 1266. Rome, 1936, p. 20.
A Сартр Ж.-П. Стена. M., 1992, с. 130. Пер. Ю. Яхниной. B Там же, с. 131.
278
теризует тошнотворный вегетализм именно то, что под твер-достью корок, под 'обваренной кожей'А мембран существо-вание корня переживается как существование 'чудовищ-ных, вязких и беспорядочных масс - голых бесстыдной и жуткой наготой'B. Да и как, в сущности, этой дряблой на-готе не быть непристойной и тошнотворной?
При этой совершенно пассивной сопричастности мяг-кой сокровенности мы увидим размножение образов и осо-бенно метафор, продолжающих странную метаморфозу твердого в мягкое, жесткого корня в мягкое тесто. Грезо-видец находится на пути абсурдной трансцендентности. Абсурд обыкновенно бывает понятием разума; а как сфор-мировать его в самом царстве воображения? Сартр соби-рается показать нам, как вещи бывают абсурдными рань-ше, чем идеи.
'Сейчас под моим пером рождается слово Абсурдность, совсем недавно в парке, я его не нашел, но я его и не ис-кал, оно мне было ни к чему: я думал без слов о вещах, вместе с вещами'B. Добавим, что грезовидец сам был неким континуумом образов. 'Абсурдность - это была не мысль, родившаяся у меня в голове, не звук голоса, а вот эта длин-ная мертвая змея у моих ног, деревянная змея. Змея или звериный коготь, корень или коготь грифа - не все ли равно?'B. Чтобы лучше грезить об этом тексте, заменим союз 'или' союзом 'и'. Союз 'или' нарушает основополагаю-щие законы ониризма. В бессознательном союза 'или' не существует. Впрочем, сам факт, что автор вставляет 'не все ли равно', служит доказательством того, что его греза не имеет отношения к диалектике змеи и грифа. Добавим, наконец, что в онирическом мире мертвых змей не быва-ет. Змея - это холодное движение, это омерзительный живой холод.
Сделав эти незначительные поправки, пронаблюдаем за ониризмом сартровского корня в его синкретизме и специ-
А Сартр Ж.-П.. Стена, с. 130.
B Там же, с. 132.
279
фической жизни. Возьмем его в аспекте тотальной грезы, замешивающей существование грезящего и существование образа как нечто единое.
Корень каштанового дерева оказывается абсурдным по отношению ко всей вселенной и, прежде всего, к наиболее близким феноменам. 'Абсурдный по отношению к камням, к пучкам желтой травы, к высохшей грязи, к дереву...'А. Абсурдный для дерева и абсурдный для земли: вот двой-ственная примета, наделяющая сартровский корень столь особенным смыслом. Само собой разумеется, что в этом полном сцеплении с особой онирической интуицией гре-зовидец уже давно оторвался от функций, которым учит элементарнейшая ботаника: 'Я понимал, что от функции корня - вдыхающего насоса - невозможно перебросить мостик к этому, к этой жесткой и плотной тюленьей коже, к ее маслянистому, каменистому и упрямому облику'А. Тщетно повторять: 'Это всего лишь корень', слишком уж велика мощь метафор, и кора давно превратилась в шкуру, поскольку дерево есть плоть; кожа масляниста, потому что плоть мягка. Тошнота всюду дает свой выпот. Реальные слова больше не образуют барьера, они уже не могут остановить сомнамбулизм образов, движущихся по необычной линии. Абсурдность теперь стала всеобщей, так как автор отстра-нил образы от их истоков, вызвав смешение в самом средо-точии материального воображения.
Возможно, именно при медлительном сомнамбуличес-ком рассматривании этого корня мы можем лучше всего определить утрату скорости, происходящую в состоянии тошноты. Этот корень - и змея, и коготь; но змея эта зме-ится мягко, а коготь (serre) разжимается (se desserre), это не тот коготь, который является подлежащим к глаголу ког-тить (serrer). Образ корня, вцепляющегося в землю мерт-вой хваткой, образ извивающейся под землей змеи, чьи изгибы живее прямо летящей стрелы - образы, изученные нами в их традиционном динамизме - здесь поданы в ос-
А Сартр Ж.-П. Стена, с. 130.
280
лабленном виде. Обретут ли они свое 'бытие', 'обращая в ничто'А собственную силу? Вот вопрос, который мы остав-ляем в нерешенном состоянии. Чтобы дать на него ответ, потребовались бы объемистые исследования по сравнитель-ной онтологии и динамологии. Возможно, что сущность силы с психической точки зрения систематически является увеличением ее бытия, ускорением становления существа - и в результате в глубинном воображении не бывает динами-ческих образов ослабевающей силы. Воображаемая динамо-логия совершенно позитивна, и существует она одновре-менно с возникающими и растущими силами. Динамичес-кий образ может стопориться или уступать место другому, но он никогда не ослабевает. Это частный случай принци-па, с которым мы уже встречались, принципа непрерывно-сти между реальностью и грезой и прерывности при пере-ходе от грезы к реальности. Однако же, мы хотим здесь лишь наметить диагностическую силу образов для пси-хического становления. Следовательно, тошноту будут ха-рактеризовать сразу и ее субстанция, и смолистость, и клейкость, и тестообразность, и замедленные движения синовиальныхС суставов. Она станет тем, чего никогда не видел - или не желал увидеть - ни один пахарь: толстым мягким корнем.
К тому же, Жан-Поль Сартр четко сформулировал отказ от асцензионального образа, являющегося наиболее нор-мальным в целостном воображении дерева: 'Вот этот пла-тан с пятнами проплешин, вот этот полусгнивший дуб - и меня хотят уверить, что это молодые, рвущиеся к небу силы? Или этот корень? Очечидно, мне должно представить его себе как алчный коготь, раздирающий землю, чтобы выр-вать у нее пищу...
Но я не могу смотреть на вещи такими глазами. Дряб-лость, слабость - да. Деревья зыбились. И это значило, что они рвутся к небу? Скорее, уж они никли; с минуты на
А В подтексте - название труда Сартра 'Бытие и ничто'. B Синовия - жидкость, служащая смазкой в суставах.
281
минуту я ждал, что стволы их сморщатся, как усталый фал-лос, что они съежатся и мягкой, черной складчатой грудой рухнут на землю. Они не хотели существовать, но не мог-ли не существовать - вот в чем загвоздка'*.
'И меня хотят уверить' - этого, несомненно, уже доста-точно для того, чтобы обозначить вытеснение нормального образа, вертикализующего архетипа. Впрочем, мы видим здесь еще и конфликт образов, равно как и конфликт в рамках одного и того же образа, и воображение может вы-явить архетип в тот самый момент, когда оно будет его скры-вать. Потому-то великие образы - а корень относится к ним - в состоянии иллюстрировать фундаментальные кон-фликты человеческой души.
Если в связи с только что выделенным нами образом про-вести попытку материалистического психоанализа, психоана-лиза, исцеляющего на уровне материи, то человека, поме-шавшегося на мягком, надо пригласить заняться упражнения-ми с твердым материалом. И, несомненно, гуманно было бы поставить героя 'Тошноты' Рокантена к тискам и дать ему в руки напильник, чтобы он поучился на железе красоте и силе плоской поверхности, а также прямоте прямого угла. Или дать ему обстрогать рашпилем бревно, чтобы он радостно понял, что дуб не гниет, что дерево воздает динамизмом за дина-мизм, словом, что здоровье нашего духа в наших руках.
Впрочем, мы хотели показать всего лишь своеобычный и отклоняющийся от нормы образ корня. Изолировав его один-единственный образ, мы несправедливо обошлись с процитированными страницами Жана Поля Сартра. Этот образ - лишь одна из точек зрения на всеобъемлющее AnschauungB. Космос 'Тошноты', особенно - в сцене в саду, подле деревьев, 'этих громадных неуклюжих тел', следуя за медленным 'вытеканием' корня из земли, втягивает любого внимательного читателя в мир, очерченный в глу-бинном измерении.
А Сартр Ж.-П. Стена, с. 136. B Нем. - мировоззрение.
282
V
Чтобы показать земной динамизм корней, мы собрались привести несколько примеров корня здорового и могучего, подвергшегося вытеснению у сартровского персонажа, но-сящегося со своим болезненным корнем.
Первый пример мы заимствуем у Мориса де Герена, по-эта целостного дерева, показывающего нам интегрирующие силы образа корня. В книге 'Грезы о воздухе' мы уже отме-чали воздушную коннотацию верхушек деревьев в творче-стве отшельника из Кейла, грезовидца лесов Бретани и Оверни7. А теперь - вот земная коннотация корней: 'Я хотел бы быть насекомым, которое устраивается и жи-вет в зародышевом корешке (radicule), я расположился бы у последнего остроконечного корня, наблюдая за мо-гущественным процессом в дышащих жизнью порах; я глядел бы, как жизнь переходит из лона живительной молекулыA в поры, что, как и ветви, пробуждают ее, при-тягивая мелодичным зовом. Я стал бы свидетелем неиз-гладимой любви, с каковой жизнь устремляется к зову-щему ее существу, и свидетелем радости этого существа. Я присутствовал бы при их объятиях.' Благодаря избыт-ку образов любящего, питающего и поющего корня мож-но измерить приверженность Мориса де Герена к тай-ному процессу, происходящему в самом тонком корне. Кажется, что там, где кончаются корни, оканчивается и мир. Жан Валь пишет:
Je vois le rampement vivace des racines, Je respire l'humus, la vase et le terreau.
(Я вижу, как оживленно ползут корни, Я дышу перегноем, илом и черноземом.)
(Wahl J. Poèmes. Le Monde, p. 189.)
7 Guérin M. de. Le Cahier vert. Éd. Divan. I, p. 246.
A Слово 'молекула' употреблено здесь не в современном смысле, а как просто 'частица'.
283
На одной странице из Мишле возникает ощущение, что корни лиственницы ищут светозарные отблески даже в земле. На взгляд Мишле, лиственница - чудесное дерево, у нее 'пре-красный сильный корень, с помощью коего она погружается в свою излюбленную почву, в слюдяные сланцы; ее сверкаю-щие листочки подобны зеркалам, превосходным отражателям света и тепла' (La Montagne, p. 337). Не из этого ли минераль-ного света слюдяных сланцев черпает лиственница свою смо-лу, эту изумительную субстанцию огня и аромата?
В подземном желании все диалектично: можно любить, не видя, совершенно так же, как и при упоении невероят-ными видениями. Именно так Лоуренс видит 'жуткое вож-деление корней', следуя 'слепому натиску' собственного первого порыва, хватающего его за шиворот10, а вот Мори-су де Герену, чтобы лучше любить, необходимы тысячефа-сеточные глаза насекомого, ибо лишь они способны узреть тысячи объятий нежно пробуравливающих друг друга корней.
Нельзя не восхититься игривой фантазией Пьера Гега-на, выдержанной в том же ключе ласкающего острия:
Ainsi mûrit Marronnéolide,
Fils d'un arbre et fruit d'un phantasme.
(Так зреет Марроннеолид, Сын дерева и плод фантазма.)
Это причудливое человекодерево ощущает
Une étrange envie d'homme au bout de sa gemmule.
(Странное человеческое вожделение на кончике своей почечки.)
И мы не удивимся тому, что для Пьера Гегана древесная жизнь состоит в равной мере и в делении стеблей, и в раз-множении всяческих мелких корешков. Поэт отдается всем фибрам дерева, чтобы помочь ему в обладании землей:
10 Lawrence D.H. Fantaisie de l'Inconscient. Trad., p. 51.
284
Entre à ton aise dans mon être, Empare-toi de mes moindres vaisseaux, De mes anneaux médulléens : Gorge-toi de ma vie gisante, J'abandonne à ta chair la momie endormie.
(Легко войди в мою суть, Овладей моими мельчайшими сосудами, Моими сердцевинными кольцами: Насыщайся моей распростертой жизнью, Я предаю твоей плоти спящую мумию.)11
Пусть измерят здесь воображаемую мощь, превращаю-щую тихое дерево в ненасытное существо, в существо, ди-намизированное безжалостным голодом. Писатель, охот-но рекомендующий людям аскетические добродетели, пи-шет о дереве: 'Толстый корень спит с раскрытым ртом... Он готов высосать костный мозг из мира...'12. Разумеется, великие едоки воображают процесс, происходящий в кор-нях, как необузданную булимиюА:
Les arbres sont autant de mâchoires qui rongent Les éléments...
(Деревья - это челюсти, грызущие Стихии...)
{Hugo V. Le Satyre. La Légende des Siècles. Éd. Berret, p. 595.)
И - по инверсии образов - общипанная трава, в свою очередь, грезится в своей прожорливости:
L'herbe vorace broute au fond des bois touffus; A toute heure on entend le craquement confus Des choses sous la dent des plantes...
11 Guéguen P. Le Double de l'Arbre // Chasse du Faon rose.
12 Choisy M. Le Thé des Romanech, p. 34.
A Булимия - расстройство невротического или органического проис-хождения, состоящее в поглощении больших количеств пищи при отсут-ствии голода.
285
(Прожорливая трава щиплет в глубине густых лесов; Всечасно раздается сбивчивое потрескивание Того, что попадает на зуб растениям...)
(Ibid., р. 595.)
Традиционная идея питающей земли сразу же обновля-ется, как только ее конкретизирует материальное вообра-жение. С точки зрения Виктора Гюго, земля кормит пес-ком, глиной и песчаником:
Il en faut au lentisque, il en faut à l'yeuse, Il en faut à la ronce, et la terre joyeuse Regarde la forêt formidable manger.
(Это надо мастиковому дереву, это надо каменному дубу, Это надо колючему кустарнику, и радостная земля Смотрит на трапезу громадного леса.)
А Гильвик в одной-единственной строке, где звучность умело окружена безмолвием, дает нам первообраз:
Les forêts le soir font du bruit en mangeant. (По вечерам леса шумят за едой.)
Под воздействием материализующего воображения все эти образы выражают интегрирующую мощь образов кор-ня. Для бессознательного дерево ничего не утрачивает, ибо корень преданно сохраняет все. В некоторых практиках мы без труда обнаружим влияние этого интегрирующего обра-за. Приведем лишь один пример, взятый из книги XVII века: 'Если буравчиком просверлить отверстие в главном корне и налить туда какую-либо слабительную жидкость, то пло-ды этого дерева всегда будут слабительными.' А сколько увитых виноградными лозами беседок оросили хорошим вином, чтобы у винограда сохранились букет и крепость чудесного года!
286
VI
Великий поэт, умеющий вынуждать образы к порожде-нию мыслей, пользуется диалогом, чтобы показать нам лю-бовь и знание, сочетающиеся с деревом. Для Поля Валери дерево - это образ с тысячью источников, обнаруживаю-щий единство некоего произведения. Дерево, рассеянное под землей, становится единым, чтобы брызнуть из земли и обрести чудесную жизнь ветвей, пчел и птиц. Впрочем, по-наблюдаем за ним в его подземном мире: там дерево стано-вится рекой (Dialogue de l'Arbre, p. 189): 'Совершенно жи-вая река, истоки которой погружены в темную массу земли, и находят там пути своей таинственной жажды. Это, о Ти-тир, гидра, враждующая со скалой, гидра, что растет и де-лится, чтобы заключить ее в объятия; все более утончаясь и движимая влагой, она ощетинивается, чтобы испить ма-лейшее присутствие воды, пропитывающей массивную ночь, в которой растворяется все живое. Это не омерзительный морской зверь, более жадный и сложнее устроенный, чем этот пучок корней, слепо уверенных в продвижении вглубь земли, к ее гуморам.' И сразу же эта пылкая устремлен-ность в глубины, к живой сути просачивающейся воды, пре-вращается в видении поэта в пылкую любовь (р. 190): 'Твое коварное дерево, которое во мраке вкрадчиво вводит свою долгоживущую субстанцию в тысячи волокон и черпает соки спящей земли, напоминает мне... - Скажи, что. - Напо-минает мне любовь.' Растение (plante), великий знак люб-ви, имплантированной в существо. Любовь, щепетильная верность, служащая опорой для всех наших идей, всасыва-ющая все наши силы, подобна многолетнему растению, чьи корни не умирают13. Такой синтез объясняет, почему Вале-ри 'сэкономил' на жизни животных и сказал, что человек, размышляющий о Дереве, может обнаружить в себе 'Мыс-
13 Ср. Hugo V. Le Satyre. II. Éd. Berret, p. 594. Если мы сравним диалог Валери со стихами Виктора Гюго, мы поймем, чего стоят раздумья Вале-ри, показывающего нам образы на пути к идеям. Образ-идея у Валери требует капитального исследования.
287
лящее растение' (р. 208). Разве дерево не мыслит дважды: объединяя добычу тысяч своих корней и усложняя диалек-тику собственных ветвей? До чего хорош древовидный спо-соб изложения! А что за объятияА, когда вас хватают за ши-ворот! 'Такова сила', - говорит Шопенгауэр. 'Но такова и мысль', - говорит Валери, и, навевая грезы о мысли, поэт идей внушает нам шопенгауэрианство разума, волю к ра-зуму. Корень побеждает препятствие, огибая его. Он вкрадчиво втолковывает свои истины; благодаря своей многосложности он стабилизирует существо. 'Образ тысяч корней, - пишет Валери (р. 190), - стало быть, коснулся этой точки, этого глубинного узла бытия, где пребывает единство и откуда, озаряя вселенную одной и той же мыс-лью, излучаются в нас все тайные сокровища ее подобий...'. Само собой разумеется, эти подобия сокровенных стра-стей и сил концентрации растительного бытия бывают пол-ными лишь в образе целостного дерева, платонической идеи дерева. И в диалоге Поля Валери речь идет о 'чудесной Истории бесконечного Дерева' (р. 204). Переживая эту ис-торию, мы готовимся к синтезу космологического Древа с Древом духа. Подле корней мы тотчас же начинаем грезить всю Землю, как если бы она была узлом корней, как если бы лишь корни могли осуществить синтез Земли. Затем надо пробиться: всякая жизнь и всякая воля поначалу были не-ким деревом. Дерево - изначальный образ роста: 'Оно жило лишь тем, что росло' в 'своего рода безудержности и дре-вовидности...', - говорит Валери (р. 207). Итак, когда наше честолюбие тоже пожелает создать собственный динами-ческий первообраз, ему придется обратиться к грезе о та-ком изначальном росте, чтобы создать странный платони-ческий образ, который согласится стать динамическим. Тем самым Поль Валери находит то, что можно назвать плато-ническим честолюбием, тем, что затрагивает духовную жизнь, и философ, пишущий диалоги, завершает описание 'бес-конечного дерева' такими словами: 'Тем самым это дерево
А Accolade можно понимать и как 'посвящение, инициация'.
288
было своего рода духом. Высочайшее в духе живет только ростом' (р. 207)14.
VII
Греза о глубинах, следующая за образом корня, продле-вает свое таинственное обиталище до самого ада. Величе-ственный дуб достигает 'царства мертвых'. К тому же, весь-ма часто в воображении корня возникает активный синтез жизни и смерти. Нельзя сказать, что корень пассивно по-гребен; он - собственный могильщик, он продолжает без конца погребать себя. Лес - самое романтическое из клад-бищ. На пороге смерти, во время приступа грудной жабы, Спаркенброк думает о дереве: 'Он говорил о корнях, он бес-покоился о расстоянии, на которое они простираются под землей, о силе и мощи, благодаря которым они разбивают препятствия.'15 Этот интерес к космическому образу, про-крадывающемуся в совершенно удрученную душу, в самое сердце драмы страсти и жизни, должен задержать внимание философа. Несомненно, нам возразят, что это всего-навсего литературный образ, образ смерти, выходящий из-под пера 'вполне' живого писателя. Однако такое возражение равно-сильно недооценке психического первенства потребности в самовыражении. Смерть есть, прежде всего, образ, и она ос-тается образом. Она может осознаваться нами, лишь само-выражаясь, а самовыражаться она может лишь посредством метафор. Всякая смерть, предвидящая сама себя, о себе рас-сказывает. И как раз литературный образ действующей смерти на протяжении всего романа Чарльза МорганаА наделен жиз-
14 Основополагающие образы имеют тенденцию к инверсии. С перво-образом дерева-реки можно сопоставлять образ реки-дерева. Мы обнару-живаем его у Виктора Гюго (Le Rhin. II, pp. 25-26), когда поэт говорит о реке, чьи притоки представляют собой чудесные корни, черпающие воду со всего края.
15 Morgan Ch. Sparkenbroke. Trad., p. 502.
A Морган, Чарльз Лэнгбридж (1894-1938) - англ. писатель; драматург. Цитируется роман 'Спаркенброк' (1936). Морган считается последовате-лем англ. метафизиков XVII в.
289
ненной силой первообраза. 'Простой камердинер Биссет прекрасно знал, - пишет Морган, - что все эти вопросы о подземной жизни дерева имели отношение к склепу (мате-ри Спаркенброка) или к тому, что могло изображать его в сознании лорда Спаркенброка. Никто не знал, насколько глубок этот склеп. Кладбище окружали деревья, преиму-щественно вязы...' Да-да, никто не представляет себе, сколь глубоко спускается в душу такой архетип, как корень, и какой синтезирующей и зовущей силой наделен любой ар-хетип, в особенности, когда этот доставшийся от предков образ становится волнующим в драме юности. Именно под кладбищенским вязом сидит обессиленный молодой Спар-кенброк после мрачных часов, проведенных подле могилы матери. Эта сцена поистине наложила печать образа смер-ти на всю его жизнь. Кладбищенское дерево с его протя-женными корнями оживило архетип человеческих грез. В фольклоре и мифологии мы без труда найдем синтез древа жизни и древа смерти, ибо Todtenbaum, древо мертвых, упо-мянутое нами в книге 'Вода и грезы', представляет собой дерево, символизирующее человека в жизни и смерти.
Чтобы грезить дерево в столь грандиозном синтезе, нам следует получше уяснить то, чем может быть для человека дерево, которое ему посвящено, дерево, которое в пору рож-дения сына посадил упоенный длительностью отец. Но слишком редко встречаются отцы, укореняющие жизнь сыновей в почву предков. То, чего не осуществил отец, воз-можно, свершит сын в знакомом сновидении. И вот, он выбирает дерево в саду или в лесу, он любит свое дерево. Я вновь вижу себя ребенком, я опираюсь на корни своего орешника, чтобы читать, влезаю на орешник, чтобы чи-тать... Дерево, ставшее приемным сыном, настраивает нас на свое одиночество. С каким же волнением я перечитывал признания Шатобриана, проводившего долгие часы в дуп-ле дерева, в стволе ивы, где проходили игры всех трясогу-зок пустоши...
Жить среди громадных извилистых корней означает ин-стинктивно обрести идеал брахмана, который жил 'жиз-
290
нью анахорета среди корней индийской смоковницы' (Michelet J. La Bible de l'Humanité, p. 46).
VIII
Один из самых распространенных образов, с которыми сравнивают корни, - образ змеи:
Et la racine affreuse et pareille aux serpents Fait dans l'obscurité de sombres guets-apens.
(И жуткий корень, похожий на змею, Устраивает во мраке темную засаду.)
(Hugo V. Dieu, p. 86. Éd. Nelson.)
'Крепкие корни старых мертенсийА, закрученные в спи-рали вокруг больших утесов, кажутся нам сказочными зме-ями, застигнутыми светом врасплох и уносящимися в судо-рогах бегства в свои глубокие ямы' (Gonzalez J. Mes Montagnes. Trad., p. 165).
ЛуканB в 'Фарсалии' приводит читателя в священный лес, где 'драконы, опутывавшие стволы дубов, скользили по ним, мощно извиваясь'.
Иногда кажется, что для того, чтобы вообразить движе-ние, достаточно колыхания формы. Дж. Каупер ПоуисC пишет: 'Взгляд его остановился на крепком корне ольхи, змеившемся среди ила у берега. Ему мнилось, что в цепкой гибкости этой растительной рептилии он узнает образ ее тайной жизни...' (Wolf Solent. Т. I, p. 204). Поразительно, что даже такой писатель, как Гюйсманс, чьи поиски лите-ратурной выразительности систематически отдаляли его от
А Мертенсия - травовидное растение с голубыми или пурпурными цвет-ками; растет в Восточной Европе и Северной Азии.
B Лукан, Марк Анней (39-65 гг. н.э.) - древнерим. поэт; участник заговора Пизона. Из многочисленных сочинений сохранилась только нео-конченная эпопея 'Фарсалия', повествующая о войне между Цезарем и Помпеем.
C Поуис, Джон Каупер (1872-1963) - англ. писатель, поэт и эссеист. Увлекался кельтской мистикой. Цитируется роман 'Вулф Солент' (1929).
291
всякого шаблона, все-таки подчиняется этому воображаемо-му архетипу корня-змеи. В земле с холмами, 'с которых содра-ли кожу глыбы гранита', он узнаёт 'чудовищные дубы, чьи корни... походили на растревоженные гнезда больших змей'. Кто тут боится, а кто хочет напугать? Может, большие змеи убегают под землю? А может, дуб 'чудовищен'? Едва ли сле-дует полагать, что Гюйсманс написал слово 'чудовищный', покоряясь будничному мещанскому стилюА. Чтобы объяснить этот образ, чтобы переместить его тональность, надо найти какой-нибудь испуг. А иначе - что за странный принцип образования метафор - ссылаться на редкие и неведомые образы! Да и кто видел гнезда змей? Но если бы читатель оказался чувствительным к первообразам жесткости в тексте, если бы он как следует ощутил эту землю, с которой содрали кожу глыбы гранита, он, возможно, пробудил бы в своем под-сознании какое-нибудь скользящее и мучительное движение, в которое оказались бы вовлечены все образы рассматривае-мого архетипа. Змея, корень-змея, змеиное гнездо, узел кор-ней - все это не столь разнообразные формы одного и того же онирического образа. И как раз посредством своего ониризма этот литературный образ может вызвать общение писателя со своим читателем. В примере из Гюйсманса такое общение ос-тается слабым, ибо писатель не позаботился о слиянии образов корня и змеи. В этом случае он недостаточно тщательно обра-ботал материальный образ. Столь же немощной выглядит и образная система Тэна, когда он пишет, что корни буков, 'вон-заясь в расселины скалы, поднимают ее и ползут по ее повер-хности, словно змеиный выводок' (Voyage aux Pyrénées, p. 235). Никто не удивится холодности в описании у такого писателя, который считает сосны 'едва живыми' и который, описывая простейшие формы, может выразиться (р. 236): '...сосна в це-лом - это конус, лишенный хвои у вершины'B. В хвойном (cordière) мире всё - конусы и все остроконечно.
А Слово formidable 'чудовищный' часто употребляется в современном франц. языке в значении 'превосходный', 'великолепный' (так называе-мая энантиосемия)
B Cônes - также 'шишки'.
292
Чтобы осуществить и привести в движение синтез, дос-таточно одной дополнительной черты. Стоит вспомнить, к примеру, что в мире материального воображения змея ест землю16 и тотчас же обретает свои образы алчность дуба. Настоящий пожиратель земли, самая земная змея - корень. Материализующие грезы без конца уподобляют корень земле и землю корню. Корень ест землю, а земля ест корень. Жан Поль Сартр вскользь пишет: 'Корень уже наполовину ас-симилирован питающей его землей, это живой ком земли; использовать землю он может не иначе, как став землей, т. е. в некотором смысле подчинившись материи, каковую он сам хочет использовать'17. В этом замечании присутствует великая онирическая истина. Несомненно, жизнь наяву, все-ядность заставляет нас воспринимать слово питать в обоб-щенном смысле. Но в бессознательном это наиболее не-посредственный из всех глаголов, это первый глагол-связ-ка бессознательной логики. Также без сомнения, научная мысль вполне может тщательно составлять список хими-ческих веществ, каковые корень черпает в почве, а срезан-ный корень вполне может являть сияющую белизну реди-са, нежный коралл моркови, безукоризненную слоновую кость козлобородника. Все эти ученые уточнения, все эти отчетливые грезы о забавной чистоте - мертвая буква для глубинного бессознательного, которое всегда ест с закрыты-ми глазами. С точки зрения этой глубокой грезы питающе-гося существа образ корня-змеи, пожирающего землю, об-ладает мгновенно действующими динамическими и матери-альными свойствами. В нем можно видеть образ старомод-ный, надуманный и прихотливый. Таких больше не создают. Однако же, всякий грезовидец корней обнаруживает его. Писать какие-нибудь 'Яства земные'B, не попробовав зем-ли и не войдя в роль корня или змеи, означает обманывать
16 Ницше в 'Веселой науке' пишет: 'Чтоб есть змеиный хлеб земной / / Тебя, земля, поедомA .
А Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1990, с. 499.
17 Sartre J.-P. L'Être et le Néant, p. 673.
B Роман А. Жида.
293
великие непреложности воображаемой жизни ни к чему не обязывающей игрой. В сокровенной жизни корня акт по-едания земли характеризуется как некий прототип. Он по-велевает всем нашим растительным существом, когда мы, будучи человеком, хотим стать еще и растением. Если мы сцепимся с образом корня, если мы поддадимся соблазну изначальной пищи, то внезапно бессознательное усложнит наш опыт и наши образы, и мы глубже поймем следующую строку Поля Клоделя:
Qui a mordu la terre, il en conserve le goût entre les dents18. (Кто кусал землю, хранит ее вкус меж зубов.)
IX
Жить укорененным, жить без корней - вот, несомнен-но, наскоро создаваемые и всегда понятные образы. Но они достаточно бедны, если писатель не вносит в них активно-го динамизма. Существует множество способов их активи-зации. Так, Поль Клодель вдыхает жизнь в этот инертный образ простой игрой чисел: 'Как большое дерево, которое отправляется на поиски утеса и туфа, чтобы обнять их и ввинтить в них свои восемьдесят два корня...' (Cinq Grandes Odes, p. 147). Похоже, сами звуки слова восемьдесят два (quatre-vingt-deux) ввинчивают спирали между твердыми звуками утеса (roc) и туфа (tuf). Ничто не взрывается, все шелестит, и дерево удерживает землю - вот и готова мо-ральная метафора. И вряд ли есть необходимость в морали образной растительной сказки.
На самом же деле, чтобы остановить движущиеся дюны, деревья сажают только в ЛандахА. Клод де Сен-Мартен пи-шет прямо: 'Я посею в поле жизни зародыши этих могучих деревьев; они взрастут на берегах сих рек лжи, которые за-ливают опасные обиталища человека. Они совьются кор-
18 Claudel P. Cinq Grandes Odes, p. 147.
A Ланды - прибрежная равнина в Юго-Западной Франции.
294
нями, чтобы удержать земли, каковые сии реки омывают своими водами, и они воспрепятствуют осыпи этих земель и тому, чтобы те были увлечены потоками.' Дерево высту-пает в роли стабилизатора, образца прямизны и крепости. В жизни метафоры оно подобно закону действия и проти-водействия: искать устойчивую землю, страстно желая ста-бильности, означает делать устойчивой ускользающую зем-лю. Самое что ни на есть подвижное существо жаждет кор-ней. Новалис восклицает: 'Хотелось плакать от радости и, удалившись от мира, погрузить в землю руки и ноги, чтобы пустить там корни' (процитировано Спанле в его диссерта-ции, р. 216).
Конечно, эта устойчивость влечет за собой образы кре-пости и твердости. Как мы уже указывали в одной из пер-вых глав нашего предыдущего труда, в романе Вирджинии Вулф 'Орландо' можно пронаблюдать за образом, задей-ствованным во втором ряду: это образ Дуба. Герой романа Орландо, как и Дуб, проходит сквозь четыре столетия. В конце романа Орландо, который был мужчиной в начале повествования и стал женщиной в конце - этот фокус мо-жет озадачивать лишь читателей, лишенных чувства амби-валентности, если такие вообще есть - 'оседлывает' гро-мадные корни дуба: 'Орландо упала на землю и ощутила, как расходится под ней костяк дерева, напоминающий ко-сти позвоночника. Ей доставляло удовольствие считать, что она сидит на спине коня мира. Ей нравилось сцепляться с этой твердостью' (trad. p. 257).
Как мы видим, разнороднейшие образы роднит между собой одна и та же материальная связность твердости, кре-пости и устойчивости. А значит, не надо удивляться тому, что метафизики могут приписывать корню сущностную твер-дость. Гегель фактически утверждает, что корень представ-ляет собой абсолютную древесину. Корень для него - 'дре-весина без коры и сердцевины' (La Philosophie de la Nature. Trad. III, p. 131). Все свойства древесины обретают в корне свой основополагающий смысл. Если речь идет, к приме-ру, о 'возгораемости', Гегель говорит, что возгораемость
295
эта 'доходит до получения сернистого вещества' и что про-являться эта возможность должна, разумеется, преимуще-ственно в корне: 'Существуют корни, - пишет философ, - где формируется настоящая сера'.
Тот, кто сумел увязать рождественское поленоА в узел самого толстого корня, простит это воображаемое усиле-ние мощи огня. Для Гегеля корень, по существу, представ-ляет собой 'узловатую, непрерывную и плотную субстан-цию'; 'он на грани того, чтобы стать совершенно неорга-нической субстанцией'. Против ОкенаB, усматривавшего в растительных волокнах нервы, Гегель писал: 'Древесные волокна не нервы, а кости' (Т. III, р. 132).
А когда идеи стремятся в подробностях следовать за об-разами, какой могучий и вольный костер разгорается в по-строениях мыслителя! Философ-грезовидец не может смот-реть на годовые кольца свежеспиленного дерева, не наде-ляя каждое кольцо волей к вычерчиванию окружности. 'Я думаю, - пишет цитируемый Гегелем ботаник (Линк), - 'что годовое кольцо образуется благодаря резкому сжатию древесины, происходящему перед днем святого Иоанна или после него и ни в коем случае не связанному с ежегодным ростом дерева' (Hegel. T. III, р. 136).
Впрочем, оставим Гегелю его радости бочара. Как пра-вило, философы ограничиваются тем, что сообщают нам свои идеи. Если же они дойдут до того, что начнут излагать нам свои образы, то мы так и не разберемся с бессозна-тельными свидетельствами разума.
X
В этой работе, как и в остальных трудах, которые мы посвятили воображению, мы хотим лишь подготовить тео-
А Рождественское полено - традиционное франц. рождественское пи-рожное.
B Окен (Лоренц Окенфусс) (1779-1851) - нем. естествоиспытатель. Основал собственную школу натурфилософов. Первым открыл вертебраль-ное строение костей черепа (и лишь затем это сделал Гете).
296
рию литературного воображения. Поэтому мы не должны настаивать на сексуальном характере грубых образов и нео-бработанных символов, встречаемых нами в том виде, как они рождаются из импульсов подсознательной жизни. На какую бы спонтанность ни притязал литературный образ, он все же является образом отрефлектированным, контро-лируемым и обретшим свободу, лишь подвергшись цензу-ре. И действительно, сексуальные свойства литературного образа зачастую бывают завуалированными. Ведь писать оз-начает скрываться. Писатель полагает, что пришел к новой жизни благодаря одной лишь красоте образа. А мы его удивляем - и даже шокируем замечаниями о том, что он якобы 'сублимирует' грезы, прекрасно известные психо-аналитикам. Если бы мы захотели открыть досье по фал-лическому образу в том, что касается дерева и корней, нам не хватило бы одной книги, так как нам пришлось бы пробежать по всей безграничной области мифологии, пер-вобытного мышления и невротической мысли. Так огра-ничим же наше исследование несколькими литературны-ми примерами, касающимися корня в более специфичес-ком контексте.
В романе 'Там, внизу' Гюйсманс, изображающий все свои фантазмы с диалектической точки зрения двух глав-ных персонажей, ДюрталяА и Жиля де Рэ, говорит, что Жиль де Рэ (t. I, p. 19, Éd. Crès) 'понимает неизменную похотли-вость деревьев, обнаруживает непристойности (priapées) в строевом лесу'.
У Гюйсманса тоже живет образ перевернутого дерева, та-кой заурядный образ древовидностей и разветвлений ство-лов, но до чего же все это сексуализировано! Ветви уже не руки, а ноги. 'Дерево представляется ему здесь живым су-ществом, вставшим вниз головой, сокрытой в шевелюре его корней, - оно поднимает ноги в воздух, раздвигая их и разделяя на все новые бедра, которые, в свою очередь, рас-крываются, становясь все меньше по мере удаления от ство-
А Дюрталь - персонаж четырех романов Гюйсманса.
297
ла; там, между ногами, вонзается другая ветка, предаваясь неизменному блуду, что повторяется в непрерывно умень-шающемся масштабе, переходя от ветвей к ветвям до са-мой верхушки; тут опять же ствол кажется ему фаллосом, который поднимается и исчезает под юбкой листьев или, наоборот, вылезает из зеленого руна и погружается в барха-тистый живот почвы'.
Здесь вместо торчащего и выставленного напоказ фал-лоса, часто появлявшегося в примитивном символизме, Гюй-сманс воображает дерево, как фаллос, погружающийся в лоно материнской земли в своего рода инцесте традицион-ного символизма. Не следовало бы писателю обратиться к фантазмам наиболее садического из рыболовов? Невинней-шее созерцание окрашено безудержной похотью. Вместо космической любви вроде той, о которой вспомнил Морис де Герен в своем видении дерева, разбрасывающего пыльцу в небо, Гюйсманс изображает картину вселенского блуда. Для него дерево - не тихое и медленное расширение, не сила, живущая воздушными упованиями, не благоухающая любовь, приносящая цветы, - а инфернальная сила. С точки зрения Гюйсманса, корень есть изнасилование земли19.
Существует множество свидетельств о фаллическом смыс-ле обыкновенного корня, извлеченного из земли. В этом смысле можно интерпретировать и миф о мандрагоре, о корне, лицезрение которого причиняет смерть. Чтобы из-влечь его безнаказанно, прибегают к помощи собаки, при-вязанной к стеблю мандрагоры. Вырывая корень, собака гибнет. Этот длинный корень, разделенный надвое у кон-чика, имеет форму человека. Это гомункулус. И, подобно всякому гомункулусу, он обладает всеми чертами фалли-ческого символа. Немало шарлатанов нарезали корни ман-драгоры из обыкновенной моркови. Но к чему столько уло-
19 Образ ствола дерева, раскинувшего в воздухе ноги, встречается в 'Звучащем острове' Рабле. Но для грубого тона характерны иные подсоз-нательные отзвуки, нежели для страстного. Психоаналитик сказал бы здесь, что воображение, предающееся шуткам, нашло компромисс с вытеснением.
298
вок? Ведь так много простых корней вызывают отвращение или страстное желание того же типа. Целомудренные души стремились их увидеть, не разглядывая подробно. Ведь жизнь полей - и даже жизнь обитающих на них растений - дает массу образов любовных утех.
Но куда спокойнее жизнь садов; корни овощей не вну-шают буравящих душу грез, а ранние овощи навевают ка-кие-то маловразумительные намеки. Весенняя морковь ос-тается фаллосом смехотворных размеров из сна сатира. Как сказал, по-моему, Лабрюйер: 'Если садовник и мужчина, то лишь на взгляд монахини.'
Глава 10. Вино и лоза алхимиков
Как сказал мне Гастон Рупнель, виноградная
Лоза творит все, даже собственную почву.
Сама лоза, накапливая свои отходы и отбросы,
создала собственную почву и образовала благородную и
тонкую эссенцию, коей она питает свои плоды.
Гастон РупнельА. История французской деревни
I
Даже в мельчайших подробностях своих не-скончаемых исследований Алхимия всегда притязает на грандиозность мировидения. В глубинах нич-тожнейшей субстанции она видит вселенские процессы; она измеряет влияние многосторонних и отдаленных сил на медлительнейшее из ощущений. То, что эта глубина, в конечном счете, представляет собой головокружение, а такой вселенский взгляд есть взгляд мечтательный в срав-нении с общими принципами современной науки, нис-колько не ослабляет психологической мощи стольких грез, изобличенных во лжи, стольких великих образов, отме-ченных убежденной к ним приверженностью. Прекрасная материя - золото и ртуть, мед и хлеб, растительное масло и вино - накапливает грезы, выстраивающиеся в порядке столь естественно, что в ней можно различить законы грез, принципы онирической жизни. Прекрасная материя и пре-
А Рупнель, Гастон (1871-1946) - франц. писатель. Автор романов из бургундской жизни. Здесь цитируется ставшая классической 'История французской деревни' (1932).
300
красный плод зачастую учат нас единству грезы, наиболее крепкому из поэтических единств. Разве виноград хороше-го состава для грезящего о материи уже не представляет собой прекрасную грезу о лозе, разве его не сформировали онирические силы растения? Природа грезит во всех своих объектах.
А коль скоро это так, преданно следуя алхимической медитации о какой-либо субстанции, о субстанции, не-пременно собранной в Природе, мы достигаем этой убеж-денности в образе, которая проявляет свою поэтическую целебность и доказывает нам, что поэзия - не игра, а природная сила. И тогда мы начинаем понимать, что такое истинная метафора, метафора, истинная дважды: в опыте и в онирическом порыве. Доказательство этого мы найдем в алхимической лозе, которую можно истол-ковывать и как ощущение из области растительного мира, и как грезы о мире камней. И тогда лоза с одинаковой искренностью принесет нам и виноград, и рубины, зо-лотое вино мюскаде или 'хризопразовые шасла' (Гюйс-манс).
Но перед тем, как показать взаимные переходы опыта и грез, сделаем набросок естественной алхимии без помощи книг, по возможности наивнее доверяя силе сгущения об-разов, знакомых алхимику.
II
Что означает вино для таких грез, сгущенных в одну воз-любленную субстанцию, в субстанцию, любимую выгово-ренной любовью? Это живое тело, в котором разнообраз-нейшие 'духи' находятся в равновесии: духи летучие и духи тяжелые, небо в союзе с почвой. Лучше любого иного рас-тения лоза согласует между собой земные ртути, придавая тем самым вину должный вес. На протяжении целого года она работает, следуя прохождению солнца через все знаки Зодиака. Даже в глубочайшем из погребов вино никогда не забывает возобновлять это прохождение солнца через не-
301
бесные ' дома'. Вот так обозначая времена года, оно со-прикасается с изумительнейшим из искусств: с искусством старения. Совершенно субстанциальным способом лоза берет щепотку чистой серы у луны, у солнца и у звезд, ибо лишь такая сера способна наделить ' стихийностью' все виды живого пламени. Тем самым истинное вино требует чувствительнейшего из гороскопов.
Если же по небу пролетает комета, виноградный сбор становится иным! Наши формулы, засушенные в поняти-ях, усматривают тут едва ли что-то большее, чем ярлык, отмечающий дату знаменитого вина, незначительную мне-мотехнику времени, когда забываются индивидуальные подробности года с ' законным' солнцем. Но страстный виноградарь, круглый год раздумывающий о приметах вина, никогда не забудет того, что новая комета добавляет в вино субстанцию, которая крайне редко сходит с неба на зем-лю. Комета - это не столько светило, сколько некое вея-ние. Этот длинный мягкий хвост, текущий по верхним слоям атмосферы, в основе своей влажен, он богат жидким и нежным огнем, а также сущностной всепроникающей водой, что долго дистиллировалась на небосклоне. Вино притягивает эту небесную воду - единственную, которую она терпит в господствующих небесах. Так вино кометы приобретает сладость, не идущую во вред его крепости1.
Для грезящего на природе, для учитывающего всю исто-рию небесных флюидов года как репертуар влияний солн-ца и светил, дождь представляет собой болезнь живой ат-мосферы. Дождь наводит тень на пригорки и замутняет цвет вина, не получающего должной доли света. Любой грезови-дец, симпатизирующий лозе, хорошо знает, что она всегда настороже в отношении почвенной или речной воды. Ниж-няя часть лозы обладает силой, препятствующей любой воде подниматься до зерен. В своих корнях лоза накапливает
1 Говорят также, что лоза боится грома: ' Когда гремит гром, лоза с ужасом ощущает его последствия, что проявляется даже в бочках, где хра-нится сок, ибо от страха он меняет цвет' (cf. Vanière P. Praedium Rusticum. II, p. 163).
302
соки собственной квинтэссенции. А побеги лозы, сухие во всех волокнах своей субстанции, не дают влажности нару-шать чистоту винограда. В картезианские времена один врач писал: 'Пути, по которым поднимаются соки виноградной лозы, столь узки, что они пропускают лишь чистейшие и тончайшие соки земли, зато трубочки, по которым подни-маются соки в яблонях и грушевых деревьях, столь широ-ки, что они без разбора приемлют какие угодно - и гру-бые, и тонкие начала.' Так Природа - хорошая мать! - позаботилась о том, чтобы силой самих стеблей воспрепят-ствовать союзу противоположных жидкостей, союзу воды и вина, союзу лужи и пригорка.
Несомненно, современная химия предписывает нам сме-яться над столь пустыми бреднями. С помощью несложных анализов она доказывает нам, что виноград представляет собой водянистый плод, а агрономия рекомендует методы, намного увеличивающие сбор винограда: существуют рав-нины с дождевым орошением виноградников. Греза о вине такие края не посещает. Для того, кто грезит о субстанциях в их глубинных процессах, вода и вино - враждебно на-строенные жидкости. Смешивает их уже медицина. Разбав-ленное вино, вино, разбавленное водойА - добрый француз-ский язык здесь не ошибается - это поистине вино, утратив-шее мужское начало.
III
А теперь, перелистывая какую-нибудь старую книгу, где история мира прослежена вплоть до сердцевины субстан-ций, мы порою можем случайно встретиться с раститель-ной алхимией. Такая алхимия промежуточного царства дает передышку мудрецу. Металлические силы здесь ослабева-ют, а трансмутации происходят благодаря пассивности. У каждого из трех царств алхимической жизни - минераль-ного, растительного и животного - есть свой царь. В этой
А Слово coupé - не только ' разбавленный', но и ' кастрированный'.
303
короткой главе мы порассуждаем лишь о господствующих сущностях. Золото - царь металлов, лев - царь животных. А вот царица промежуточного мира - лоза. Тем самым желающий обрести воистину иерархический взгляд на рас-тительность должен будет обучиться великим истинам ал-химической жизни. Но чтобы описать всю эту царскую бо-танику и объяснить презрение алхимиков к травам, потре-бовалась бы целая книга.
Мы же попросту рассмотрим сродство между тремя ос-новополагающими жидкостями.
В минеральном мире работает ртуть, принцип всякой текучести, принцип, наделяющий воду - всегда немного тяжелую - какой-то изворотливостью. Ртуть философов - это ученая вода, растворяющая все, к чему не может подо-браться вода источников.
Животная жизнь также обладает собственной благород-ной жидкостью, и это кровь, элемент самой жизни, прин-цип ее силы и длительности, закон расы. Мы вряд ли пой-мем ее первенство после того, как физиология приучила нас к концепциям жизни нервов. Как показал Габриэль Оди-зьоA, поэты утратили верность изначальности субстанци-альных грез и пользуются образами крови вкривь и вкось. Но у алхимических образов иная мерка!2
Что же касается растительной жизни, которая столь ча-сто истощается или преснеет благодаря излиянию водного начала, - жизни почти всегда без сил и без ресурсов, то в своей царице, в лозе, она все-таки находит откровение тво-рящей жидкости.
Сколько поэтов, считая что они живут только в мире метафор, воспевали вино как растительную кровь! Алхи-мия говорит иным тоном. Именно здесь правдивая метафо-ра демонстрирует все свои способности к заключению сде-лок. Так, с равным успехом говорят: ' вино есть кровь лозы'
А Одизьо, Габриэль (1900-1978) - франц. поэт, романист и эссеист. Один из инициаторов движения в защиту средиземноморской культуры в Алжире в период между двумя мировыми войнами.
2 Audisio G. Le Goût du Sang... (Cahiers du Sud. Février, 1943).
304
и 'кровь - это животное вино'. И в роли естественного посредника между окраинными царствами, между распола-гающимися по краям благороднейшими жидкостями, меж-ду питьевым золотом и кровью выступает вино. ' Квинтэс-сенция, - утверждает одна старая книга, - охотно присо-единяется к другой квинтэссенции. Золоту, представляю-щему собой сию металлическую квинтэссенцию, потребны повозка или медиум, чтобы сочетаться с растительной во-дой жизни, а через эту последнюю - и с человеком; ибо если между золотом и вином наличествует большое рассто-яние, то между золотом и человеком оно еще больше, од-нако оно мало между вином и человеком, так как вино не-обходимо для поддержания его жизни. Стало быть, необхо-димо, чтобы золото сочеталось с животной природой фи-лософическими путями и благодаря духу вина, который делает его универсальным... ибо какую бы внешность ни принимало наиболее компактное тело (золото)... оно мо-жет служить восстановлению и сохранению сил слабейше-го из созданий'3.
Выходит, что искусство адептов, занимавшихся поиска-ми молодости упомянутыми путями царицы растительного мира, доверяясь из ряда вон выходящей универсальности вина, его вселенской силе и космической функции, состоит в соединении золота с вином. И еще: разве мы забудем, что для алхимика солнце - это золото Небосвода в наиболее выразительном смысле этого слова? Такое солнечное золо-то, относящееся к более тонкой стихии, чем земное, пото-ками струится по зреющим гроздьям! Лоза представляет собой магнит. Она притягивает солнечное золото, она со-блазняет астральное золото алхимическим браком. Разве она не наставляет алхимика в искусстве превращать вино в магнит для земного золота? Здесь мы попали в самое средоточие материального образа, привлекающего всех пчел метафоры.
3 Le Crom. Vade-mecum philosophique... en faveur des Enfants de la Science. Paris, 1718, p. 88.
305
Впрочем, сколькими тайнами еще окружено вино ал-химиков! И, прежде всего, вот величайшая и бездонная тайна: откуда у вина может быть столько цветов? Поче-му оно бывает красным или же золотистым? Как оно может быть отмечено именно знаком золота или знаком крови? У величайшей из трансмутаций, у трансмутации старого золота в человеческую молодость поистине два полюса.
IV
Итак, в эпоху Алхимии метафоры были неотделимы от трансмутаций. А психологический опыт дублировал опыт алхимический. Алхимическая мысль доказывает нам обра-тимость метафор. Белое вино - это питьевое золото. Крас-ное вино - своего рода кровь. Это уже не образы, а виды космического опыта. Когда алхимик ищет квинтэссенцию минерала, он прислушивается к наставлениям природы, по-дарившей нам вместе с вином квинтэссенцию раститель-ного мира. Чтобы убедиться в этом, перечитаем следующий фрагмент из 'Руководства' Ле Крома (р. 23):
'Тимаген: Скажите мне, пожалуйста, какое из рас-тений дает наилучшую квинтэссенцию?
АристиппA: Лоза, будучи Царицей лекарственных растений, представляет нам эту квинтэссенцию в своем вине, в превосходнейшей из жидкостей, и квинтэссенция эта при-спосабливается к нашему темпераменту лучше, чем квин-тэссенции других растений, потому что она соответствует нашему естественному теплу и удерживает мало свойств земли: приготовленная как следует, именно в силу этих качеств она способна исцелять все болезни человека, а также увеличивать его тепло. Универсальная, она разогре-вает темперамент влажный и холодный и освежает горя-чий и сухой.'
А Аристипп Киренский (ок. 430-ок. 355 до н.э.) - др.-греч. философ, основатель Киренской школы. Ученик Сократа; автор 25 диалогов, ни один из которых не сохранился.
306
Продолжая диалог, Аристипп сначала упоминает моло-дость вина, а затем незаметно переходит к спагирическойА панацее. Хорошее доказательство непрерывности образов материи! То, что вино и разогревает, и утоляет жажду, то, что ему присущи всевозможные противоположные свой-ства, как раз и возводило его на уровень архетипа панацеи в эпоху, когда наиболее непреложным признаком здоровья считалось умеренное тепло. Но, возможно, существуют и более тонкие противоположности, возбуждающие более хвастливые виды диалектики, без конца обменивающиеся своими ценностями. Что же касается нас, то мы с восхище-нием обнаруживаем в своем бокале диалектику изысканного и укрепляющего. Перед лицом такого противоречия мы об-ретаем уверенность в том, что нам принадлежит великое богатство земли, субстанция естественная и глубинная, один из архетипов мира материи!
V
Да-да, субстанциям свойственны первичные типы со-вершенно так же, как и формы. Вино - субстанциальный архетип мира материи. Оно может быть великим или ма-лым, грубым или деликатным, крепким или легким, но не-пременный его признак - чистота. Как сказал один алхи-мик, лоза оставляет в земле ' проклятые мерзости'. Если в пылу своего бурления вину удается увлечь за собой ' мно-гое множество' (la multitude du moult), то оно уносит в свою субстанцию принцип собственного очищения. В бродиль-ном чане из венозного оно становится артериальным, про-зрачным, живым, текучим, готовым омолодить сердце че-ловека. Поистине это иерархически устроенная субстанция, уверенная в собственной целебности!
Как они зависят от нашего языка - эти субстанциаль-ные образы, эти чисто материальные образы субстанции!
А Спагирический - у Парацельса: имеющий отношение к спагирии, искусству совершенствования тела с помощью преображения нечистого в чистое.
307
Как необходимы нам эти первозданные субстанции, чтобы говорить, чтобы петь; чтобы мы понимали друг друга и друг с другом объединялись! Как раз о таких архетипах материи грезит Милош, раздумывая над ' некоторыми существен-ными словами':
Tels que pain, sel, sang, soleil, terre, eau, lumière,
ténèbres, ainsi que tous les noms des métaux.
Car ces noms ne sont ni les frères, ni les fils,
mais bien les pères des objets sensibles.
(Такими, как хлеб, соль, кровь, солнце, земля, вода, свет,
сумерки, как и над всеми именами металлов.
Ибо эти имена - не братья и не сыновья,
а именно отцы ощутимых объектов.)
(Cantique de la Connaissance.)
Вот вина-то и недостает в стихотворении литовского поэта, в списке материальных архетипов и их материнских субстанций. Впрочем, в разных языках земля имеет разные месторождения слов. Вино не может быть одним из основ-ных слов в снежном краю. Не может быть ничего более локального, ничего более диалектного, нежели имена и сущ-ности вин. На южном побережье, где виноград наливается тяжестью, красное вино буквально окаймляет Средиземное море, великую срединную империю дионисийского царства. Раздавленные классической культурой, мы забываем о ди-онисийстве живучести, о дионисийстве белого вина; мы не грезим о винах более индивидуальных, о винах, характери-зующих каждый пригорок.
Между тем, алхимическая медицина умела объединять универсальное с частным, узнавать космическое вино в вине индивидуализованном. Зачастую она рекомендовала при-вести в соответствие вина и органы тела; цвет вина с точ-ными реакциями на него определял диагноз. Гамма белых вин пробуждала столько органических тонкостей!
А кто воспоет нам, к примеру, соотношение вин между со-бой, их нежность и коварство, вина, что дразнят нас, любя, -
308
о вино моей земли! Вино, объединяющее провинции и в сладком географическом упоении становящееся притоком реки 06a и притоком Луары... 'Вина Бар-сюр-ОбаА очень близки по цвету, вкусу и благотворности к анжуйским... Здесь бывают вина легкие и крепкие, тонкие, изысканные, лакомые и со вкусом, весьма приятным нёбу и отдающим малиной'4. Сколько же раз Лоза, эта царица лекарственных растений, пропитывалась ароматом одной из своих нежных камеристок, например малины, или одного из своих гру-бых слуг, например кремня! Поистине вино - это универ-салия, которая умеет становиться особенной, во всяком слу-чае, если оно встречает философа, умеющего его пить.
Дижон, октябрь 1947 г.
А Об - приток Сены, протекающий через историческую область Шам-пань. На ней расположен город Бар-сюр-Об, родина Башляра.
4 Nicolas Abraham, sieur de la Framboisière. Le Gouvernement nécessaire à chacun pour vivre longuement en santé. Paris, 1668.
Башляр и психология. Б.М. Скуратов
Несколько соображений переводчика
Гастон Башляр является основателем психо-аналитического метода во французском ли-тературоведении и основоположником так называемой школы психокритики. О том, что он 'заложил основы со-временного структурного анализа литературного произве-дения' и 'занимался поисками композиционной доминан-ты литературного произведения на пути к его системному, целостному анализу', можно прочесть в любой истории современного французского литературоведения. Отсылаю читателя к учебнику 3. И. Хованской 'Анализ литератур-ного произведения в современной французской филоло-гии' (М., 1980), где на с. 50-59 подробно разобраны 'зас-луги и недочеты' Башляра как литературоведа. Однако в своей пенталогии Башляр ставил перед собой задачу не толь-ко раскрыть миф личности, характеризующий того или иного писателя, но и преподать уроки, которые может из-влечь для себя из литературных произведений человек, же-лающий разрешить свои насущные психологические про-блемы, стимулировать свое вдохновение, а то и попросту расслабиться.
Не случайно в книге 'Грезы о воздухе' целая глава по-священа психоаналитическим трудам швейцарского учено-го Робера Дезуайля, занимавшегося проблематикой 'сна наяву'. Интересно, что в следующей главе той же книги речь идет об 'асцензиональной' психике, служащей доми-нантой для произведений Ф. Ницше. По Башляру выходит,
310
что методику растормаживания психики, 'снятия с якоря' повседневности и обретения спокойствия высот можно с одинаковым успехом изучать, используя практику Дезуай-ля и читая произведения Ницше, например 'Так говорил Заратустра' и 'Дионисийские дифирамбы'. Наведенная греза вознесения - удел не только пациента психоанали-тика, но и читателя, обретающего свободное дыхание, ощу-щение полета или вдохновение. Одно из любимых выраже-ний Башляра - 'тонизирующее воздействие', и тонизиро-вать психику мы можем, например, читая о грандиозных видениях Данте или О. Милоша, - а можем и 'с другого конца', испытав воображаемое падение вместе с Эдгаром По или пройдя по лабиринту парижской канализации вме-сте с Виктором Гюго.
Башляр очень любит слово психоанализ и глагол psychanalyser и применяет их не только к творчеству, ска-жем, Гюйсманса или Шелли, но и к тому, что происходит с читателем, который прочел ту или иную целебную для него книгу. Причем в роли такого читателя выступает и сам Баш-ляр. В книге 'Земля и грезы о покое' немало страниц по-священо чердаку, где можно отыскать массу целебных для психики старинных книг. Башляр простирает понятие 'пси-хоанализ' в глубь веков, и порою кажется, что таких 'чер-дачных' авторов, как создатель классификации темпера-ментов в зависимости от стихий Лессий или химик Жоф-фруа, сформулировавший понятие аффинности, он считает предтечами психоанализа. В параллель к этому можно за-метить, что и К. Г. Юнг в докладе 'Парацельс как духовное явление' (1941) называет алхимию 'предшественницей со-временной психологии бессознательного' (см. Дух Мерку-рий. М., 1996, с. 163).
Иногда Башляр предлагает и собственные 'психотера-певтические' упражнения. Так, в главе 'Безмолвная декла-мация' из книги 'Грезы о воздухе' он описывает метод ритмизации дыхания и даже 'воссоединения с мировой душой' посредством произнесения слов vie (жизнь) на вдо-хе и bme (душа) на выдохе. Разумеется, все это пронизано
311
изрядной дозой самоиронии. И поэтому 'серьезный' чита-тель не поверит нашему философу, сказав, что очень уж несолидного союзника он себе выбрал - сказочника Шар-ля Нодье, чьи 'научные' идеи давно сданы в архив. А чита-тель 'несерьезный' поверит, займется гигиеной дыхания и, возможно, даже 'увеличит свою жизненную силу'. Так или иначе, это упражнение 'заслуживает уважения хотя бы за остроумие и веселый нрав' автора (слова самого Башляра о Шарле Нодье). Любопытно, что в той же главе 'Безмолв-ная декламация' цитируются аналогичные упражнения по мысленному чтению стихов, способствующие концентра-ции воли или обретению свободного дыхания, и предлага-ют эти упражнения П. Валери и П. Клодель (которые, ока-зывается, тоже могут выступать в роли психотерапевтов).
Классическими терминами психоанализа Башляр распо-ряжается весьма свободно. Приведу только один пример. В книге 'Вода и грезы' упоминается комплекс Навсикаи, на-званный культурным комплексом. Внимательный читатель сразу же сообразит, что культура и комплекс - вещи плохо сочетающиеся. Ведь комплекс - это констелляция психи-ческих предрасположенностей, запечатлеваемых от рожде-ния или возникающих в раннем детстве, тогда как культура - продукт инстанции Сверх-Я, вытесняющего или сублими-рующего эти комплексы. На это можно возразить, что уже во введении к 'Воде и грезам' Башляр говорит, что его интересует лишь та часть ствола психики, где культура ус-пела сделать свою прививку. Тот, кто не имеет ни опыта исследования неврозов, ни достаточной медицинской под-готовки, изучает бессознательное по книгам. Башляра же в данном случае интересуют бессознательные механизмы куль-туры, и именно комплексам культуры посвящена его книга 'Лотреамон'. Мимоходом замечу, что все это не имеет ни малейшего отношения к фрейдовской теме 'беспокойства в культуре'. С точки зрения Башляра, культура - это не какой-нибудь обсессивный невроз, а совокупность не столько знаний, сколько бессознательных привычек и ав-томатизмов, усваиваемых в семье, школе и университете.
312
Под культурой же не 'хаос шевелится', а развертывается деятельность психических сил динамического воображения материи - 'той, которая в нас и вне нас'.
В психоанализе, представителем которого выступает Башляр, привлекает отсутствие многих проблем, описан-ных А. Сосландом в книге 'Фундаментальная структура пси-хотерапевтического метода, или Как создать свою школу в психотерапии' (М., 1999). Например, там нет коллизий ни между психоаналитиком и пациентом, ни между самими психоаналитиками. Достаточно прочесть главу о харизма-тической личности в психоанализе, о том, что вождь любо-го психоаналитического направления должен обладать во-левыми или даже пророческими качествами, как у Лютера или Кальвина, Чингисхана или Наполеона, - как стано-вится ясно, до чего же далек от всего этого Башляр. Хариз-матическое влияние Фрейда как полубога, как известно, исходило из малейших деталей его внешности и театраль-но-ораторских жестов, способствовавших власти над паци-ентом и привлечению учеников. Отсюда - 'история, пол-ная свершений и завоеваний, борьбы и бунтов, заговоров и предательств в духе Плутарха', 'цитирование представите-лей своей школы и презрение к представителям других школ' (А. Сослали, с. 78-79). Недаром классическую раз-новидность психоанализа Башляр то и дело называет 'бру-тальной' и 'ужасной'.
Человек, обращающийся к изучению психоанализа, сразу же узнаёт о непримиримом конфликте между Фрейдом и Юнгом и немедленно сталкивается с дилеммой - кто из них харизматичнее. А может быть, А. Адлер, О. Ранк или еще кто-нибудь... В любой истории психоанализа можно прочесть и о том, что после разрыва с Фрейдом Юнг испы-тал тяжелое и длительное психическое расстройство - вплоть до суицидальной мании, а Фрейд - этот полубог - падал в обморок на лекциях (отсылаю читателя, например, к послесловию В. Зеленского к книге К. Г. Юнга 'Психо-логические типы', М. - СПб., 1995, а также к предисло-вию А. Руткевича к книге К. Г. Юнга 'Аналитическая пси-
313
хология. Прошлое и настоящее', М., 1997). Читатель, об-ратившийся к изучению истории психоанализа, сразу же узнаёт и о том, что фрейдисты обвиняли юнгианцев во всех смертных грехах - от соблазнения Юнгом своей русской студентки Сабины Шпильрейн (об этом - глава в книге А. Эткинда 'Эрос невозможного') до сотрудничества с нацизмом. В анналы психоанализа занесена и переписка Фрейда с Юнгом, в которой 'Фрейд призывал Юнга при-нять учение о сексуальности как укрепление против чер-ной ямы оккультизма', на что Юнг отвечал, что 'религия может быть заменена только религией' (цитируется по пре-дисловию А. Руткевича, с. 18). А в автобиографии 'Воспо-минания, сновидения, размышления' Юнг пишет: 'Оккуль-тизм - это как раз то, что меня интересует' (Львов - Мос-ква, 1998).
Не чувствуя себя достаточно компетентным для вынесе-ния каких-либо оценок, отмечу только, что все эти исто-рии вошли в 'основной научный миф' психоанализа. Между тем Башляр тоже психоаналитик, но для него, кажется, не существует здесь вопроса 'или - или'. Он свободно цити-рует представителей всех направлений психоанализа и во-обще все новинки психологии. (То есть вполне возможно, что в обыденной жизни Башляр был человеком неуживчи-вым, но это не попало в его 'личностный миф'. Как изве-стно, вздорностью и истеричностью характера отличался Руссо, но в истории и в литературе он остался как 'одино-кий мечтатель'.) Образ автора в пенталогии Башляра та-ков, что если для него и существует какая-нибудь 'воля к власти', то она не имеет ничего общего ни с ницшеанской, ни с адлеровской. Эта власть - над миром грез. А читатель волен принимать это или не принимать в зависимости от собственного склада души или даже сиюминутного настро-ения.
'Основной проводник юнгианских идей во Франции' (3. И. Хованская), Башляр в своей пенталогии весьма часто использует идеи ортодоксальных фрейдистов. Так, в книге 'Вода и грезы' глава, посвященная Эдгару По, основана на
314
психоаналитическом труде правоверной фрейдистки прин-цессы Мари Бонапарт. Эта глава фактически представляет собой блестящую литературную обработку труда М. Бона-парт, хотя какой-нибудь психоаналитик, 'прошедший ини-циацию', может утверждать, что все выводы Башляра о том, что вода у Э. По замещает кровь, - не более чем игра ума, не имеющая отношения к лечебной практике. Но это ведь не мешает читателю 'поверить Башляру на слово' и поду-мать о вытесненных воспоминаниях собственного детства и об особенностях собственного бессознательного! Цити-рует Башляр и других ортодоксальных фрейдистов, напри-мер К. Абрахама в книге 'Земля и грезы воли' (в связи с так называемой анальной фиксацией, которой специально занимался К. Абрахам).
В пенталогии находится место и для гештальтпсихоло-гии и детской психологии Курта Коффки (в книге 'Вода и грезы', где идеи Коффки поставлены в связь с бергсо-новским анагенезом). Следуя Коффке, Башляр (правда, на-половину в шутку) сравнивает детей, играющих на морс-ком берегу, с молодыми бобрами, усматривая в этих играх 'побуждения некоего общезначимого инстинкта'. К тому же разряду относится и сравнение детей с первобытными людьми, жившими в озерную эпоху.
По мере продвижения к концу пенталогии Башляр все чаще обращается к Dasein-анализу Л. Бинсвангера. Так, в книге 'Земля и грезы о покое' значительная часть одной из глав отведена бинсвангеровским Umwelt'у, Mitwelt'у и Eigenwelt 'у (именно об этих 'мирах' пишет каждый иссле-дователь вклада Бинсвангера в психологию, но Башляр ори-гинальным образом сочетает их с собственной психологией поэтического воображения). Dasein-анализ, по Башляру, дает средства освобождения психики с точки зрения этих трех миров и позволяет провести разграничения между тре-мя видами поэзии, соответствующими каждому миру. За-бегая вперед, скажу, что идеи Бинсвангера послужили для Башляра одним из мостиков от психоаналитического пери-ода к феноменологическому. Уже в дилогии о земле ощу-
315
тим переход от проблем стихий к проблемам 'локусов', например жилища, пещеры или грота; уже здесь цитируют-ся работы феноменологов, например Мерло-Понти и Сар-тра (кстати сказать, насколько далек Башляр от их непри-миримой борьбы!). Зато в феноменологической работе Баш-ляра 'Поэтика пространства' мы встретим ссылку лишь на одного феноменолога, а именно на Э. Минковского, а пси-хоанализ в 'Поэтике пространства' играет не меньшую роль, чем в пенталогии стихий. В этой книге господство Юнга ощущается еще сильнее, чем в двух книгах о земле...
В последней части пенталогии есть упоминания и о пси-хо- и социодраме американского психолога Дж. Л. Море-но. Интересно, что Башляр тут же изобретает собственную 'териодраму', или 'зверодраму', с помощью которой он предлагает читателю вжиться в скульптурные изображения Лаокоона и в эссе о Лаокооне, написанное Пьейром де Мандьяргом. Дело в том, что в скульптурной группе Лао-коона со змеями Башляр усматривает весьма важный архе-тип 'змеи, которая в нас'. На это 'эзотерический' психо-аналитик, возможно, скажет, что психодрама и социодрама - дело серьезное, а 'териодрама' ни к чему не обязывает, а то и выдумана 'по ходу чтения'. Между тем читатель мо-жет проникнуться блеском башляровских интуиций и даже ощутить на себе их целебное воздействие. Кстати, далеко не всех психологов Башляр цитирует ради таких переина-чиваний ad hoc и cum grano salis. В обеих частях, посвя-щенных земле, есть несколько 'вполне научных' упомина-ний детской психологии Ж. Пиаже. Есть и совершенно нео-жиданная ссылка на Ж. Лакана (который в те годы был малоизвестен и еще не прочел своих создавших эпоху лек-ций).
Наконец, следует затронуть тему сходств и различий между аналитической психологией Юнга и ее преломлени-ем у Башляра. Как известно, Юнг разработал весьма де-тальную классификацию психологических типов по самым разнообразным параметрам. В частности, он неоднократно обращался к классификации темпераментов по стихиям и
316
наиболее отчетливо написал об этом в статьях 'Психологи-ческие типы' (1923) и 'Психологическая типология' (1936) (см. Юнг К. Психологические типы, с. 608-624 и 644-661). Если в первой статье классификацию душ по стихиям ав-тор возводит к врачам Галену и Гиппократу, то во второй - к древнегреческому философу Эмпедоклу. Интересно, дал ли Юнг непосредственный толчок к написанию башля-ровской пенталогии? Прямых ссылок на это вроде бы нет; Башляр в основном ссылается на написанный в 1912 году трактат Юнга 'Метаморфозы и символы либидо', на книгу Юнга 'Психология и алхимия', а также на статьи 40-х го-дов о Парацельсе (см. Дух Меркурий. М., 1996, с. 71-199). С одной стороны, 'Психоанализ огня' появляется ровно через год после 'Психологической типологии', с другой же, первая часть пенталогии почти не содержит психоло-гических сведений, а посвящена преимущественно срав-нению донаучного мышления с научным, причем дона-учное изобличается как явный вздор. И лишь в 'Воде и грезах' центр тяжести смещается с науковедения на пси-хологию. Так что прямого импульса от Юнга ко всей пен-талогии, по-видимому, не было. Зато три последние час-ти пенталогии имеют самое непосредственное отноше-ние к юнговской 'Парацельсике' и развивают основные ее положения.
По-видимому, Башляру пришлись бы по вкусу ранние идеи Юнга о происхождении комплексов и даже шизофре-нии от выработки мозгом соответствующих токсинов (в исследовании 'Психология dementia praecox', 1907). Эта психосоматическая теория шизофрении сродни башляров-ским рассуждениям о всесилии материи. Вот уж где дей-ствительно задействовано материальное воображение! Но если Башляр сохранил 'бюхнеровско-молешоттовское' пре-клонение перед материей на всю жизнь, то воззрения Юнга с течением времени приобретали все большую спиритуали-зацию, и в конце жизни Юнг, по свидетельствам современ-ников, верил скорее в привидения, населяющие его дом, нежели в непреложность материи.
317
И Башляр, и Юнг часто обращаются к Сведенборгу, но если первый считает, что Сведенборг проецирует собствен-ное бессознательное на материальные образы, глубины своей души на мир, то второй ищет в прозрениях Сведенборга, так сказать, высшую правду. Возьмем случай, когда Све-денборг, находясь за много километров от Стокгольма, уви-дел полыхавший в Стокгольме пожар. Как пишет В. Зелен-ский в послесловии к 'Психологическим типам': 'По мне-нию Юнга, определенные изменения в состоянии психики Сведенборга дали ему временный доступ к 'абсолютному знанию' - к области, где преодолеваются границы време-ни и пространства' (Психологические типы, с. 679). У Баш-ляра такие рассуждения совершенно немыслимы. Просве-щенческий пафос науковеда заставляет его считать архаи-ческие явления психики всего лишь архаическими (хотя порою прекрасными) и ничего не дающими для познания мира. Не случайно, преклоняясь перед О. Милошем, как перед поэтом и духовидцем, Башляр не берется рассуждать о более сложном трактате Милоша 'Расшифрованный Апо-калипсис', а только приводит образы из милошевских драм. В образах Милоша Башляр видит лишь спроецированное бессознательное, но не усматривает познавательной цен-ности. Кстати, столь же характерно, что Башляр не замеча-ет качественной разницы между действительно гениальны-ми страницами из 'Котика Летаева' А. Белого, где описы-вается первое пробуждение сознания у ребенка, и условно-романтическими горными пейзажами из того же романа, списанными у эпигонов Ницше. В данном случае Башляру не хватает психологической прозорливости, чтобы отличить подлинное переживание от стилизации (хотя, может быть, виною тому плохой французский перевод А. Белого).
Башляра и Юнга можно сравнивать и по линии алхи-мии. Возьмем, например, замысловатую работу Юнга 'Ин-дивидуальный символизм сновидения в отношении к алхи-мии' (Юнг К.Г. Сознание и бессознательное. СПб. - М., 1997, с. 336-473). В результате сложнейшего анализа более чем 50 конкретных сновидений Юнг приходит к выводу,
318
что 'архетипы коллективного бессознательного находятся за пределами индивидуального рождения и смерти'. Он пишет о 'непропорциональности между таинством суще-ствования и человеческим пониманием' и о неразличении 'смысла' и 'бессмыслицы', ибо это всего лишь ориентиры в практической деятельности. Башляра же в связи с алхи-мией занимают гораздо более конкретные проблемы по-этического творчества. Например, в конце 'Грез о воздухе' он говорит об алхимических процессах дистилляции и суб-лимации как о сочетании двух разнонаправленных поры-вов, лежащих в основе творческого акта в поэзии, о диа-лектике черноты и белизны, чистого и нечистого. Упоми-нает он и парацельсовский confirmamentum ('сонебосвод'), делая вывод, что поэт уподобляет небосводу свою душу.
Столь же различны и представления Башляра и Юнга об архетипах. Так, у Юнга читаем: '...подлинная природа архетипа не может быть осознана, она трансцендентна'; 'всякая попытка объяснить архетип окажется не чем иным, как более или менее удачным переводом на какой-то дру-гой язык'; 'архетип пуст и чисто формален, [это] не что иное, как некая априорная возможность формопредставле-ния (Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления, Львов - Москва, с. 460-461). А в книге 'Ответ Иову' (М., 1998) мы находим место, где сказано, что архетипы - это живые субъекты, обладающие сознанием и свободой воли, а также указывающие на трансцендентные по отношению к нам реальности (с. 291-292). Что же касается Башляра, то он, как правило, избегает употребления термина архе-тип впрямую. В центре башляровских представлений о бес-сознательном располагаются не архетипы, a valeurs - цен-ности, или смыслы (возникающие до сознательного ос-мысления). Когда в пенталогии стихий заходит речь о том, отчего тот или иной образ оказывает на нас сильное воз-действие, это объясняется через процесс валоризации (на уровне индивидуального или коллективного бессознатель-ного); утрачивает же образ силу в результате девалориза-ции. Термин архетип Башляр употребляет преимуществен-
319
но в последней части пенталогии в связи с такими образа-ми, как пещера, змея и корень. (В пенталогии встречаются также animus и anima, но лишь там, где идет сплошная ци-тация Юнга.) В отличие от Юнга, для Башляра архетипы - отнюдь не то, что Борхес называл 'письменами Бога'; змея ('змея в нас') - это 'движущий символ стремительного проникновения в землю', а корень - 'вертикализующий архетип укорененности'. Башляровские архетипы не ука-зывают на трансцендентную реальность, а, по-видимому, в конечном счете имеют сексуальные истоки. Так, образы лабиринта, пещеры и грота восходят либо к материнскому лону, либо к воспоминаниям о пренатальной жизни, а ко-рень и змея - все-таки фаллические символы. (И это - несмотря на многочисленные протесты Башляра против фрейдовского пансексуализма.) Нетрудно проследить сек-суальный характер и у 'сил, присущих нашему духу, одни из которых устремляются ввысь, а другие - проникают в глубь материи' (Вода и грезы. Введение). Хотя надо повто-рить, что это всего лишь 'инстинкты души', не имеющие отношения к тому, что происходит в природе на самом деле. Истинный же судья всех этих процессов - преодолеваю-щий заблуждения воображения научный дух.
В заключение отмечу, что пространство башляровс-кой мысли весьма близко к тому, что Ж. Делез и Ф. Гватта-ри (Что такое философия. СПб., 1998) назвали 'планом имманенции'. Несмотря на все воображаемые взлеты и падения, мысль Башляра движется в однородных коорди-натах имманентности и не ведает разрывов, уводящих в трансцендентность. Значит, эта мысль (даже в пенталогии стихий) отвечает основному критерию, по которому Делез и Гваттари измеряют ценность философии. 'Хороший фи-лософ, - говорил один из предшественников материаль-ных интуиций Башляра, Парацельс, - это хороший врач, алхимик и астролог'. А хорошая философия дарует утеше-ние и уже тем самым врачует душу.
Научное издание
Башляр Гастон. ЗЕМЛЯ И ГРЕЗЫ О ПОКОЕ
Перевод с французского Б.М. Скуратова
Редактор Л. Б. Комиссарова
Художник О. Г. Платова
Ориинал-макет подготовлен СВ. Киселевой
Корректор Л. С. Горбенко
Сдано в набор 12.01.2001. Подписано в печать 24.04.2001
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная ? 1
Гарнитура "Таймс". Печать офсетная
Усл.-печ. л. 16,8. Тираж 5000 экз.
Заказ 73.
Издательство гуманитарной литературы
(лицензия ЛР ? 062452 от 24 апреля 1998 г.)
117049, Москва, Крымский вал, 8.
Типография ООО "Пандора-1", 107143, Москва, Открытое шоссе, 28.
Сканирование и форматирование: Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || yanko_slava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656 || Библиотека: http://yanko.lib.ru/gum.html ||
update 21.10.04